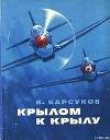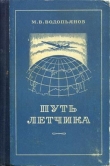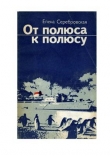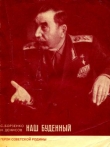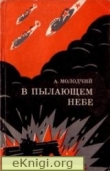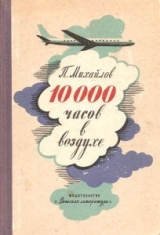
Текст книги "10000 часов в воздухе"
Автор книги: Павел Михайлов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– Господа, мы прибыли сюда отнюдь не для того, чтобы вносить дезорганизацию в ряды союзной авиации. Информация уважаемого полковника Ирвинга страдает, мягко выражаясь, неточностью…
Далее полковник Карпов кратко познакомил совещание с тем, как обстояло дело в действительности.
Среди присутствующих началось оживление: одни посмеивались, другие были искренне возмущены, в том числе и многие американские лётчики, поглядывающие весьма недружелюбно на своего незадачливого соотечественника.
– Мне кажется, – продолжал Карпов, – что советский капитан Шацкий, затеяв показательный бой в пилотажной зоне, руководствовался лишь одним желанием – показать своему американскому товарищу по оружию несколько простейших приемов. Знание этих приемов поможет пилоту в другой раз обойтись без посторонней помощи при встрече с вражескими истребителями…
Раздался дружный хохот. Карпов поднял руку.
– Ещё несколько слов, господа, – продолжал он. – Мне вообще непонятно: «Мустанг» имеет такое преимущество в мощности по сравнению с «ЯК-9», что он мог легко, набрав скорость, уйти от расшалившегося товарища. А раз он этого не сделал, следовательно, и сам не был против состязания.
На этот раз хохот в кабинете, казалось, сотрясал стены. Покатывались буквально все. На этом инцидент был исчерпан. Нужно отдать справедливость американскому командованию: рыжего Боба на другой же день отправили обратно в США.
Командир «Большого Дугласа»
Осенью 1944 года Народно-освободительная армия Югославии, действуя вместе с наступающими с запада советскими войсками, очищала от фашистских полчищ города, сёла и целые районы югославской земли.
Большую помощь югославским партизанам оказывала наша авиагруппа, базирующаяся в Бари. И наш самолёт часто летал к югославам, точно так же, как и машина моего старого тамбовского друга Володи Павлова. Выполняя иногда очень сложные задания, мы с Павловым делились при встречах опытом боевой работы, подробно рассказывали друг другу о многочисленных приключениях при полётах в тыл противника.
Я хочу вспомнить здесь об эпизоде, ярко характеризующем моего приятеля. Павлов летел на выручку одного из кораблей нашего подразделения. Командир этой машины Трофимов совершил неудачную посадку ночью в расположении партизанского отряда. Партизаны и явились невольными виновниками поломки его самолёта: площадка была очень маленькой, а посадочные знаки выложены неправильно.
Павлову приказали срочно доставить техников к месту аварии, отремонтировать шасси у поврежденного самолёта. Дорог был каждый час. Хотя днем самолёт тщательно маскировали кустарником, нельзя было ручаться, что гитлеровская авиация не обнаружит его. А возможно, случилось бы и худшее – партизаны под напором противника могли оставить свою площадку. Тогда аварийный самолёт пришлось бы уничтожить, чтобы он не достался врагу.
Метеорологическая обстановка в этот день была довольно сложной. Только зная настойчивость, находчивость и мужество Павлова, командование могло направить его в такую погоду на выручку потерпевшего аварию пилота.
Слоисто-кучевые облака обволакивали горные вершины Балкан, образуя под самолётом сплошной белый ковёр, непроницаемый и безбрежный. По склонам гор облака медленно стекали в долины. Изрядно побалтывало.
Позже нам рассказывали, что в то время, как Павлов был уже в воздухе, в союзническом клубе «Империал» шли шумные споры: полетят ли русские в такую погоду на выручку своего товарища или нет? Заключено было даже пари на три бутылки виски. В момент, когда спорящие ударили по рукам, в клуб вбежал американский офицер связи.
– Русский пилот в воздухе! – воскликнул он, едва успев перешагнуть порог.
– Три бутылки виски! – обрадованно крикнул буфетчику выигравший пари.
– В такую погоду могут летать только русские или сумасшедшие! – сокрушённо заметил проигравший и вынул деньги для уплаты за виски.
А Павлов в это время уже приближался к цели – к той трудной площадке, на которой недавно потерпел аварию пилот нашей группы.
Володя не сомневался, что благодаря присутствию Трофимова ошибки на этот раз не произойдёт – посадочные знаки будут разложены правильно. Так оно и вышло. Несмотря на все трудности полёта, Павлов строго по расчёту времени вышел на цель, пробил облачность и совершил мастерскую посадку на партизанской площадке.
Радости аварийного экипажа не было конца. Из-за непогоды лётчики почти не надеялись, что в этот день к ним прилетят на помощь, в то же время они не знали, что им предпринять в случае тревоги: сжечь поврежденный самолёт и уйти с партизанами в горы или принять бой и отстаивать до последнего машину.
Дружеские рукопожатия, объятия, крики радости. Трофимовны воспрянули духом. Тем временем техники приступили к ремонту шасси. Расспросив у экипажа об обстановке на партизанской площадке, Павлов узнал, что здесь находятся и несколько американских лётчиков. Тяжёлые боевые корабли американцев возвращались после бомбардировки Вены, и часть из них была сбита противником.
Вскоре к Володе подошел старший из американских офицеров.
– О'кэй, – сказал он, пожимая советскому пилоту руку, – вы совершили поистине блестящую посадку! Я, если бы сам этого не видел, никогда не поверил бы: сесть в такую погоду, ночью, на такой, с позволения сказать, аэродром! Непостижимо!..
Американский офицер передал просьбу своего командования взять на борт и доставить на базу в Бари экипажи пострадавших боевых кораблей. Павлова окружили американские лётчики: снова дружеские рукопожатия, поздравления и неизменные возгласы: «О'кэй!»
Володя растерянно смотрел по сторонам.
– Сколько же вас всего? – спросил он у старшего американского офицера.
– Тридцать два человека.
Володя насупился:
– Но ведь на «Дугласе» моём только двадцать одно пассажирское место!
Американец развел руками.
– Мы знаем это, – заметил он. – Как только вы произвели посадку, мы организовали жеребьёвку и отобрали норму пассажиров. Остальные подождут следующей оказии. Прилетят же когда-нибудь и наши сюда, не век же будет держаться такая плохая погода! – добавил он, глубоко вздохнув.
Павлов добродушно и успокаивающе похлопал его по плечу:
– Конечно, прилетят. – А про себя подумал: «Прилетят? Чёрта с два! В такую погоду они не летают: облачность сплошная…»
Быстро заканчивалась разгрузка самолёта. Лица окруживших Павлова американских пилотов ясно выражали их чувства: вытащившие счастливый жребий были веселы и оживлённы, остальные грустны и подавленны.
Павлову стало жаль своих боевых друзей: у многих в Бари жёны с детьми, волнуются, ждут. И что за глупый принцип – жеребьёвка! Случись это у нас, у советских людей, отбор был бы совсем иным: в первую очередь эвакуировали бы раненых, больных.
Советский пилот заметил среди американцев и хромых, очевидно натёрших ноги, и одного пилота с забинтованным глазом… Как же быть всё-таки? Всем им хочется поскорее домой, все этого одинаково заслужили.
Павлову припомнилось, как, летая в партизанские тылы на советской земле, он брал на борт подчас и по тридцать раненых бойцов на таком же «Дугласе». Но там не было гор. И потом там этот риск вызывался крайней необходимостью. А здесь?
Второй пилот прервал раздумья своего командира:
– Разрешите принять на борт пассажиров? Машина разгружена, к полёту готовы.
Павлов молча кивнул головой. Он оглянулся на самолёт, чтобы проверить, как идёт погрузка. «Счастливчики» уже заняли свои места. Механик готовился прогревать моторы перед взлётом. «Несчастливчики» столпились у трапа, дружески напутствуя товарищей. При этом выражение их лиц оставалось грустным.
Тогда Павлов решился. Он сделал широкий пригласительный жест, предлагая и остальным американцам последовать на посадку. Те не заставили себя упрашивать – мигом разместились в пассажирской кабине.
Проходя через кабину, Павлов невольно усмехнулся: «Как сельди в бочке!»
Старший из американских офицеров, будто угадав мысли пилота, спросил:
– Неужели мы все полетим? Ведь в «Дугласе» всего двадцать одно место! Фирма гарантирует только такое число пассажиров… – Он показал на пальцах. – Можем разбиться! – Он опустил обе вытянутые руки книзу.
Павлов дружески похлопал его по плечу.
– О'кэй! – успокоил он американца и пошёл к штурвалу.
Штурман, находившийся в момент взлета в пассажирской кабине, позднее рассказывал:
– Прильнули все наши пассажиры носами к стеклам, глядят в ночь. Сами лётчики – знают, что машина против паспорта с гарантией фирмы перегружена в полтора раза. Вцепились руками в сиденья, как стали мы отрываться, ждут: что-то будет? Площадка-то с воробьиный нос, да и горы кругом. А лететь домой всем хочется…
Павлов уверенно на безопасной скорости поднял машину в воздух, заложил одновременно с набором высоты крутой, «тарановский», вираж, развернулся и лёг на курс. Знай Володя английский язык, он мог бы рассказать своим многочисленным пассажирам, что советские пилоты не в первый раз «выжимают» из попавших под их управление иностранных самолётов гораздо больше, чем написано в фирменной гарантии.
А пассажиры, когда перегруженная машина повисла в воздухе, только молча переглянулись. Старший же офицер в недоумении пожал плечами: всё обошлось благополучно, оторвались и не упали, не врезались при абсолютной темноте в склон горы…
Самолёт, продолжая набирать высоту, вошёл в облака. Исчезли горы, земля, партизанские костры в долине. На высоте три тысячи метров машина вынырнула из липкой мглы, очутившись под звёздным небом Адриатики. Связь с базой вскоре была установлена, и в Бари уже знали, что на борту корабля находятся американские пилоты. Немного погодя показались огни порта.
На этот раз на аэродроме собралось народу, как в дни торжества. Среди встречающих были жёны и дети спасённых американских пилотов, пришло и начальство – наше и американское. Несмотря на усталость (мы только что вернулись с боевого задания из Словении), я также поспешил к месту сбора.
Распахнул радист дверь, и по трапу из кабины один за другим стали спускаться пассажиры. Сколько же их? Я и счет потерял. Вокруг поцелуи, объятия, слёзы радости. Ведь их всех уже считали пропавшими без вести.
Американские лётчики с особым чувством пожимают руки членам спасшего их советского экипажа.
Стоявший рядом со мной штабной американский офицер, подозвав переводчика, обратился ко мне:
– Не пойму, как будто бы «Дуглас», а между тем тридцать два пассажира! Это что же, новая модель – «Большой Дуглас»?
– Нет, – рассмеялся я, – «Дуглас» обыкновенный. Вот что касается пилота, то он, пожалуй, особенный!..
Протискиваясь сквозь толпу, навстречу мне уже пробирается Володя – он только вырвался из чьих-то объятий. Мы поздравили друг друга с успешным выполнением задания и, как всегда, поделились деталями полёта.
Крылатое слово «Большой Дуглас», видимо, облетело всю многочисленную колонию союзнической авиации. На следующий день рано утром к нам явилась женская делегация. Спрашивали они не «русского начальника», как прежде, а «командира «Большого Дугласа». Им сказали, что «Дугласы» у нас все одинаковые, отличаются они только по номеру на хвостовом оперении. Но женщины стояли на своём:
– Как – все одинаковые? Один из ваших «Дугласов» большой – он берёт тридцать два пассажира…
Тогда мы поняли, в чём дело.
Володя сперва не хотел выходить, мы его насильно вытолкнули к пришедшим. Оказывается, ему принесли благодарственный адрес от семей спасённых им американских лётчиков.
Прозвище «Большой Дуглас» сохранилось за Павловым надолго. Даже итальянские мальчишки, встречая Володю на улице, поднимали кверху палец и звонко приветствовали его по-английски:
– «Биг Дуглас» пайлот! (Пилот «Большого Дугласа»!)
Мы все были рады успеху нашего товарища. Он совершил до этого немало подвигов, но последний имел особое значение: он укреплял боевое содружество между нами и союзниками, которое было особенно необходимо для победы над врагом.
Доставка шифра
Бороздя по ночам воздушные просторы над Балканами, я стал замечать, как всё отчетливее выделяется подо мной цепочка тусклых огоньков, которые зигзагами извивались между горными склонами.
Внимательно приглядевшись к карте, я убедился, что замеченная мной линия соответствует магистрали, идущей через города Скопле – Лесковац – Ниш на север Югославии. Это был единственный путь, по которому фашисты могли эвакуировать свои войска вместе с техникой из Греции на север, поближе к Австрии.
Так оно и оказалось на самом деле. Теснимые с запада советскими войсками, беспрестанно тревожимые действиями местных партизан, фашисты поспешно очищали греческую территорию. Бросив против югославских партизан дивизии карателей, фашисты были убеждены, что эвакуация Греции сможет быть осуществлена без значительных потерь. В действительности получилось иначе. Партизанские соединения ушли узкими звериными тропками в глубь горных ущелий, продолжая наносить оттуда сокрушительные удары по врагу.
Но, непрерывно маневрируя, партизаны потеряли обжитые посадочные площадки для приёмки самолётов и тем самым утратили единственную возможность получать с воздуха подкрепление. Все остальные пути противник блокировал. Боеприпасы были на исходе, кончились и продовольственные резервы; бойцы питались травами, ягодами, диким чесноком. Приостановилась эвакуация раненых и больных, которая тоже осуществлялась по воздуху. В то же время большое скопление небоеспособных людей сковывало манёвренность партизанских отрядов. Вдобавок, приключилась ещё одна беда: фашисты перехватили шифр, с помощью которого окружённые партизаны сносились по радио со штабом. Югославским бойцам грозила гибель. С большим трудом партизанский штаб сообщил, что соединению удалось подготовить кое-какую посадочную площадку, расположенную на околице села Мирошевцы, километрах в двадцати от города Лесковац. Находилась она между горами, в долине пересохшей, не обозначенной на карте речушки. Собственно говоря, это был всего-навсего «пятачок», наскоро спланированный партизанами. Длина площадки была не более семисот метров и почти не имела подступов: со всех сторон её окружали горные отроги высотой до пятисот метров. И всё же ничего другого для приёма наших тяжёлых транспортных самолётов придумать было невозможно.
А время не ждало. Прежде всего необходимо было вручить новый шифр, который сбрасывать нельзя, высадить небольшое офицерское пополнение, погрузить на борт раненых и больных, в том числе двух английских офицеров, прикомандированных к главному штабу сербских партизан. Эти британские представители уже несколько раз вызывали свои самолёты, но те прилетали, находили цель, кружились над нею, садиться же не рисковали – уж очень жуткой выглядела эта площадка с воздуха.
Советские пилоты к этому времени уже прослыли мастерами посадок «на пятачок», поэтому выполнение этого чрезвычайно трудного задания и было возложено на наше авиаподразделение. Выбор командования пал на два экипажа: мой и Езерского.
Первый вылетел я, за мною – Езерский. Мы разработали совместный план. Так как часть наших грузов могла быть пущена на сброс, мы дополнительно наметили себе километрах в сорока от Мирошевцев промежуточную цель, над которой и сбросили затем всё, что было можно. А уж на облегчённых самолётах направились к месту посадки.
Только я собрался садиться, как передо мной внезапно возник самолёт. «Эге, – подумал я, – видимо, Дима Езерский успел меня опередить». Так и есть, он сел первым!
Я повёл машину на посадку. Свет включённых фар вырвал из окружающего мрака одинокое дерево, будто сторожащее границы огородов. Если бы не фары, я неминуемо налетел бы на него. Самолёт взмыл кверху, преодолевая препятствие. Вот она, граница площадки. Машина на малой скорости коснулась грунта и запрыгала по его неровностям. Я вздохнул с облегчением, полагая, что всё обошлось благополучно, как вдруг в свете фар прямо передо мной обрисовалась зубчатая линия частокола. Я изо всех сил нажал на тормозные педали – скорость пробега уменьшилась, но самолёт продолжал катиться вперёд…
Молниеносно пронеслись в сознании все прежние посадки в сложных условиях. Вспомнил эпизод из своей инструкторской работы, когда мой ученик вместе со мной на самолёте «ПО-2» чуть не скатился в овраг. Я расконтрил, то есть освободил, хвостовое колесо, чтобы оно свободно могло вращаться вправо и влево, резко нажал левый тормоз, выкрутил штурвал, и самолёт медленно развернулся в двух шагах от проклятого частокола, в то время как конец правой плоскости описал дугу всего лишь в нескольких метрах от выступа крыши невысокого строения.
Оба самолёта мгновенно оказались окружёнными толпой восторженно приветствующих людей: они впервые видели красные звезды на плоскостях самолёта.
Командир отряда, счастливый и взволнованный, был доволен больше всех: ведь он беспокоился не только за себя – ему были вверены жизни многих людей.
Искренне были обрадованы и британские офицеры. Один из них откровенно заявил:
– Непонятно, что медлило наше командование? Давно надо было русских сюда направить. Наши прилетали, кружились, вертелись, и всё без толку… А про вас говорят, что вы чуть ли не на макушках скал садитесь.
Толпа окружила нас так плотно, что я с трудом протиснулся сквозь человеческое кольцо.
Разыскав представителя штаба, я вручил ему бесценный конверт с пятью сургучными печатями, в котором находился новый шифр.
Сербские партизаны, находящиеся в кольце врагов, изнурённые недоеданием и утомительными переходами по горным тропам, забрасывали нас самыми разнообразными вопросами. Хотелось задушевно побеседовать с этими мужественными и непреклонными людьми, но медлить было нельзя: ближайший немецкий гарнизон стоял всего в каких-нибудь пятнадцати километрах отсюда; наблюдательные пункты гитлеровцев, несомненно, заметили, как мы заходили на посадку, с минуты на минуту сюда могли нагрянуть танки…
Погрузив раненых и забрав на борт обоих английских офицеров, мы поспешно распрощались с новыми друзьями. Вследствие ограниченности площадки мы с Езерским решили взлёт производить в направлении, противоположном посадке. Для этого мы поочерёдно зарулили на самую окраину села так, что хвост самолёта встал между двумя крайними домами деревушки.
Моторы заработали на форсированном режиме, пыльный шлейф пронёсся по единственной деревенской улице и заволок все дома. Через несколько часов мы благополучно добрались до своей базы.
Обоим нашим экипажам ещё трижды пришлось побывать на этой точке. Мы летали сюда до тех пор, пока не вывезли раненых и не снабдили подразделение сербских партизан всем необходимым.
Гитлеровцы обманулись в своих расчётах: вооружённые отряды сербских партизан снова стали боеспособными, а избранная фашистским командованием «безопасная» магистраль стала кладбищем для фашистских бандитов и их техники.
«Перепутанный» пароль
Как помнит читатель, в июле 1944 года мы высадили в горах Греции, на партизанской площадке, группу наших офицеров во главе с полковником Поповым. Тогда, расставаясь, я твёрдо обещал Попову прилететь снова. Наконец-то я получил долгожданный приказ: нашему экипажу поручили доставить группе полковника Попова письма, а также посылки с подарками к Октябрьским праздникам.
Мы хорошо помнили, что в первый прилёт из-за плохих подходов к партизанской точке нелегко было приземлиться. Поэтому ко второму полёту мы со штурманом готовились особенно тщательно.
На этот раз мы летели официально, не таясь от союзников. Нас уведомили, что посадочный сигнал будет десять огней в одну линию, что отзыв «Я свой!», подаваемый лампой через форточку фонаря пилотской кабины, должен соответствовать букве «Б» по азбуке Морзе, то есть тире и три точки.
Мы проложили на карте курс, произвели точный расчёт времени, ещё раз определили место нашего контрольного ориентира – озера Даукли, которое должно было хорошо просматриваться с воздуха даже в темноте. Вместе с нами полетел командир нашей авиаэскадрильи Герой Советского Союза Пётр Фёдорович Еромасов. Ему полагалось знать все точки, куда летали экипажи руководимого им подразделения. А кроме того, ему хотелось познакомиться с боевым бытом греческих партизан.
Теперь Еромасова, этого замечательного, бесстрашного лётчика, уже нет в живых.
До сегодняшнего дня храню я в письменном столе, среди прочих, дорогих сердцу реликвий Отечественной войны, старую, выцветшую от времени боевую листовку с портретом мужественного командира самолёта. Он в лётном шлеме, руки его держат штурвал, а взор устремлён вниз на раскрытые в беспокойном фронтовом небе купола парашютов.
Посреди листовки на красной ленте призыв: «Летать и разить врага, как Герой Советского Союза Еромасов!»
Ночь выдалась лунная, но всё время, пока мы пересекали Адриатическое море, под нами простиралась беспросветная мгла. Лишь вдалеке по временам вспыхивал дождь падающих звёзд – явление обычное для этого времени года в здешних местах. Вспомнилось, как во время первых полётов в партизанские тылы я принимал разрывы зениток за дождь метеоритов. На этот раз глаз не обманул меня, это был действительно великолепный фейерверк метеоритов, неповторимое по красоте зрелище!
Морские порты на Балканском побережье, несмотря на светомаскировку, пестрели множеством огней. Видимо, немцы спешно эвакуировались. Мы, следуя на высоте трёх тысяч метров, не опасались обстрела с земли, тем более, что фашистам в эти дни было не до нас.
Преодолевая километр за километром, мы незаметно очутились над материковой Грецией. Показалась береговая полоса её, изрезанная заливами и бухточками, неровный – местами низменный, местами холмистый, а в глубине материка гористый – ландшафт страны.
В серебристом лунном свете отчётливо вырисовывается бесконечное разнообразие местной флоры. Подножия гор, скрытых вечнозелёным миртом, заросли древовидного вереска, можжевельника. На высоте семисот – тысячи метров над уровнем моря кустарник чередуется с лиственными деревьями. На этой же высоте местные жители разводят фруктовые сады и виноградники. Выше поднимается новый растительный пояс, заросли кустарника, редкий лиственный и хвойный лес. Дальше тянутся широколиственные породы – дуб, бук, а также хвойные, преимущественно пихтовые деревья. На высоте около двух тысяч метров преобладает альпийская и субальпийская растительность: травы, низкорослые кустарники и полукустарники. Самые вершины гор часто лишены всякого растительного покрова, стоят совершенно обнажённые.
В этой горной стране партизаны чувствовали себя спокойнее – им была знакома каждая тропинка. Но переходы были тяжелы; затруднялось также снабжение оружием, продовольствием; нелегко было в горных условиях организовать связь, эвакуацию раненых и тяжелобольных. Только авиации было по плечу разрешить все эти задачи.
Присмотревшись к земле, освещённой луной, я безошибочно узнаю места, над которыми наш экипаж пролетал в июле. Ни с чем нельзя спутать этого густого скопления межгорных котловин с их дном, то ровным, то холмистым. Самолёт пересекает знакомую горную цепь, как бы охраняющую обширную равнину с уютно расположившимися на ней городами Триккала и Кардица.
А вот и другой бесспорный ориентир: под нами серебристой змейкой извивается между горами река Ахелоас.
Обменявшись мнением со штурманом, докладываю Еромасову:
– Мы над целью!
Начинаем виражить, посылая на землю световой пароль. Но затянутая голубоватым маревом котловина никак не отзывается.
По выражению лица командира эскадрильи догадываюсь, что он сомневается во мне.
– А ты не спутал, Михайлов? – спрашивает он. – Тут, пожалуй, кроме горных козлов, никого не встретишь. Если бы здесь находились партизаны, они давно бы нам ответили.
Я горячо возражаю, так как абсолютно уверен в своей правоте, и весь экипаж поддерживает меня: мы над целью.
Но Еромасова переубедить трудно.
– Так-то оно так, – не сдаётся он, – но почему наши друзья долго не откликаются?
Я и сам не могу понять, в чём тут дело, и всё же мне хочется разубедить своего начальника.
– Мы над целью! – твержу я упрямо. – Разрешите доказать?
– Попробуй…
– Штурман, записывай время и давай курс на контрольный ориентир!
– Курс сто пятьдесят градусов, время пятнадцать минут полёта, – следует уверенный ответ.
Ложусь на этот курс. Свет луны скользит по горным склонам, подчёркивая рельеф местности. Левее видны какие-то огни; возможно, это колонна немецких войск на марше, а может быть, и фашистские транспортные самолёты. Но нам сейчас не до них…
Наконец мы выходим на озеро Даукли; зеркальная гладь его сверкает в свете луны, точно серебряное блюдо. Экипаж вздохнул с облегчением – расчёт был верен: пятнадцать минут назад мы летали над целью.
Немедленно ложимся на обратный курс. Искоса поглядываю на Еромасова, замечаю, что и он успокоился. Луна снова у нас позади; в её спокойном голубоватом сиянии отчётливо видна каждая деталь местности. Только отыскиваемая нами котловина по-прежнему затянута толщей тумана.
Снова виражу над невидимой целью, посылаю лампой «люкс» один световой пароль за другим: тире три точки, тире три точки – буква «Б». Механик усиленно мигает навигационными огнями, включает строевые огни – бесполезно, земля упорно молчит. А ведь мы в общей сложности утюжим воздух около часа. Что могло случиться?
Механик начинает ворчать: больше трёх часов находимся в полёте, сжигаем без толку бензин, а как полетим обратно?
– Может, партизаны отсюда ушли? – снова сомневается Еромасов.
Я не могу с этим согласиться!
– Нет, они здесь, и наши товарищи с ними!
– Так где же они?.. Ты долго намерен здесь болтаться? Не ровен час, прилетят немцы – собьют! – недовольно бурчит командир эскадрильи.
Он прав, конечно.
– Товарищ командир, у меня есть идея! – говорю я.
– Что ещё за идея?
– Снизиться в котловину и пошуметь. Там есть деревушка. Наделаем переполоху, всех перебудим, если спят. Догадается же кто-нибудь зажечь посадочные огни!
– Идея неплохая… Да вот только как механик?
С тревогой поглядываю на Борю: сейчас его слово – решающее.
Боря нерешительно почесал подбородок,
– Бензина впритирку, медленно отвечает он, – но я своему командиру верю. Придётся опять запасы из-за голенища доставать… Покрутимся ещё с полчаса…
Резко иду на снижение, самолёт ныряет в котловину. Лунный свет щедрым потоком обливает склоны гор, расселины, остроконечные возвышенности, строения знакомой деревушки. На высоте примерно сто метров, над самым селением, вывожу работу моторов на максимальный режим. Моторы ревут. Тысячеголосое эхо многократно усиливает этот рёв. Вся котловина наполняется адским грохотом и шумом. Такой концерт и мёртвого разбудит!
А механик вдобавок сигналит световыми точками, огнями фар. Большая скорость позволяет мне легко маневрировать, делать «горку», преодолевать препятствия, поминутно возникающие на пути.
В деревне наконец-то замелькали слабые огоньки.
– Ага! То-то же, проснулись, черти! – говорит Боря с досадой. Его раздражает мысль о зря израсходованном бензине.
Вспыхнула яркая белая точка. Одна, другая, третья… Вот он, долгожданный посадочный сигнал – десять огней в одну линию, вытянутых с севера на юг.
Огни горят, а на наши сигналы ответа по-прежнему нет.
«Как всё нескладно получается! – подумал я. – Впрочем, старт освещён, как условлено, обойдёмся и без пароля…»
Хорошо запомнив свою первую посадку на этой площадке, я теперь зашёл не с северной, а с южной стороны, где были более открытые, пологие подходы, хорошо просматриваемые при лунном свете.
Мы миновали все наземные барьеры и приблизились к ровной линии огней. Затем сели на знакомую площадку. Когда я затормозил машину, а Боря выключил моторы, сомнений, что мы достигли цели, больше не оставалось: у раскрытых дверей кабины показался подполковник Троян.
Вот и остальные, хорошо знакомые мне, но осунувшиеся и загорелые лица наших офицеров. Видно, нелегко давалась им боевая обстановка в непривычных горных условиях. А вокруг наших командиров оживлённо и радостно толпились сотни наших боевых, друзей – отважных греческих партизан.
Перебивая друг друга, мы заговорили все сразу: обменивались новостями, передавали приветы от общих знакомых и близких, расспрашивали друг друга о множестве вещей. Из беседы с Василием Абрамовичем Трояном я узнал, что Григорий Михайлович Попов с группой офицеров переправился в главный партизанский штаб Греции, а Константин Петрович Иванов горными тропами прошел в Албанию и действует заодно с албанскими партизанами.
В разгар нашей встречи к нам подошли два английских офицера. Тревоги и злоключения перелёта были уже позади, но мои волнения ещё не улеглись, и я не сдержался.
– Знаете ли вы, сколько из-за вас мы пережгли бензина? – сказал я, обращаясь к англичанам. – Почему же вы и на этот раз тянули, сразу не осветили старта? Ведь вы же и на этот раз были предупреждены о нашем прилёте.
– У вас был неправильный световой пароль: «Я свой!», – невозмутимо ответил старший из англичан.
– Как – неправильный? Буква «Б» – тире и три точки.
– Ошибаетесь, нужно было: точка и два тире, такие у нас были указания. Вы что-то перепутали…
Я опешил: такое недоразумение в военное время – просто невероятно!
Слышавший этот разговор подполковник Троян рассказал нам: сперва наши офицеры тоже сомневались, приняли самолёт за фашистский. Но, когда машина снизилась и мы закатили дьявольский концерт, наши офицеры сразу сообразили, в чём дело, поспешно оседлали ослов и мулов и из деревушки, в которой они ночевали, поскакали что было духу к старту. Не обошлось без пререканий с британскими представителями: союзники упрямо стояли на своём – самолёт принимать нельзя, пароль неправильный. С трудом удалось уломать англичан.
– Внутреннее чутьё подсказывало мне, – взволнованно говорил Троян, – что прилетели свои, именно ваш экипаж. Ну я и взял всю ответственность на себя.
Мы рассказали нашим товарищам и друзьям вкратце о последних событиях на фронте и продвижении советских войск, оставили им свежие газеты и, тепло распрощавшись, двинулись в обратный путь.
Мы долго потом раздумывали над «недоразумением» с искажённым паролем. Вся эта история казалась крайне подозрительной, и не без оснований. Ведь и в июле мы разыскали эту точку и совершили на ней посадку вопреки желанию англичан. Но, несмотря на сложность обстановки, мы своё задание выполнили и, вполне удовлетворённые этим, возвращались в Бари.