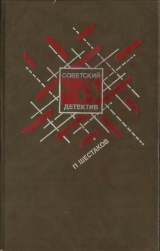
Текст книги "Страх высоты. Через лабиринт. Три дня в Дагезане. Остановка"
Автор книги: Павел Шестаков
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)
Инна:
– Игорь пытался убедить меня в том, что Антон негодяй. Но перед кем он был виновен? Перед моим отцом. Однако и я была виновата перед ним не меньше. Как же я могла мстить Антону?
Игорь Рождественский:
– Но я настаивал на своем, я был уверен в своей правоте.
– Если ты наотрез отказываешься разоблачить этого подонка, я сделаю это сам.
– Каким образом?
– Расскажу про тетрадку.
– Антон все опровергнет.
– А ты? Ты же врать не станешь?
– Я не смогу. Я скажу правду. Скажу, что сама дала ему тетрадь.
– Это его не вырулит. Наоборот. Опозорит.
– И меня тоже. Поэтому ты не сделаешь этого.
Он не ожидал такого ответа. Он замолчал. Он не мог нанести удар Инне. Но и отказаться от мести не мог. У него был трезвый аналитический мозг. И он подсказал решение.
– Хорошо. Я не сделаю тебе больно. Это факт. Я сделаю другое. Я все-таки скажу. Скажу ему самому. Пусть он знает, что он сволочь.
Игорь Рождественский:
– Это был вопрос принципа. Он должен был получить по морде. Я уверен, что заставил бы его не только бояться. От страха он бы начал заметать следы и был бы вынужден в той или иной форме признать приоритет Кротова. Я сказал Инне, что поеду к Антону…
– Когда ты намерен это сделать?
– Сейчас.
– Ты думаешь, он дома?
– Да. Он собирался из ресторана домой, вернее, ко мне.
– Но он может быть не один.
– Светки там нет. Для бедной девушки единственное сокровище – ее репутация. Она отказала ему. Я сам слышал. Мораль прежде всего.
– Тогда к нему поеду я…
Инна:
– Не знаю, почему я так решила.
– Потому что думала, что он вернется. Ей не удалось купить его своей тетрадкой, так она решила взять на испуг.
Это сказала Светлана. Сказала зло.
Мазин посмотрел на нее чуть прищурившись. Потом перевел взгляд на Инну. Та нахохлилась, как птица на ветке в тусклый осенний день.
– До вас еще дойдет очередь, Светлана.
– При чем тут очередь? Мы что, в магазине? Зачем вы меня сюда вызвали? Помучить захотели? Зачем мне слушать, как они его ненавидели? Как до смерти дошел? Зачем?
– Перестаньте. Я вам скажу зачем. Немного позже.
Инна вдруг сделала жест рукой:
– Не нужно осуждать эту девушку. Я понимаю ее. Я ей ненавистна, а я ее считаю виновницей своих несчастий. Я не собиралась никого "брать на испуг". Совсем наоборот. Мне хотелось выручить Антона. Я, правда, не знала как. Но я поехала.
"Именно выручить. Как? Конечно, не знала. Просто гнала машину по пустым ночным улицам и думала, думала. И ничего не могла придумать, кроме одного, – сделать для него все, что можно, и уйти. Уйти, забыть и остаться одной. Остаться в комнате с нелепым дикарским оружием. В музее, где развешаны по стенам некрасивые кавалеры в париках, отстрадавшие свое двести лет назад. Остаться в городе, пыльном летом, дождливом зимой, одной рядом с миллионом людей. И она останется, сначала спасет его – теперь уже по-настоящему спасет, – а потом останется одна и никогда больше не позволит себе мучиться и надеяться".
"А если он захочет вернуться?" Эта мысль жила подсознательно, Инна загоняла ее внутрь, не давала хода. Но она изловчилась и выскочила из-под контроля, взяла за горло.
Инна нажала на тормоз. Раздался лязг, потом тишина. И еще – пустота и темнота. Инна опустила голову на руль и коснулась лбом холодной пластмассы. Но ничего страшного не произошло. И не стоило бояться. Захочет он вернуться или нет, она устала. То, что было, кончилось.
Инна, огляделась и увидела, что "Волга" стоит в самом конце проспекта. Отсюда до высотного дома было совсем близко. Она решила оставить машину здесь…
– Я не собиралась скрываться. Просто, когда подъехала, сориентировалась не сразу и пошла к дому пешком. Лифт не работал, пришлось подниматься по лестнице. Перед дверью я отдышалась немного. В квартире было тихо. Я даже подумала, что Антона еще нет. Но позвонила.
Он пришел недавно, за несколько минут до Инны. Снял пиджак, повесил на спинку стула, развязал галстук и взялся за запонки, когда позвонили. Наверно, он подумал, что пришла Светлана, потому что Инна увидела на его лице улыбку.
– Это ты? – спросил он, и улыбка ушла, появилась тревога.
Инне стало больно:
– Да, это я. Можно зайти, или ты не один?
– Я один. Заходи.
Она вошла и еще раз оглядела его при свете электрической лампы, высокого, подтянутого, в белой новой рубашке с расстегнутым воротником и лицом желтоватым, усталым, довольным и тревожным одновременно.
– Садись.
– Спасибо.
Он ждал, что она скажет, а ей не хотелось говорить ничего. И еще она видела, что он не вернется, и ей снова было это не безразлично, а больно, и уже не хотелось спасать этого чужого человека, которого она увидела сейчас в первый раз, именно в первый раз такого.
– Я тебя слушаю.
– Я пришла не объясняться, Антон.
Он нахмурился, потому что понял, что все, что происходит, серьезно.
Инна:
– Я не знала, что сказать. Нужно было говорить главное, о том, что Игорю все стало известно, но я вдруг подумала, что Антон может не поверить мне, решить, что я сама рассказала Игорю и приехала отомстить или, что еще хуже, попытаться вернуть его угрозой. Было ужасно стыдно, и я растерялась…
– Тебя бы следовало поздравить.
– Только не тебе.
– Почему? Может быть, именно мне.
– Ты приехала поздравить меня?
От неуверенности он становился грубее.
– Нет, я бы не решилась. Ты мог быть с другой женщиной…
– Ну?
Она заметила, что он бледен не только от усталости. Он все-таки немало выпил в ресторане.
– Разве я не имею права быть с другой женщиной?
– Кто же тебе может запретить?
– А ты бы хотела запретить?
Незаслуженная враждебность ранила.
– Не будем об этом, Антон.
– Вот именно. Не будем.
– Хорошо, что ты сразу дал мне понять, что назад дороги нет.
– Ты сама ее перечеркнула.
– Может быть.
– Не может быть, а только так.
В словах его звучало пьяное упорство, стремление добиться своего, даже ненужного.
– Ты хотела, чтобы я всегда… чтобы я знал свое место.
– Не нужно…
– Свое плебейское место!
– Антон! Я тебя любила.
Это "любила" в прошедшем времени не обрадовало, а резануло его. Щепоть соли на то, что он растравлял пьяно и искусственно, вопреки смыслу.
– Любила! Еще бы! Как щенка, как котенка. Девочка любит Мурзика, она ему даже свою шоколадку отдаст. А Мурзик не ест шоколад, ему на него смотреть противно!
– Я вижу!
– Что ты видишь?
– Что тебе противно смотреть на меня.
– Обычные женские приемы!
– Не оскорбляй меня.
– И не думаю. Говорю только правду.
– В чем же твоя правда?
– Это не моя правда. Это правда – и все!
– Так в чем же она.
– В том, что я был Мурзиком. Причесанным, отглаженным, накормленным котеночком с бантиком на шее. Ты всегда относилась ко мне свысока. Облагодетельствовала, а не любила. Жертвовала! Начиная с той эфиопской маски на елке. Забавная, смешная маска. Но ее нельзя носить всю жизнь.
– Вот ты ее и скинул.
Она имела в виду – избавился, он понял – разоблачился.
– Да, я скинул маек. Я хам.
– Как ты несправедлив!
– Из хама не выйдет пана.
Инна:
– Он встретил меня враждебно. Может быть, подумал, что я пришла добиваться восстановления прежних отношений. Грубо говорил, что я всегда была деспотична, стремилась командовать им, пичкала ненужными благодеяниями, которые тяготили его. Вспомнил даже детство, ту африканскую маску… Но о тетрадке отца он, казалось, просто забыл, не сказал о ней ни слова…
Он забыл о главном, и его раздражали мелочи. Потому что после достигнутого успеха все казалось мелочами, прошлым, одинаковым и незначительным – и маска на той, почти выдуманной елке, и пачка пожелтевших листков, соединенных ржавыми скрепками. Что они значили, эти листки, по сравнению с его победой? Он шел к ней так долго и так трудно, и он заслужил ее. Сам. Так почему же эта женщина пришла к нему? Зачем? Такая до отвращения беззащитная, слабая, готовая залиться слезами. Да нет, даже не залиться, а просто заскулить, как побитый щенок. С такими тонкими дрожащими руками и морщинками у больших испуганных глаз. Неприспособленная к жизни, одинокая всегда и со всеми, стареющий подросток, слабый и бесплодный. Он не хотел ее. Он ждал другую, молодую, наполненную жизнью, именно она была нужна ему, счастливому и пьяному, чтобы поднять ее на руки, подхватив под мягкие коленки, целовать в открытый, задыхающийся рот, бросить на неразобранную кровать одетую и не снимать, а срывать платье, чтобы рвались пуговицы и трещали швы. И черт с ним, с этим платьем, он купит ей другое и еще кучу разных тряпок, а сегодня он может все. И он получит все. А потом оставит ее, измученную и счастливую, уткнувшуюся в изнеможении в разбросанные подушки, откроет холодильник и нальет стакан прозрачного вина, выпьет, и ему будет легко и свободно.
А вместо этого… И он не мог сдержать раздражения, а дав ему волю, сразу поверил себе и верил каждому слову и уже не только не чувствовал вины или даже неловкости перед этой женщиной, но наоборот – удивлялся ее бестактности. Зачем она пришла? Неужели не понимает, как она здесь не нужна, особенно сегодня, и как противны ему все эти разглагольствования о чувствах, обо всем, что прошло.
– Ты не хам, Антон. Ты потерял тормоза. Завтра ты пожалеешь о своих словах.
– Хотел бы я знать, почему?
– Потому что люди всегда жалеют о своих неумных и несправедливых поступках. И потому что ты не такой, Антон.
– Люди никогда не знают друг друга.
– В этом ты, возможно, и прав.
– Они выдумывают друг друга и ужасно расстраиваются, когда оказывается, что выдумали совсем не то.
– Значит, и я тебя выдумала?
– Еще бы! А на самом деле между людьми – стена. Через нее не перепрыгнуть. Каждый – это целый мир. Непознаваемый для другого. Миллиарды клеток. Галактики.
Она усмехнулась с горечью:
– А может быть, все проще, Антон! Может быть, дело не в миллиардах клеток, а в килограммах мяса. Вот здесь и тут. – Инна провела рукой по груди и бедрам. – И еще в морщинках, которые появляются с годами. А вовсе не в извилинах?
Антон посмотрел на нее и замолчал. Не потому что согласился. Он вспомнил, как трогали его ее слабые руки и казались удивительно красивыми ее длинные пальцы. Но это уже прошло, как пройдет, наверно, и сегодняшнее, и появится брезгливость к распирающей платье груди, и он будет говорить, морщась: "Ты бы поменьше делала вырез на кофте. Не очень-то это красиво". И будет заглядываться на тоненьких девочек.
И пусть будет! Человек не должен постоянно растравлять себя идиотскими мыслями о том, что будет. Он должен жить сегодняшним днем и радоваться тому, что влечет его сегодня. Сегодня он ждал Светлану, а не эту, уже ушедшую женщину. Правда, с ней ушла и часть его жизни… Он вдруг притих.
– Мы мало знаем обо всем. Мы ничего не знаем. Что ты хочешь мне сказать?
Тихомиров глянул на часы, стоявшие на книжном шкафу:
"Может и хорошо, что Светлана не пришла".
– Мы ничего не знаем, – повторил он, действительно не зная, что ему осталось жить меньше часа.
Инна:
– Он спросил, зачем я пришла. И мне надо было наконец сказать правду, рассказать об Игоре. Но наш разговор, нервный, недобрый, совсем не расстроил меня. Антон был так непохож на себя. Однако слова его не оскорбляли меня. Я ведь знала, что он не такой, каким хотел казаться.
По-моему, его мучали угрызения совести, чувство страха и вины, они ожесточили Антона, угнетали самолюбие, делали жестоким и злым. Я старалась преодолеть себя, сказать обо всем мягко…
– Антон, наши отношения, близкие отношения, то, что мы считали близким, я вижу, они кончились. Не нужно упрекать друг друга, отравлять злобой прошлое. Я пришла не выяснять отношения. У меня совсем другое… Мне нужно сказать тебе, поговорить… о папиных записях.
– Вот что!
– Да, это так неприятно.
– Щекотливый вопрос?
– Антон! Не обижайся на меня.
– Говори, Инна, прямо.
– Только так, Антон. Скажи, пожалуйста, ты действительно все сделал сам?
– Не понимаю.
– Антон, это необычайно важно. Для меня. Я была уверена, что произошло трагическое совпадение. Ты все сделал сам, а потом оказалось, что отец сделал это раньше. Да?
– Да. Но ты говоришь, была уверена. Разве теперь ты не уверена?
– Нет, я верю тебе.
– Но сомневаешься?
– Если ты скажешь – да, я не буду сомневаться.
– Я говорил это не раз, но ты сомневаешься.
Горячность его прошла. Он даже застегнул воротник.
– Инна, я тебя очень хорошо знаю. Ты не из тех, кто расставляет людям ловушки. Зачем ты опять поднимаешь этот вопрос?
Инна:
– Я просто не могла сказать об Игоре. Мне хотелось одного, чтобы он убедил меня в своей честности, подтвердил то, в чем я не сомневалась до сих пор. И тогда, я верила, мне удастся опровергнуть Игоря, защитить от него Антона. Если бы он доказал мне это, я могла пойти на все, даже обмануть, сказать, что никакой тетради вообще не существовало.
– Т-а-к, – произнес он, растягивая это короткое слово. – Так кончается любовь. Ты жалеешь о том, что сделала?
– Нет, Антон, нет.
– Зачем же этот разговор? Что это – шантаж или просто наивный женский садизм, желание покопаться в моих ранах?
– Нет, Антон. Ты не понимаешь… Я хочу…
– Чего ты хочешь? Чего? Целый час я добиваюсь – чего ты хочешь?
– Я хочу, чтобы у тебя не было неприятностей.
– Каких? Отчего?
– Тетрадь могут увидеть.
– И что из этого?
– Ее могут сравнить с твоим авторефератом.
– Все-таки не веришь! Ну, что ж… Хотел бы я знать одно: остановишься ты на этом или пойдешь дальше?
– Прошу тебя, не нужно оскорблений.
– Не нужно оскорблений? А меня ты можешь оскорблять своими предположениями!
– Антон, я говорю очень серьезно. Для тебя это даже важнее, чем для меня.
– А я не желаю обсуждать все это.
– Но я вынуждена, Антон.
– Значит, шантаж?
– Как ты говоришь со мной сегодня! Ужасно!
– То, что делаешь ты, – подло!
– Что я сделала?
– Не знаешь? Хорошо, я разъясню. Ты пришла ко мне в лучший день моей жизни, о котором я столько мечтал…
– Когда-то мы мечтали о нем вместе.
– Когда-то! Когда я был независим от тебя, а не дергался на веревочке, как паяц.
– Не нужно.
– Нет нужно! Ты пришла в такой день, чтобы продемонстрировать мое ничтожество и мою зависимость. Но у тебя ничего не выйдет. Я не боюсь угроз. Понятно?
– Я же не угрожаю, Антон!
– Решила просто поиздеваться? Подергать за шнурок, привязанный к нервам? Не выйдет. Плевал я на все угрозы. Можешь говорить об этой тетрадке кому угодно. Тебе все равно не поверят. Теперь я прав, а не ты. Раньше не поверили бы мне, а теперь не поверят тебе. Ты только унизишь себя, потому что люди подумают, что ты мстишь. У тебя же нет никаких доказательств! А слова ничего не стоят. Не такие слова оказывались ложью. Обыкновенной брехней! И люди перестали обращать внимание на слова. Сплетни мне не могут повредить, и ты должна это понять. Только сама обмараешься! Вот и все.
– Но тетрадь существует, лежит у тебя в столе.
Тихомиров подошел к креслу. Сел и вытянул ноги, как человек, решивший сделать маленький перерыв в надоевшей работе. Сел и сказал негромко и спокойно:
– Ничего у меня нет.
– Как – нет?
– Очень просто.
– А тетрадь отца?
– Кажется, ты мне ее подарила?
Она не нашлась, что ответить.
– Подарила?
– Да.
– Значит, тетрадь стала моей?
– Да.
– И я мог с ней делать что захочу?
– Да.
– Так я и сделал.
– Что ты сделал?
– Я ее сжег.
– Сжег?
– Спалил. Предал огню.
– Когда?
– Не помню. С месяц.
– Это неправда.
Инна:
– Он сказал, что тетради нет, что он ее сжег. Впервые он врал мне. Впервые я знала несомненно, что он врет. Я могла простить любую горячность, грубость, объяснить, понять все его поступки. Даже крики и оскорбления, ужасные, неожиданные и незаслуженные, но не эту ложь, произнесенную так цинично. Я была сломлена. Даже опровергать его, разоблачать было бессмысленно. Ведь произошло более страшное.
– Это неправда. Тетрадь цела.
Он вздохнул:
– Ты ребенок, Инна. Неужели ты думаешь, что слова "правда" и "ложь" имеют какой-то объективный смысл? Все дело в том, кто говорит и когда говорит. Сейчас я говорю правду, хотя бы потому, что тетрадь в моих руках и я мог ее сжечь месяц назад или даже сейчас, у тебя на глазах. Фактически ее нет, не существует.
– Значит, ты мог соврать и в главном, – сказала она, но не ему, а себе.
– Что ты называешь главным?
– Ты мог украсть труд отца.
– Этого уже никто никогда не узнает.
– Это знаешь ты, и этого достаточно.
– Ты думаешь?
– Мне просто страшно.
Он вскочил и снова заволновался:
– Инна, почему ты такая? Почему ты живешь в каком-то иллюзорном стеклянном мире, где все так чисто и так легко ломается?
– Ты восхищался моим миром.
– Но в нем нельзя жить! Пойми!
– Каждый живет в той среде, к какой приспособлен.
– Нет! Среда одинакова для всех. Но человек или приспосабливается к ней, или нет. Или понимает, или нет! Или учится, или стоит на месте.
– Ты учишься?
– Да. Хотя это нелегко.
– Будет еще труднее, Антон. Этот твой мир нереален. Он напоминает кошмарный сон.
– Не нужно меня будить.
– Я и не могу этого сделать. Я слишком слаба. Оставайся там, где ты есть. Я больше не побеспокою тебя. И если ты еще не сжег тетрадку – сожги ее немедленно. Это необходимо. Потому что наказана должна быть одна я. Я виновата перед отцом и должна быть наказана. Пусть так и будет.
Инна:
– Я ушла. Он не провожал меня. Остался в комнате. Ушла, чтобы убедить Игоря ничего не предпринимать, потому что в одном Антон был прав: больнее всего было бы мне. А мне и так было больно… Разрешите мне закурить.
Она достала из сумочки сигарету, хотела размять ее, но сломала. Игорь протянул ей другую и зажег спичку.
– И больше вы не видели Тихомирова? – спросил Мазин.
– Нет.
– Почему же вы вините себя в его смерти?
– Может быть, обойдемся без этого? – перебил Рождественский. – Раз уж мы решили заниматься только фактами.
– Погоди, Игорь, – остановила Инна. – Смерть Антона тоже факт, Когда я уходила, он был мертв только для меня. Для меня его больше не было. Но я не думала, что он может быть мертв для всех, умрет в самом деле. Известие о его смерти ошеломило мена. Я взглянула на все происшедшее снова без гнева и раздражения. Ведь яг знала его много лет. И он был совсем другим. Не мог же Антон быть ненастоящим всегда, а настоящим только в те минуты, ужасным, отвратительным. Он был потрясен успехом, ценой своего успеха и, конечно, путаницей, в которую он попал, и он был пьян. Он мог сорваться и говорить то, что приходило в голову, но не то, чем он жил. Но он мог и отрезветь, и ему могло стать страшно, и могло возникнуть отвращение к себе и желание прервать эту непонятную, терзавшую его жизнь.
– Вы довели его до этого! – крикнула вдруг Светлана. – Довели, довели!
Инна не ответила. Она продолжала свою мысль:
– После меня его никто не видел. И никто не мог увить. А сам бы он никогда не полез на окно. Он боялся высоты, он не мог погибнуть случайно.
– Вы погубили его. Из злобы, из ревности. Вы запугали его. Он был честным и талантливым. Он ничего не воровал. А вы шантажировали его, чтобы вернуть себе, и довели до смерти. Вы не хотели об этом говорить. Но вас разоблачил Игорь Николаевич. Вас судить нужно. По закону это даром не проходит. Есть такая статья. За доведение до самоубийства!
Мазин не любил волевого тона. Но когда он говорил категорично, его слушались.
– Прекратите, Светлана?
– Разве я неправду говорю?
– Нет.
– Ну, тогда я просто не знаю…
– Сейчас мы выясним, что вы знаете, а чего нет. Между прочим, окажется, что знаете вы много. Например, знали, что Инна Константиновна была здесь.
– Откуда?…
Мазин прервал ее жестом:
– Иначе бы вы не послали мне это письмо.
Он бросил на стол записку в голубом конверте:
– Вы только не знали, что написала ее не Инна. Записку написала Ирина Тихомирова. Но не двадцать третьего, а второго августа. Тройку вы добавили, Светлана!
– Я… Я… Не…
– Вам этот наивный трюк показался очень хитрым, а на самом деле это чепуха, примитив. Но злобная, дрянная чепуха. Кстати, Антон так и не видел этой записки? Вы взяли ее из ящика или в квартире?
– Да.
По правде говоря, у него не было доказательств. Только уверенность. Уверенность в том, что он найдет и отпечатки пальцев, и признаки ее почерка в этих, сделанных под печатные, буквах на конверте.
– Что значит "да"?
– Я нашла ее в комнате.
Скорее всего, это была ложь. Наверно, Антон попросил ее взять из ящика газеты или она сама взялась сходить за ними и нашла записку, которую сунула в сумочку. Но это уже было неважно. Важно, что она призналась. Пока наполовину, но теперь уж скажет все, хоть и не сразу, и будет выкручиваться.
Однако следовало кое-что объяснить.
– Вот показания Ирины Тихомировой. – Он положил на стол бумагу. – Она не имеет никакого отношения к смерти мужа. Находилась в городе в начале месяца. У нее болел ребенок, он лежал в больнице. Врач ждал кризиса. Ирина решила разыскать Антона. Оставила записку в почтовом ящике. Думаю, что она не попала по адресу. А вы, – он повернулся к Светлане, – решили, что ее написала Инна Кротова.
Глаза Светланы стали прозрачными. Было даже интересно смотреть, как они наполняются слезами, неморгающие, широко открытые глаза. Потом переполнились, и слезы побежали быстрыми каплями, одна за другой как будто крыша потекла.
– Это правда, – заговорила она совсем не плаксивым голосом, которого боялся Мазин. – Но вы ж и меня должны понять. Я его любила, любила… И боялась, что он вернется… к ней… Бросит меня. Я боялась, потому что он всегда помнил о ней, говорил. И не хотел, а у него прорывалось. Иногда даже называл меня Инной…
Инна встала и отошла к окну. Открыла форточку. Оттуда налетел ветер и рассеял дым сигареты.
– Записка была в незаклеенном конверте. Я прочитала и совсем испугалась.
– Что же вас напугало?
– Там написано: "Речь идет не обо мне". И я подумала… подумала, что у нее будет ребенок.
Инна передернула плечами. Игорь подошел к ней. Мазин остался за столом со Светланой. Она не видела Теперь никого, кроме него, и это ее подбодрило, слезы побежали реже.
– Представьте себе, как я мучилась. Я не спала. И ничего не могла сказать ему.
– Еще бы! Вам пришлось бы рассказать о письме.
– Нет, не потому. Я бы сказала о письме!
Две или три слезинки соскочили с подбородка на грудь, на кофточке образовалось темное пятнышко. "Интересно, промокнет или нет", – подумал Мазин совсем неподходящее к моменту.
– Я бы сказала, но я не сказала совсем по-другому. Я боялась вмешиваться. Антон бы не позволил никогда, потому что она всегда была для него выше, чем я. Он не любил ее, но он знаете, как к ней относился… Как будто она чем-то лучше его. А она довела его до смерти, до самоубийства!
– Подождите о смерти. Говорите о себе!
– А что говорить? Я извелась вся. Я даже хотела идти к ней и поговорить. И ходила. В этот музей.
Инна повернулась с любопытством.
– Но я не говорила. Потому что боялась Антона. Я не решилась.
Еще одна слезинка скатилась с подбородка и опять попала туда же, на темное пятнышко. Оно стало чуть больше.
"Промокнет!"
Инна снова отвернулась.
– Вы только представьте, что я пережила!
Но Мазин не сочувствовал. Иногда у него появлялась такая жестокость, брезгливое равнодушие к людям, которых он презирал.
– Я не могла понять, знает он или нет. То мне казалось, что не знает ничего, а то, что он обманывает меня, не говорит. А про Ирину Антон тоже ничего не сказал.
– Он ничего не знал о болезни сына, потому что вы украли записку. А Ирина в тот вечер прийти не смогла, была в больнице. Потом сыну стало лучше, и она уехала.
– Я ж не хотела…
Прозрачная кофточка наконец прилипла к телу.
– Светлана, я верю, что вы переживали. Но это не оправдывает ваш поступок и даже не объясняет его. Допустим, вы в самом деле решили, что в записке идет речь о ребенке. Наверно, такое можно предположить, особенно женщине в вашем положении. Но с какой целью вы отправили записку мне через два месяца, когда Тихомирова уже не было в живых? Мстить женщине, ожидающей ребенка и не виноватой ни в чем, кроме того, что она может стать матерью, – это же отвратительно. Думаю, что вы не так уж злобны и бездушны.
В последних словах она уловила поддержку.
– Я уже знала, что ошиблась насчет ребенка.
– И что же?
– Но я знала, что она виновата в смерти Антона.
– Знали или предполагали?
– Знала! Знала.
– Откуда?
– Я скажу. Я не хочу, чтобы меня считали подлой и Антона подлецом. Он не был подлецом. Он был хороший, лучше всех. Он сам все открыл, а она его запугивала, упрекала. Ему не нужно было бояться. Если б он со мной посоветовался, я б ему прямо сказала: отарой все – и тебя поймут. А он ее боялся, потому что она всегда на него влияла и только вред приносила. И загубила его.
– Позвольте, Светлана. Сначала факты, а потом чувства.
– Да, факты, только я их слишком поздно узнала.
– Расскажите, как и что вы узнали, от кого?
– От нее! От нее самой!
Инна повернулась резко, будто ее толкнули. Игорь тоже. Они смотрели на Светлану с изумлением.
– Я все расскажу. Потому что я слышала весь их разговор. Я была тут, в квартире, в той комнате!
– Боже мой! – сказал Инна и закрыла лицо ладонями.
– Значит, я был прав, когда полагал, что вы все-таки поехали к Тихомирову? – спросил Мазин спокойно.
– Вы правильно догадались. Но вы тоже не все знаете.
– Возможно, – не стал он спорить.
– А я все слышала.
– И Антон так себя вел! – прошептала Инна. Кажется, и ей начало отказывать самообладание.
– Не беспокойтесь! Антон сам не знал, что я здесь.
– Расскажите подробно, – предложил Мазин.
– Да что рассказывать! После звонка я не знала, что делать. Я думала, что он меня обманывает, скрывает про ребенка, и обиделась, что он не позвал на защиту и в ресторан. Я думала, что там может быть она. Когда Антон позвонил, я успокоилась немного, но сразу не могла решить, что делать, и отказалась. А потом мне перед ним неудобно стало. Ведь такой день у него, а я ломаюсь…
Это "ломаюсь" почти развеселило Мазина. Когда Светлана волновалась, она становилась проще, естественнее и наивнее. Наивной в своей убежденности, что делать так, как она делала, можно, а выкручиваться приходится потому, что люди, которых она совсем не понимала, представлялись ей более хитрыми и только.
– Я и решила поехать. Собралась быстро и поехала.
"Не сочла себя вправе ломаться в такой день! Это оттуда, из деревни, из веков – блюсти себя, но не ломаться, когда нельзя. Вечная борьба с хозяином-мужчиной. С хозяином, которого можно обманывать, бунтовать даже, но от этого он не перестает быть хозяином и имеет свои права. И еще исконное, бабское, вроде жалости: уж как приспичит мужику – аж жалко становится. Хотя все это в корнях где-то, подсознательно, а на поверхности страх, конечно, – не прогадать бы, я не поеду – поедет другая или он к ней. А приеду неожиданно – обрадуется, на них, мужиков, это действует. Может, расчувствуется – правду скажет. Так она думала, наверно, а, возможно, и не все так, потому что не все мы обдумываем полностью и до конца, а просто делаем и всё, особенно женщины".
– Вы были уверены, что Тихомиров здесь?
– Он же меня сюда звал.
– Но он мог и запоздать, не сразу приехать, раз вы сказали, что не приедете.
– Так и вышло.
– Вы приехали раньше его?
– Раньше. Но у меня ключ был.
– Вы не в первый раз бывали здесь?
Мазин не смотрел на Инну.
– Не первый.
– Хорошо. Рассказывайте дальше.
– Ну, приехала я, а его нет. Я зашла в ту комнату, села, решила подождать. Минут тридцать сидела. Его нету. Меня в сон клонить начало. Ведь было поздно уже. Прилегла на диване, задремала я, в общем. А он сразу в эту комнату зашел, а не туда. И не увидел меня.
"Может быть. Она здоровая. И может спать везде, и когда захочет. Ей наверняка не требуется снотворного. Прилегла и задремала. Или нет? Слишком уж спокойно! Скорее не спала, а наоборот, сидела, ждала, нервничала, когда придет, где он сейчас, с кем? А если придет не один? Да, это больше похоже на правду. Но она говорит, что спала, и тут уж ее не проверишь. Пусть так и остается".
– Что вас разбудило?
– Звонок.
– Тихомиров был уже дома?
– Да, он пошел открывать, а я испугалась, никак не могла сообразить, что же делать.
"Слишком часто она жалуется, что не могла сообразить!"
– Слышу, они говорят в прихожей. Антон и она. Я совсем растерялась.
"Все-таки это действительно неприятная ситуация. Спрятаться с риском быть обнаруженной? Или выйти и вызвать скандал? Интересно, почему она решила остаться? Струсила или схитрила, решила подслушать?"
– И что же вы решили?
– Я ничего не решила. Сначала я думала, что она скоро уйдет, а потом уже выйти нельзя было. Ужасно неприятно было. Я не хотела…
"Возможно, а может, и прислушивалась, затаив дыхание, и не боялась ничего, готовая схватиться с соперницей грубо, мертвой хваткой. Этого тоже не узнать".
– Вы слышали весь разговор?
– Да, они громко говорили.
– О чем?
Нет, он не сомневался, что Инна сказала правду, ему просто хотелось узнать, что скажет Светлана.
– Она его унижала.
"Неужели будет иная версия?"
– Она говорила тут, но было не так. И так и не так. Она его унижала, давала ему понять, что он вор и что теперь он никогда не будет жить спокойно. Я не понимала сначала, о чем разговор, а потом начала понимать, но не верила, что Антон мог чужую работу присвоить. Я хотела выйти и сказать прямо: "Не мог он такого сделать и не делал, а если вы его любите, как же можете его вором считать?"
Светлана повернулась к Инне, и Мазин заметил, что слез на ее щеках уже нет.
Инна молчала.
"Интересно, что она о ней думает? Наверно, считает за недалекую, в общем, простушку с хорошо развитой фигурой".
– Но вы не вышли?
– Нет. Как я могла выйти? Она бы подумала, что это Антон меня прячет. А он бы так делать никогда не стал. Если б он знал, где я, он бы прямо сказал, что я здесь, потому что он был прямой и принципиальный.
Мазин отметил – "принципиальный". За весь вечер это было первое нерусское слово. Да, когда она волнуется, ей не до звучных "хобби".
– Он сказал, что не виноват, и я ему верю, верю! А она угрожала ему.
Мазин вопросительно глянул на Инну.
Та ничего не опровергла, только пожала плечами и сказала:
– Эта девушка преувеличивает, конечно, но ее можно понять.
– Предположим, – согласился Мазин. – Что же произошло после того, как ушла Инна Константиновна?
– Я вышла.
– Тихомиров удивился?
– Еще бы! Или нет… закрыл лицо руками.
– Ты все слышала? – спросил.
– Да.
– И что ты поняла?
– Тебя хотят оклеветать!
– Я это заслужил.
– Но ты не мог ничего украсть! Не мог! Я же знаю!
– Да, я не вор. Ты веришь мне?
– Как же я могу тебе не верить!
– Спасибо!
Он поцеловал мне руку.
– А теперь уходи!
– Я не могу оставить тебя сейчас.
– Нет, уходи. Я должен обдумать свое катастрофическое положение. Меня ждет позор и гибель.
– Она не скажет!
Нет, она скажет, она будет мстить мне. У меня нет выхода.








