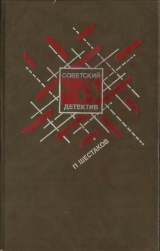
Текст книги "Страх высоты. Через лабиринт. Три дня в Дагезане. Остановка"
Автор книги: Павел Шестаков
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Снег
«Посиди за столом», – сказал он. Мазин вдруг осознал, что распоряжается в чужом доме, что дом этот, ни в чем не изменившись за ночь, стал совсем другим, превратился в место преступления, и вести себя в нем надлежит иначе, чем вчера вечером. Это было знакомое ощущение. Не раз ему приходилось появляться в квартирах в трагические минуты, осматривать их, как врач осматривает больного, стараясь увидеть все, чтобы сохранить в памяти необходимое, то, что требуется, не больше. Без оскорбительного любопытства осматривал он портреты и фотографии, шкафы с одеждой и столы с дорогими кому‑то письмами и пожелтевшими документами. Он умел делать это, не причиняя боли, профессионально и деликатно касаясь кровоточащих ран, ни на секунду не забывая, что мир состоит из людей, а не из потерпевших и преступников.
Но и сами люди, скованные горем или страхом, напрягались, теряя обычную чувствительность, а дома их, жилища, подчиняясь какому‑то психологическому иммунитету, вдруг превращались просто в обстановку, среду жизни, утрачивали неповторимо личное, интимное. Горе как бы вскрывало призрачность, сиюминутность мира, который люди склонны кропотливо, настойчиво создавать вокруг себя. Пришла беда, и жестокая реальность вторгается в мир, который только что казался единственным, нерушимым, только тебе принадлежащим, и он дробится на составные части, каждая из которых возвращается к своему первоначальному простому предназначению: кровать становится обыкновенной мебелью, а фотокарточка – листком бумаги, запечатлевшим не кусочек жизни, а ее оптическое отражение.
Духом этой жестокой реальности, возвращающей все на свои места, и пахнуло сейчас на Мазина в калугинском доме, показавшемся ему кораблем, когда они с Борисом спешили ночью под ливнем, и ряды окон светились, как палубы, разгоняя грозу. Но свет погас, корабль на мели, капитан с зарядом картечи в груди лежит в рубке, и чужие люди ходят по дому, думая о том, что непогода скоро кончится и можно будет сложить чемоданы и рюкзаки и покинуть навсегда ставшее таким неуютным, вчера еще шумное и гостеприимное жилище.
"Наверно, Марина продаст дом", – подумал Игорь Николаевич, подходя к ее комнате, и испытал сожаление. Он постучал и приготовился к тому, что ответят не сразу. Калугина могла и забыться, имела на это право. Но она ответила немедленно, и Мазин вошел. Марина сидела почти в той же позе, что и утром, но уже не вязала.
– Игорь Николаевич?
– Да, я.
– Вы, конечно, осуждаете меня за то, что я здесь, а не наверху?
– Вам не следует быть там. Борис Михайлович запер мансарду до приезда милиции.
– Нет, я должна быть там. Я знаю, что должна. Но я не могу, призналась Марина. – И в то, что случилось, почти не могу поверить. В моей жизни никогда ничего не случалось. А теперь я знаю, такое в самом деле бывает. Не в кино и не с другими. Со мной… И нужно пережить…
Без косметики, без привычного лоска она выглядела совсем молодой и беспомощной, похожей на вчерашнюю школьницу, провалившуюся на вступительном экзамене в институт.
– Нужно. Многое удается пережить. Существует запас прочности.
– Откуда? У нас никто не умирал. Даже бабушка и дедушка живы. И знаете, что ужасно! Я не о нем жалею, я себя жалею.
– Простите, вы любили Калугина?
Она вспыхнула.
– Зачем вам это? Наверно, нет, раз я так поступаю.
Он помолчал.
– Я вам показалась дрянью, да?
– Почему? Вы старались ответить искренне. Как вы познакомились с Михаилом Михайловичем?
– На выставке. Он выставлялся. Была встреча. Я задавала вопросы о его работах, они показались мне старомодными. Он объяснял подробно, дал мне свой телефон. Я сначала боялась. Девчонки смеялись: трусишь! Ну, я решила доказать, позвонила.
– Его первая жена умерла?
– Да. Решили, что я женила его на себе?
– А как вы считаете?
– Никогда так не думала. Нет. Все проще. Сейчас многие стараются жить просто, – пояснила она то ли убежденно, то ли с горечью.
– Просто? Сколько вы тратили в месяц?
– Нет, вы не поняли. Не о деньгах… Просто смотреть на вещи, не усложнять. Ведь оттого, что много думаешь, не становишься счастливее, правда?
– А вы были счастливы?
– Все считали, что мне повезло.
– Квартира в Москве, этот дом, машина, поездки за границу.
– Ну да. Но я не виновата. Он сам…
– Как же вы все‑таки относились к Калугину?
Марина отвернулась.
– Я ценила заботы Михаила Михайловича.
"А что вы дали ему?$1 – хотел спросить Мазин, но сформулировал вопрос иначе:
– А он вас за что ценил?
– Он ценил мою молодость, – ответила она сухо. – Дорожил мной. Жена была старше его и много болела.
Мазин не откликнулся на этот прямолинейный ответ. Ему послышалась в нем нарочитость. Да он и не относился к числу моралистов. Не затем он пришел в эту комнату. Его интересовало другое: виновна ли сидевшая перед ним женщина в смерти своего мужа?
– Рассказывал ли Михаил Михайлович вам о своем прошлом?
– Он не любил говорить о прошлом. "Зачем тебе это? – спросит. – Ты тогда под стол пешком ходила. Да и невыгодно мне свой возраст подчеркивать". Отшутится – и все.
– Что же вы знали?
– То, что все. Он деревенский. На войне был, ранили его, демобилизовали, учился в Москве. Потом его признали…
– Откуда Калугин родом?
– Из Белоруссии.
– У него остались родные?
– Нет, погибли во время войны.
– Когда он женился в первый раз?
– Сразу после войны. Она была из Казани. Вдова. Ее мужа убили на фронте.
– Михаил Михайлович жил в Казани?
– Он ездил туда по делам… не знаю. А теперь вдова я.
Мазин сидел рядом с Мариной. "Пожалуй, спальня маловата". Бросалось в глаза, что, несмотря на размеры всей дачи, комнаты были небольшими. Все, кроме гостиной. Зато комнат было много.
– Михаил Михайлович сам проектировал этот дом? – спросил Мазин, отвлекаясь от главной мысли о прошлом Калугина, которая не должна была звучать навязчиво.
– Да, тут все сделано, как он хотел.
– А какова основная идея этого дома? Вы понимаете меня? Когда человек с возможностями Михаила Михайловича и его индивидуальностью берется за такое сооружение, тут не может быть случайного, тут должна быть общая идея. Зачем такой дом? Спокойное место работы? Или отдыха? Уединения?
– Нет. Только не уединения. Он терпеть не мог одиночества. Ему постоянно нужны были люди. Знакомые, незнакомые. Он любил гостей, любил угощать, любил, когда у нас ночевали, засиживались допоздна.
– Вас это не тяготило?
– Иногда. Но хозяином в доме был он. Однажды я сказала, он вспылил: "Я трачу свои деньги!" Я испугалась, что он сочтет меня скрягой, подобравшейся к тому, что он заработал.
"Она подчеркнула свое бескорыстие".
– Калугин был щедр?
– Еще бы! Вы не поверите, у нас… у него не осталось никаких сбережений. Сразу придется все продавать. И эту гостиницу…
Гостиница! Именно. Дом, в котором будет жить много посторонних людей, – вот как он замышлялся. Или почти посторонних, случайных. У Калугина нет родственников, и вряд ли можно найти столько настоящих друзей, чтобы заполнить все эти комнаты.
Мазин огляделся. Широкая тахта, туалетный столик, шкаф, и совсем мало свободного места… На стене картина или набросок, сразу не поймешь – то ли современная раскованная манера, то ли недописано, недоработано: тяжелый, пасмурный фон, почти такой, как сейчас за окном, силуэты гор, насупившийся лес – все грубо, в невыразительной серо–зеленой тональности, – и вдруг приковывающая глаз яркая точка, пятно, нет, не пятно, а полоска, красный бросок кистью поперек покрытого тучами неба, как след взлетающей ракеты или, наоборот, несущейся к Земле, входящей в атмосферу. Или метеорит? Нет, на картине день, и комок пламени не похож на небесное тело…
– Мрачновато для спальни.
– Ужасно. Далеко не лучшее, что написал Михаил Михайлович. Я говорила, что колорит меня угнетает. Тогда он взял кисть и бросил этот красный мазок. "Что это?$1 – спросила я. Он пожал плечами: "Так лучше смотрится".
Это действительно был один бесформенный мазок. Но случайный ли?
– Михаил Михайлович писал с натуры?
– Ему нравились окрестности Красной речки.
"Он знал, что там самолет, разбившийся, сгоревший", – думал Мазин, глядя на алое пятно – след пламени, прорезавший горизонт.
– В каких войсках служил ваш муж?
– В пехоте.
Это прозвучало отрезвляюще. Где связь между гибелью самолета, разбившегося четверть века назад, и убийством Калугина? Он не был летчиком и не мог находиться в самолете. Но мог оказаться свидетелем его гибели. Мог сражаться в горах, защищать перевалы. Однажды над головой солдат вспыхнул воздушный бой. Калугин видел, как подбитая машина устремилась к земле. Это запомнилось, вернулось через годы, отразилось на клочке полотна, холста. И все? Скорее всего…
– Он воевал на Кавказе?
– Кажется, нет.
– Его не связывали с Дагезаном воспоминания, прошлое?
– Нет. Он выбрал это место потому, что его привлекла природа, натура. Так он говорил. Я еще училась тогда.
– Где вы учились?
Это был снова шаг в сторону, в нужном или случайном, бесполезном направлении, Мазин не знал.
– В цирковом училище.
– Вот как? По призванию?
Потухшее лицо Марины оживилось.
– Цирк нельзя не любить.
Выло в этой женщине трудно воспринимаемое противоречие: цирк, спорт все это требует воли, настойчивости, характера. И тут же стремление жить "просто", по течению, слабость.
– Значит, Михаил Михайлович не служил на Кавказе?
Вопрос вырвался почти вопреки логике.
– Я могу уточнить. Я записала важные даты из его жизни. Чтобы знать, чтобы помнить, чтобы как‑то понять его прошлое, прикоснуться к нему, не быть чужой. Стащила его автобиографию, вернее хронологию. У него хранился такой листок. Как справка. Я переписала.
"Она старалась быть хорошей женой".
Марина достала из сумки блокнот. То, что интересовало Мазина, было записано на листке, спрятанном под обложку. Очевидно, ей не хотелось, чтобы этот кадастр попался мужу. Почерку Марины оказался мелкий, но четкий. И сокращения были понятны. Сверху стояло: "Все о М. М.". Она не привыкла звать мужа мысленно по имени. Дальше шли цифры и короткие слова:
"Род. 21.8.22 в Кулешовке".
"Пост. в шк. – 29 г.".
"Оконч. ср. шк. – 39 г.".
"Пост. пединститут – 39 г.".
"40 г. – призван в РККА".
Так и было написано – РККА – Рабоче–Крестьянская Красная Армия, как называли в те годы. Марина добросовестно скопировала записи.
"41, июль – ранен на фронте".
"41, июль – сент. – госп. Воронеж".
"41, окт. – 42, март – воен. учил. Ашхабад".
"42, май – ранен на фронте".
"42, май – август госп. Арзамас. Признан негодн. Демобилиз.".
"44 – пост. Моск. худ. уч.".
Дальнейшие записи говорили почти исключительно об успехах:
"Перв. выст.", "Награзк.", "Присв, зв." и т. п.
Личных было мало:
"46, сент. 14 – женился на К. Ф. (д. рожд. Вал. – 14.10.41)".
"67, 8 апр. – ум. К. Ф.".
Военные даты Мазин просмотрел еще раз.
Калугин, видимо, начал войну с первых дней на границе и уже через месяц, а может быть, и раньше (числа в записи не было) был ранен, лежал в госпитале в Воронеже, что довольно далеко от Кавказа, а затем был откомандирован в Среднюю Азию, в военное училище. Потом снова фронт, и снова ранение, тоже не на Кавказе, потому что к этому времени немцы сюда еще не добрались. Лечился в Поволжье. Демобилизовался. Учиться продолжал в Москве. Правда, в сорок первом Калугин мог ехать в Среднюю Азию через Баку и Красноводск. Но что из того? Железная дорога проходит по равнине далеко от Дагезана.
Игорь Николаевич положил листок на столик и почувствовал, что дышать стало труднее. Заложило нос. "Неужели ко всем прочим сюрпризам прибавится насморк? – подумал он с огорчением. – Совсем не вовремя, хотя и не удивительно в такой сырости". Он достал платок и уловил непривычный запах. На белой ткани выделялись пятна краски. Платок был выпачкан так, будто краску вытирали, она размазалась по чистому полотну. Но главное – это был не его платок.
– Это платок Михаила Михайловича, – узнала Марина.
Мазину стало неудобно.
– Вы уверены? Не пойму, откуда он у меня.
– Я привезла две дюжины таких платков. Он признавал только белые, но относился к ним варварски. Если не попадалось под руку ничего подходящего, вытирал краски.
– Тогда понятно. Наверно, я сунул платок в карман, когда находился в мастерской.
– Скорее всего. Платки всегда валялись на тахте или кресле.
Возвращать платок показалось нетактичным, неуместным. Мазин спрятал его в карман, почувствовав на ощупь, что ткань грязновата, в чем‑то маслянистом, не только в засохшей краске.
– О чем вы хотите еще спросить?
Оставался трудный вопрос: он собирался спросить о Валерии.
– Где сейчас Валерий?
Марина плотнее поджала под себя ноги.
– Наверно, прячется в хижине возле пруда. – И добавила, имея в виду Калугина: – Мы оба его бросили. Один Алексей Фомич остался с ним. А мы… такие свиньи. Стыдно. Люди разных поколений не понимают друг друга. Я это давно чувствовала, но думала, что мы, молодые, лучше… Нет. Мы трусливее. Бежим куда‑то, в хижину на озере или в самих себя, а Кушнарев остался. Я и перед ним виновата, перед Кушнаревым, он казался мне лишним у нас, вообще в жизни лишним. Смешно, я думала, что жить стоит, пока ты что‑то значишь. А что я значу? – Ей, видимо, становилось легче от этого самобичевания, и она преувеличивала и наговаривала. – Алексей Фомич не подходил к нашей обстановке. Не вязался. Неряшливый, суетливый. Неприятно было видеть на ковре его починенную обувь. И наверно, я ревновала. Он имел какие‑то права на Михаила Михайловича, или нет…
Мазин прислушался.
– Права?
– Моральные, конечно. Старая дружба. Он приходил, когда хотел, много ел. Ел жадно, неаккуратно, вымазывал тарелки хлебом. Как будто голод.
– Вы из обеспеченной семьи?
– Да. Мы всегда жили хорошо. Я ж единственная. Недавно одна журналистка писала, что единственные дети неполноценные, воспитаны ненормально. В основном, загибает, потому что теперь почти все единственные, а не могут же все быть неполноценные? Но что‑то тут есть. Посмотрели б вы на мою мамочку. Уж она‑то не позволила бы мне вымазывать тарелку. Сразу лучший кусочек!
– Кто ваши родители?
– Мама – очень хорошая портниха, а папа – строитель. Я сбежала от их опеки, торопилась жить самостоятельно.
– И вам не нравились неаккуратные люди в вашем доме?
Марина не заметила сарказма. Хотя говорила она охотно, внешне откровенно, но говорила прежде всего сама с собой, отвечала на собственное, о чем раньше не думала и что открылось неожиданно. Не думала… Но чувствовала, может быть подсознательно, потому что если бы не чувствовала, не смогла бы говорить так, как говорила.
– Знаете, что я поняла ночью, когда не спала? Что, когда все в порядке, а у меня было даже лучше, чем "все в порядке", жизнь воспринимаешь неправильно. Действуют вещи незначительные, создается мир пустяков, которые принимаешь всерьез. И не замечаешь главного.
– Что вы считаете главным? – спросил Мазин, с интересом улавливая в Марине нечто новое, прорывающееся сквозь наивный цинизм и бездумный эгоистический фатализм.
– Вы видели, я выписала даты, чтобы покупать цветы в день рождения, а близким человеком не стала, не сумела. И это неправда, что я не любила. Но я о другом… Верьте или нет, его убили не случайно. Он что‑то предполагал, что‑то беспокоило его, но ему и в голову не пришло поделиться со мной. Я была далеко. Я фантазирую, да?
– Зачем вы сказали Валерию, что отец погиб сразу?
Ответ напрашивался: сказала потому, что Валерий – сын, пусть не родной, но он имел право знать правду. Ложь же была рассчитана на преступника, которым не может быть Валерий. Так следовало ответить, и так Марина и ответила, но ответ дался ей с трудом. И трудно было понять, утверждение это или встречный вопрос.
– Но он, он же не мог убить.
– Верно. С точки зрения здравого смысла, нормального, неиспорченного человека. Однако и нормальный человек в самом здравом уме способен оказаться во власти неожиданных, неоправданных сомнений, утратить чувство реальности…
– Что вы хотите сказать?
Она приподнялась на тахте, зябко прижав к плечам мягкий шарф.
– …особенно когда речь идет о человеке близком, которого не хочется подвергать опасности.
– Вы это обо мне… и Валерии?
– Не только. Скорее вообще. – Мазин сказал все, что собирался. Больше говорить пока не следовало. – Вы упомянули, что Кушнарев был близок Михаилу Михайловичу…
– Да, да. – Марина обрадовалась повороту разговора. Видимо, боялась даже продумать, проанализировать слова Мазина, оценить степень их определенности. – Но я не понимала этого. Он казался старым неудачником, навязчивым, неподходящим… Меня раздражало его право на постоянное внимание Михаила Михайловича.
– Опять это слово – право.
– Оно неудачно. Но странно. Казалось бы, Кушнарев должен был чувствовать себя обязанным. Михаил Михайлович так много ему помогал!..
– А было наоборот? Калугина тяготила эта дружба?
– Нет. Однажды я не выдержала, сказала: "Михаил, все‑таки Алексей Фомич неприятный человек". Он посмотрел на меня так… Когда он становился суровым, резким, я чувствовала себя беспомощной. Он бывал обычно мягким, приветливым, но иногда в нем прорывалось непреклонное, категоричное. Возражать было нельзя. И в этот раз он крикнул: "Не смей так говорить!" Я растерялась. А ему стало неудобно, он попытался разъяснить: "Ты молодая. Ты не жила в то время, когда нам пришлось жить, а это было не самое легкое время. Люди испытывались по–настоящему: горе было горе, а жизнь – жизнь. Кусок хлеба был жизнью, а не ужин в "Арагви". Это понимать нужно. И жизнь может ударить неожиданно. Алексея ударило под корень".
– Он стал жертвой несправедливости?
– Да. Михаил Михайлович рассказал мне. Он считался очень талантливым, самородком. Его все любили, прочили блестящее будущее. Тогда особенно любили молодых и талантливых, выдвигали, гордились, писали в газетах. Мировой проект советского архитектора! Да что я вам рассказываю, вы лучше знаете. И вдруг рухнуло. Он любил женщину, очень любил… и ее нашли убитой. Все улики пали на него. Он был последним, с кем ее видели в тот вечер. Он ревновал ее, был вспыльчивым… Его арестовали, обвинили. Он отсидел почти весь срок. В самом конце, уже во время войны, в Москве поймали бандитов, которые грабили квартиры эвакуированных. Выяснилось, что и та женщина – их жертва, а Кушнарев не виноват.
Игорь Николаевич до боли сжал кулак. Судебная ошибка… Такие трагедии по–прежнему случаются; наверно, в полном соответствии с теорией вероятности. Как авиационные катастрофы, преждевременная смерть, необъяснимая вражда между близкими людьми, врываются и они в жизнь, подобно эпидемии в средневековые города, внезапно и беспощадно, и мы до сих пор не можем предотвратить их. Но нельзя смириться с этой проклятой неизбежностью, сколько б ни подкрепляла ее бездушная статистика. И, как всегда в подобных случаях, Мазин испытал острое чувство личной вины, собственной ответственности.
– Алексея Фомича освободили, но он был разбит. Потрясла и ужасная гибель женщины, которую он любил. Сначала он уехал к себе на родину, жил там затворником, приходил в себя, потом появился в Москве, однако создать ничего стоящего не смог. Пришло другое время, другие требования. Начал пить… Михаил Михайлович старался поддержать его. Это я теперь поняла, а тогда…
– Как они подружились?
– Они знали друг друга давно. Но Валерий помнит, что появился Алексей Фомич неожиданно. Много лет Михаил не слыхал о нем. Потом Кушнарев прочитал в газете о выставке… Нет, кажется, это произошло иначе. Не помню точно. Да это неважно.
"Неважно?" Для Марины. Но Мазину, который привык мыслить профессионально, кое‑что в ее рассказе показалось странным.
– Выходит, они возобновили знакомство лет десять или пятнадцать назад?
– Не раньше. Иначе Валерий бы не запомнил.
"Что же говорил Кушнарев? "Просто, когда он (Калугин) был еще неизвестен, мне понравились его рисунки, и я сказал об этом". И слова сыграли важную роль! Кушнарев поддержал Калугина в момент, когда тот нуждался в поддержке, очень нуждался, если память о такой поддержке сохранилась на всю жизнь, не стерлась в годы успеха. Но выбитый из жизни, измученный, забытый Кушнарев не мог сыграть такую роль в судьбе Калугина десять или пятнадцать лет назад, когда тот уже завоевал известность и твердо стоял на ногах. Значит, речь шла о более раннем периоде? Да, архитектор упомянул "давно прошедшее время". Какое же? Арестован он был до войны…"
– Когда арестовали Кушнарева?
– Он любит повторять: "Я жил на свете двадцать шесть лет". А родился он в девятьсот девятом.
"Девять плюс двадцать шесть получается тридцать пять. Если Марина не путает, архитектор попал в тюрьму в тридцать пятом году и, находясь там, наверняка не мог сыграть никакой заметной роли в судьбе Калугина. А до тридцать пятого? До тридцать пятого Михаилу Калугину было… он был мальчишкой, школьником. Вот так арифметика! Кушнарев соврал? Зачем? Своего рода самовнушение? Самообман испытавшего крах надежд человека? Но как увязать эту легенду с сомнениями в искренности Калугина?
Когда я предположил, что Калугин боялся, Кушнарев согласился, даже буркнул: "глубоко копнул". Или это была ирония? Если записи верны, у художника не было никаких оснований опасаться Кушнарева. Абсолютно никаких. Прекрасная биография, простая, чистая, – школа, армия, фронт, учеба, творческий путь – всё по восходящей. И семейная жизнь не вызывает сомнений: очевидная преданность первой жене, забота о ее сыне, потом этот брак, пусть с разницей в возрасте, но по–человечески понятный. Ни единого нарушения ни уголовного, ни морального кодекса. И хотя у него не было к этому никаких видимых оснований, Калугин чего‑то боялся. Однако если я правильно понял, Калугину следовало относиться к Кушнареву дружески и уважительно. Мысль о том, что отношения их не просты, а чем‑то осложнены, отравляла ему жизнь, беспокоила Кушнарева. Иначе он не высказал бы ее так опрометчиво при посторонних, да еще в такой день. Почему же Калугин не должен был бояться? Потому ли, что Кушнарев был ему предан, или потому, что сама причина опасений была незначительной, преувеличивалась? Впрочем, я опять ушел далеко…"
– Простите, Марина Викторовна. Я утомил вас расспросами.
Мазин встал. Но он видел, что ей хочется еще что‑то сказать возможно, спросить. Он посмотрел выжидательно.
Марина решилась:
– Игорь Николаевич, я не совсем поняла вас, когда вы говорили о Валерии. Вы говорили неопределенно, но связывали наши имена.
– Вас это обеспокоило?
– Да. Я уверена, уверена, что Валерий… Даже говорить страшно. Он не мог. Он не такой. И у нас ничего–ничего не было. Хотя он сумасброд, несерьезный.
– Что значит сумасброд?
– Ну, глупил иногда. Мог стать поперек тропы верхом и сказать ерунду: "Требую выкуп. Не поцелуешь – не пущу".
– Эти… глупости не находили отклика?
– Что вы! Никогда. Он просто шутил, я думаю.
– А Михаил Михайлович знал о таких шутках?
– Нет. Ему было бы неприятно.
"Да, такие шутки радости не приносят. Она это понимала. Однако Калугин мог знать. Знал же Демьяныч".
– Спасибо, что поделились, Марина Викторовна. Не беспокойтесь, придавать этому значения я не собираюсь.
"Это всего лишь одна из рабочих гипотез", – добавил он про себя.
Позднее Мазин удивлялся своеобразному двойному течению времени в эти три дня. События развивались стремительно. Смерть Калугина, вторичное покушение на него, выстрел на озере – все это заняло меньше суток и, казалось, требовало лихорадочного ответного ритма, энергичной деятельности. Между тем сам Мазин воспринимал происходящее как бы растянутым на гораздо более широком промежутке времени; он не мог избавиться от ощущения, что находится в Дагезане давным–давно, а не приехал сюда вчера, погостить у Сосновского. Ощущение это смущало, вызывало сомнение в правильности собственных действий.
"Я похож на самодовольного неторопливого чиновника, которого даже пуля под мышкой не может расшевелить, нарушить консервативную привычку поспешать медленно. А ситуация иная. Нужны немедленные решения. Мне показалась наивной прямолинейная уловка Бориса объявить Калугина живым, а убийца на нее клюнул и попался бы намертво, если б я не промедлил. И продолжаю медлить, предпринимаю продолжительные исторические экскурсы, а требуется прежде всего определить, от кого исходит опасность, и принять меры, чтобы никто больше не пострадал".
С этой мыслью Мазин вошел в гостиную, где усвоивший азы дисциплины Коля Филипенко терпеливо дожидался его за столом.
– Как вахта?
– Валерий приходил.
– Наконец‑то! Блуждающий форвард. К себе пошел?
– Нет. Сначала у Алексея Фомича был, потом вас спрашивал. Я сказал. Он походил по комнате, походил, наверх поднялся, туда. – Мальчик показал пальцем на мансарду. – Спустился быстро, опять про вас спросил. Узнал, что вы не выходили, выпил стакан вина и ушел.
– Не знаешь куда?
– Не… Вы же сказали, сидеть.
"Интересно, зачем я понадобился Валерию?"
– Ладно. Гуляй пока.
Игорь Николаевич подтолкнул Колю к дверям и вышел вслед за ним. Пушистые хлопья спускались с неба, украшали неторопливо ближние елки. Мазин невольно поискал игрушки на ветках – так по–новогоднему выглядел этот еще раз сменивший декорации Дагезан. Из взлетевшего над дорогой снежного роя появился всадник. В своей неуместной соломенной шляпе с отсыревшими, опустившимися полями Демьяныч походил на Санчо Пансу, покинувшего сумасбродного хозяина.
– Мое почтение, Игорь Николаевич! – Пасечник наклонился в седле. Новенького‑то что?
Говорить о ранении не хотелось.
– Все по–старому. Ничего не известно.
– Ничего, значит? И то слава богу. – Пасечник тронул осла каблуками. – Может, на чаек зайдете? Я согрею.
– Спасибо. Захаживайте и вы.
– Правильно, доктор, – услышал Мазин сзади.
Он еще провожал взглядом пасечника, трусившего на ишаке по присыпанной снегом дороге. Голос принадлежал Валерию. Невозможно было спутать его ироническую и вызывающую интонацию.
– Чем я вызвал ваше одобрение? – спросил он, медленно оборачиваясь.
– Осторожностью. Побоялись, что он вам яду в чай подсыплет? А? Краснодарский чай, экстра, с ядом. Звучит?
– Интересно… Зачем?
– Черт его знает!
– Не знаете? А почему подумали?
– Чтобы существовать: мыслю – значит существую. Вот и хочется просуществовать подольше. Естьу нас еще дома дела.
Мазин пристально посмотрел на художника.
– Что вас натолкнуло именно на это мрачное предположение?
Валерий ответил раздраженно, но не по существу:
– А что вы уставились на меня? То вам обернуться лень, то рассматриваете, как в телескоп.
– Вы красивый парень, Валерий. Фигура у вас хорошая, физкультурная. И лицо выразительное: подбородок мужественный, нос приятный.
– Премного благодарен!
– Не спешите, я не кончил. Удивительно постоянно созерцать на вашем мужественном лице какое‑то капризное, я бы сказал, по–бабски обиженное выражение. И эта ваша страсть к стишкам…
– Кончайте, доктор. Тоже мне психоаналитик! Люблю я стишки. Хотите послушать? "Первая пуля ранила коня". – Валерий сделал паузу. – А вторая выбила стекло в известной вам хибаре.
Мазин почти точно описал внешность молодого художника, открытое лицо которого портила застывшая обиженная гримаса, да еще выглядело оно неряшливо – спутанные волосы, проросшая щетина, налет чего‑то темного, нездорового, отчего лицо казалось невымытым.
– Вы искали меня, чтобы сообщить об этом?
– Нет. Чтобы спросить, кто будет вставлять стекло.
– Милиция установит.
– Пока милиция доберется, вам еще пару дырок просверлят.
– За что?
– Вам виднее.
Как хотелось Мазину, чтобы ему и в самом деле было "виднее", но видел он пока меньше, чем Валерий, и потому приходилось продолжать этот напряженный, прощупывающий разговор с нервным, ощетинившимся художником. Но тот внезапно, подчиняясь какой‑то внутренней, непонятной Мазину логике, убрал колючки.
– Послушайте, док! Я вас так на американский манер называть буду, чтобы покороче. Что мы сцепились, как собака с кошкой? Двух дней не знакомы, а обязательно слово за слово. Где ваш друг, прокурор?
– Он…
– …не прокурор. Знаю. Плевать! Вы ведь тоже не доктор?
– А кто же?
– Меня это не касается. Хотите проходить за доктора, пожалуйста! Только не беритесь лечить младенцев. Мамаши вам этого не простят. И не придирайтесь ко мне на каждом шагу. Пойдемте лучше к прокурору и обсудим кое‑что. Для вашей пользы.
И Валерий смахнул с носа таявшие снежинки.
Сосновский задумчиво мерил комнату шагами. Он посмотрел на вошедших, как бы соображая, что это за люди.
– Те же и Калугин–младший, – отрекомендовался Валерий.
– Никого больше не подстрелили?
– Кажется, никого, но Валерий не исключает возможности отравления. Он не доверяет Демьянычу.
– Вот как! – отозвался Борис Михайлович деловито. Заметно было, что его уже ничем не удивишь. – Факты есть? Основания? Почему заподозрил старика?
Валерий сморщился.
– Я видел его с карабином Филипенко минут через пять после выстрела на тропе за хижиной.
Это произвело впечатление.
– Расскажи!
– Встретились случайно. Мне не хотелось идти домой. Спросите, почему? Долго объяснять. Но было нужно. Бросить Марину одну – свинство, хотя и ее видеть не хотелось. Но это не относится. Короче, решил идти дорогой, что подлиннее. Вдруг – выстрел, отчетливый, винтовочный. Думаю – Матвей…
– Вы знали, что у Филипенко есть карабин? – уточнил Мазин.
– А кто не знал? Не сбивайте меня. Думаю – Матвей, но вспомнил, что егерь‑то в район собрался. Кто ж палит? Матвей – мужик сердитый, не дай бог его оружие в руки взять. Посмотрели б вы, как у него глаза кровью наливаются! Ну, я пошел на выстрел. Идти пришлось недолго.
– С осторожностью или напрямик?
– Выслеживать не собирался.
– И что же?
– Наткнулся на старика. Усаживается на осла, в руке карабин.
– Что он сказал? – нетерпеливо спросил Сосновский.
– Ничего он мне не сказал, потому что я ничего не спрашивал.
В словах Валерия промелькнула неуверенность, сомнение в том, что его правильно поймут.
– Тебя не удивило, что стреляет Демьяныч, да еще из чужого карабина? – Сосновский повернулся к Мазину. – Старик проповедует: "не убий" живую тварь, а тут с карабином!
– Слишком удивило. Пока соображал, он на ишака взгромоздился и отчалил.
– Не заметив вас?
– Я, док, стоял за деревом.
– Куда он дел карабин?
– Увез.
– Открыто?
– Разве его спрячешь? Не иголка. В карман не поместится.
– Резонно. А дальше?
– Пошел домой, тут и узнал, что стреляли‑то в вас. Снова удивился.
– Кто вам сказал?
Валерий усмехнулся непонятно:
– Кушнарев сообщил.
– Интересно, с какой целью?
– Не ведаю. Глубокомысленно плел, с подходами и намеками.
– На что намекал?
– Сволочь!
– А если без эмоций?
– Пожалуйста! Меня подозревает.
– Не горячитесь, Валерий! В такой запутанной ситуации можно заподозрить кого угодно. Кушнарев – вас. Вы – пасечника.








