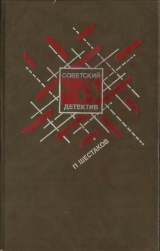
Текст книги "Страх высоты. Через лабиринт. Три дня в Дагезане. Остановка"
Автор книги: Павел Шестаков
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 36 страниц)
– Спрашивай.
Может быть, Мазин ожидал, что спрашивать не придется, но он был готов и к такому варианту.
– Николай Сергеевич видел дневник дважды. В первый раз там были все страницы, а потом оказалось, что последние вырваны. Правда это?
Чашка дрогнула в ее руке.
– А если совру?
– Ну, что вы.
– Вырваны страницы.
– Вадим вырвал?
Она сказала спокойно и с достоинством:
– Виновата. Не он вырвал.
Следовало спросить: "А кто?" Но Мазин ждал.
– Я вырвала.
Это был логичный ответ. Если не Вадим, то больше некому. И все‑таки я поперхнулся.
Мазин спросил, не повышая голоса:
– Вы уничтожили их?
Полина Антоновна поднялась, высокая и прямая.
– А зачем вы правду ищете?
– Я сказал, чтобы пресечь зло.
– В чем оно?
– Если бы телефон не был отключен, Сергей, возможно, был бы жив. Это первое. Второе. Хотели убить Перепахина.
– Да какое это отношение имеет?..
– Прямое.
Тогда она вышла из‑за стола, наклонилась над комодом, выдвинула ящик, нащупала что‑то под сложенными простынями и достала.
– Читайте. – Два свернутых пополам тетрадных листика она положила перед Мазиным. – Читайте вслух.
Но Мазин протянул их мне.
– Прочитай. Ты знаешь его почерк.
Я вытащил очки. Сразу было заметно, что запись сделана позже, чем все остальные. Чернила меньше выцвели. Первая строчка была видна очень ясно, но я никак не мог найти силы произнести ее.
– Читай, – повторил Мазин.
Я произнес с трудом:
– "Это я убил Михаила…
Никакие смягчающие причины и обстоятельства не могут оправдать меня в собственных глазах. А именно это главное. Меня не утешает формальная логика, которая гласит – после не значит поэтому. Я знаю, то, что случилось после, произошло поэтому. Но я не пошел и не рассказал. Смешно, если бы мне пришлось доказывать суду собственную вину. Но и это отговорка. Почему же я скрыл правду? Не хотел причинить ей незаслуженные страдания? А если честно, струсил? Нет, не знаю. Но я виноват".
На другой странице была одна короткая запись.
"Как случается такое? Живет человек, любит, надеется. И вдруг на него обрушивается…"
Видимо, он собирался продолжать, но раздумал или помешало что‑то. Фраза оборвалась, и ничего больше написано не было. Музыка, какая‑то современно–нелепая, вдруг громыхнула за окном, во дворе, и тут же, к счастью, приемник или магнитофон прикрутили.
Мы посмотрели на Полину Антоновну.
– Он не убивал его.
– Расскажите, – попросил Мазин.
Она отодвинула от себя чашку.
– Не думала, что придется, не хотела… Ведь вся жизнь его исковеркалась. Ну, да теперь что…
– Я и представлял… – начал было я, но тут же заметил, что сказал "представлял" вместо "не представлял", и умолк. Вовремя. Нельзя было ей мешать.
– Он любил Наталью. А она его нет. Что поделаешь? Сердцу не прикажешь. Но он очень любил. И вдруг узнал, что она любит Михаила. И не только любит. Ребенок будет. Произошло объяснение. Здесь. Но что и как, я не слышала. В кабинете говорили. Да я и не подозревала, о чем. Потом вышли все втроем… Третий Женька Перепахин. Он и узнал, что Михаил к Наталье ходит, и сказал Сергею.
– Сказал… Он сказал.
– Понятно. И они ушли?
– Недалеко. Только во двор спустились… Вдруг возвращается Сережа. Очень быстро. И лица на нем нет. "Что с тобой?" – "Тетя, я ударил его. Сильно ударил". – "Кого?" – "Михаила". – "Как? Почему?" – "Он подлец. Он мне такое говорил… Про Наташу. Он так назвал ее… Я ударил его палкой. Он упал, кажется…"
Полина Антоновна прервалась:
– Сейчас я…
Она покинула нас на минуту и возвратилась с палкой. Я сразу узнал эту палку. Она досталась Сергею от деда, вишневого дерева палка с тяжелой металлической ручкой. Он пользовался ею долго, а потом перестал. Говорил, что с ногой стало лучше. Теперь я вспомнил, что произошло это после смерти Михаила.
– Вот! – Полина Антоновна положила палку на стол. – Сергей ударил, тот перехватил палку, поскользнулся, упал. Так я поняла со слов Сережи. Я набросила платок, побежала во двор. Все‑таки ударил, упал… Мало ли что… Но честью и совестью клянусь, Михаила я не видела. Во дворе его не было. Только эта палка валялась. Я подобрала ее…
Полина Антоновна остановилась, чтобы передохнуть.
– Не волнуйтесь, – сказал Мазин. – Мы вам верим.
– Не вру я. Какой смысл? Особенно теперь. Да разве одним ударом такого парня убьешь! Он вырвал палку у Сергея, бросил ее и пошел… Я вернулась, говорю: "Успокойся, Сережа, нет его во дворе. Ушел Михаил. Расскажи все толком". Сергей рассказал. "Если так, – я сказала, – пусть не возвращается". И он не вернулся. Через час шум во дворе, милиция приехала, мертвого нашли в подворотне. Но погиб он не от руки Сергея.
Мазин ощупал металлическую ручку.
– Да. Смертельный удар был нанесен другим предметом.
– Спасибо, – наклонила голову Полина Антоновна. – Но промучился Сергей всю жизнь. И моя вина тут есть. Я ему рассказывать запретила. "Не смей из‑за подлеца жизнь губить!" Не его вина.
А он писал иначе.
– Вы думаете, он вас послушался? – уточнил Мазин.
– Ее он не хотел впутывать, вот что тут роль сыграло.
Полина Антоновна сказала все.
Но как ни потрясло меня прочитанное и услышанное, суть дела осталась прежней. Убил Михаила все‑таки случайный подонок, и винить в его смерти Сергея, Полину Антоновну или самого погибшего, оказавшегося совсем не тем человеком, каким виделся нам в юные, во многом наивные годы, можно было лишь чисто житейски, отдаваясь чувствам, вины юридической ни на ком, разумеется, не было. Так я размышлял, упустив при этом нечто очевидное и существенное, чего не мог, конечно, упустить Мазин.
– Был еще Перепахин.
– Женька? Нет, его не было.
– Вы говорили, что они вышли втроем.
– Вышли вместе, это верно, но только спустились вместе. В дворе, когда ссора снова вспыхнула, Женька сказал: "Ну, разбирайтесь сами". И ушел.
Наверно, мы с Мазиным одновременно подумали об одном – Перепахин мог считать Сергея убийцей. Но Полина Антоновна будто подслушала нас.
– Потом Сергей все рассказал ему. Женька поверил, это так. Он любил Сергея. Всю жизнь от него не отставал.
Что ж, и тут был резон. Вряд ли Перепахин так тянулся всегда к убийце. Скорее бы отошел. Умолк, хотя бы из нежелания в суде фигурировать, и отошел. Забыть бы постарался.
– Вот вам и все, – заключила Полина Антоновна. – Не хотела я говорить, а теперь вроде даже полегчало. Лучше правду не таить. И что бы вы ни сказали, я Сергея не виню. Как он мог поступить иначе? Парень, мужчина. И его оскорбили, и девушку предали. Должен был ударить, я считаю. А дальше все пошло по случайности. Если и есть вина, то на мне. Вяжите старуху. Раз закон требует.
– Закон, Полина Антоновна, не мертвая машина. Он тоже кое‑что понимает. Не такая уж слепая Фемида, хоть и с завязанными глазами. Если бы косила слепо, наверно, люди бы с этим не смирились.
Мазин встал, глянув на часы.
– Спасибо вам. Вам легче, и нам тоже. Мы к вам не из праздного любопытства, поверьте.
– Верю, – проронила она.
– Ужасная история! – сказал я Мазину, садясь в машину. Но он думал о своем и на мои эмоции не откликнулся. Тогда я пустил пробный шар иного рода: – Я понимаю, тебе это мало что дало. Но я потрясен.
– А мне предаваться воспоминаниям некогда. Я должен дело довести. То, которое я проиграл когда‑то.
– Каким образом? В сущности, что было, то и осталось. Кто убийца по закону? Тот, кто нанес смертельный удар. А его все равно не найти. Помнишь вывороченные карманы? Что в них было? Он же бедный студент. Две–три старых десятки в лучшем случае. Ни фамильных перстней, ни именных часов, ни портсигара с монограммой, никаких обличительных предметов. Мразь, преступник наткнулся случайно и убил, воспользовавшись грошами. Если он жив, его уже никогда не уличишь. А скорее всего сгнил где‑нибудь или дружки прирезали.
– Все может быть, – вздохнул Мазин. – Но все‑таки нужно поговорить с Перепахиным.
– Сейчас?
– Потом можем не успеть. Он ведь ходячая развалина. Был. А сейчас лежачая. После этой встряски у него все обострилось – и печень, и сердце…
– Неужели так плохо?
– Медицине виднее. Но я одно знаю, к черте он сам вышел, а вот за черту его подтолкнули, во всяком случае, подтолкнуть пытались.
Иногда такая настойчивость не убеждает меня, а вызывает даже противодействие.
– Но почему ты категорически отвергаешь попытку самоубийства? Ведь была надпись в членском билете?
– Надпись – пьяная выходка. Ему не дали работу в реставрационных мастерских. Это мы установили. Вот он и намарал в знак протеста.
– Так просто ларчик открывался?
– Непросто. Этот ларчик один из многих, как содержимое сундука, в котором Кащеева смерть хранилась. Не ларчик, одна из матрешек.
Машина бежала по людным улицам, мимо домов, магазинов, стеклянных витрин, деревьев, по–осеннему одетых людей в плащах, с зонтами, предусмотрительно подготовившихся к непогоде, а осень, прохладная, все еще радовала ясным небом, солнцем, добродушно светившимся где‑то за высокими зданиями. Было хорошо, и хотелось, чтобы никто из этих поспешающих или, наоборот, медлительных прохожих никогда не испытал боли и горечи, жил достойно и честно и не знал и не подозревал, почему мы едем мимо в машине.
Пышные, но увядающие уже цветы покрывали просторную площадку перед больницей. Мы вышли, поднялись к главврачу.
– Как? – спросил Мазин, и я понял, что он здесь уже не в первый раз.
Врач потрогал переносицу коротким пальцем.
– Боюсь обнадеживать. Если хотите, вообще удивительно, что он жив.
– Но он же еще не старый, – не выдержал я.
– У алкоголиков время течет иначе, – ответил врач.
Мы накинули халаты и вошли в палату, где я совсем недавно разговаривал с Перепахиным. Он снова был тут один, но на этот раз лежал. И заметно было, что стало ему хуже.
И тем не менее я бы не сказал, что наше появление вызвало в нем протест. Напротив, тусклые глаза чуть посвежели. И все‑таки это были уже совсем не те глаза, что видел я несколько дней назад. Исчезла подвижная детскость, молодившая рано постаревшее лицо. На подушке лежала голова старика. Врач был прав, время, убыстренное пьяным угаром, сделало свое дело.
– Какие люди, – произнес он, желая говорить иронично, а сказал тихо и без всякого выражения. – Яблоки принесли?
– Мы по делу, Евгений Иванович.
– А разве со мной можно еще иметь дела?
– Только один вопрос. – Он не возразил. – Вы не можете вспомнить, что с вами было перед тем, как вы попали в больницу?
– Какая разница…
– Вам хотели повредить.
– Чем? Водкой? Нет. Это я сам. Я говорю: "Зачем ты эту гуделку завел?" А он: "Я тебе кофе смолоть хочу". – "Не надо мне кофе. Дай лучше водки". Он дал…
– Кто?
– Не помню. Мало ли кто… Я к каждому зайти мог. Там на дачах меня все знали.
– Это на даче было? – спросил я.
– На даче, – ответил он равнодушно.
– Хлюст! – вдруг неожиданно для самого себя произнес я громко. Слово будто хлестнуло, и Перепахин вздрогнул.
Я хотел было тут же спросить, уточнить, но Мазин схватил меня за руку. Я понял: важно не пережать, не вынудить, подтвердить то, что в наших головах сидело, а получить осмысленное добровольное показание.
Лицо Перепахина приобрело недоброе выражение.
– Он поил…
– Вадим?
– Хлюст, – подтвердил он тихо.
– Вы не ошибаетесь?
– Нет, все вспомнил. К нему меня занесло… пьяным ветром.
– С набережной?
– Какой набережной?
– Вы оставили на набережной пальто.
– Не помню… Нет, не оставлял. Что я, псих? И не люблю я набережную. Вода бежит темная. Мне еще с детства снится темная вода. Я этот сон не люблю…
Он говорил монотонно, будто сам с собой.
"Насколько можно ему верить?.."
И вдруг спросил:
– Мне крышка?
Мазин положил руку на одеяло, которым был укрыт Перепахин.
– Так думать не нужно.
– Дети у меня… Что вам еще сказать?
– За что он мог вас ненавидеть?
Перепахин долго молчал.
– Я сам виноват.
Ясно было, что он снова утрачивает силы. И он понимал это. И предложил решение, которого я не ждал.
– Трудно мне… говорить… Отвечать… Думать нужно… Вспоминать… А вы не можете магнитофон мне дать? Я бы по слову… понемножку рассказал. Длинно это и трудно. Но я не сплю ночью. Понемножку… Можете?..
Вот и кончилась моя затянувшаяся остановка.
Мы прогуливались с Мазиным по перрону, ожидая припоздавший поезд. Солнце упорно держалось, и надежды мои не иссякали. А настроение в целом было минорное. Все разъяснилось, жизнь поставила точки. Тайное, скрытое стало явным, а справедливость заняла достойное место. И все‑таки… В ушах звучала длинная перепахинская запись. Хотя паузы и удалили – говорил он с большими промежутками, – сама речь не имела организованной последовательности, и требовалось напряжение, чтобы проследить за содержанием. Выходило приблизительно так:
"Я понял, он меня убить хотел… Хлюст. Дурак. Меня водка и без него сгубила. Детей жалко. Прошу государство детей не оставить!..
Когда я стал пить непрерывно, провалы в памяти образовались. И сейчас не помню, что я ему наплел про Михаила. Немного только помню. Когда он свое дурацкое открытие сделал, что Сергей Ленкин отец, мне смешно стало. Я так и сказал – дурак ты! А потом он вытягивал, почему дурак… Значит, я проговорился. Что у трезвого на уме… А разве такое забудешь?..
Мишка был сволочь. А мы, лопухи, его за приличного парня держали. Я его не выслеживал. Он почти открыто к Наталье ходил. И ночевать оставался. Она хорошая. Но попалась. Поверила. Любила его. Баба…
Я думал, говорить Сережке или нет? Должен же он правду узнать! Так или иначе узнал бы… А еще мне хотелось разоблачить эту сволочь. Он меня презирал всегда. Красавец удачливый… А я в художественное училище не прошел… Бездарь. Ну и что? Человека унижать никто прав не дал. А он меня однажды за ухо оттрепал, как малявку. Никогда не забуду…
Правда, я не ожидал, что Сергей так переживать будет. Он же просто с ума сошел. А тот спокойненько, свысока глумился: "Ты жизни не знаешь, женщин не знаешь…" Сережка ему: "Я такой жизни и знать не хочу". – "А другой не бывает". – "Бывает!" Шумели очень. Мне за Сережку плакать хотелось. Потому я не выдержал. "Разбирайтесь сами!" И ушел. Нет, не ушел. Любопытство пересилило. Стал в подворотне. Все видел, как Сергей ему влепил. Идет, сволочь, вытирается. Мне бы уйти, а я не ушел. "Схлопотал?$1 – говорю. Он озверел. И опять меня за ухо. Хрипит: "Заложил? Становись на колени, убивать тебя буду…" И гнет к земле. Тут я коленом об кирпич какой‑то треснулся. От боли и от страха силы нашлись. Схватил камень…
Дальше не помню. Трагедия это. Все. Вру, помню. Я ему карманы вывернул. Правильно сделал. На бандита подумали… Потом жизнь покатилась. Пил много. Потом хлюст этот появился. Стал высчитывать, когда Ленка родилась. Я ему сдуру фото дал. Он поил меня, конечно… Не помню, когда, но, выходит, сказал что‑то про Сергея. Тот хлюст к нему и подобрался…
Я тогда утром встретил его. Он к Сергею шел. Я – к телефону. Он отвечает: "У меня Вадим". Что я сделать мог?.. Когда пришел, поздно было. Телефон отключен…"
Это лишь кусочки из длинной записи, где многое повторялось, а многое было несущественным. Вольно или не вольно Перепахин, конечно, поступки свои приукрашивал, маскировал. Действительность была жестче. Не исключено, что шантаж Сергея задумали они вместе. Когда Сергею стало плохо, Вадим вместо помощи отключил телефон…
О том, как они дальше общались, можно судить по выразительному слову "хлюст". Опустившийся до предела Перепахин был опасен и не нужен больше. Вадим новую карту разыгрывал: Сергей – отец, а не убийца.
– А на что он рассчитывал, если серьезно? – спросил я.
Мазин подождал, пока прошла мимо тележка с почтой.
– Он пил бутылку в день. Правда, не сразу. Но тем более… В таком состоянии человек может рассчитывать на все, что угодно. Только хорошее в голову не приходит. Конечно, если смотреть разумно, все это были обреченные авантюры. И вел он себя глупо. Чего стоит одна выдумка принести пальто на набережную…
– Да. Зачем он это сделал?
– Наверно, хотел замести следы. Чтобы мы искали Перепахина в реке.
– Но ведь его нашли в другом месте.
– Может быть, Вадим собирался поджечь дачу или спрятать ночью труп где‑нибудь в садах. Мало ли что могло крутиться в пьяной голове. Недаром мальчишки, которые видели, как он спускался к воде, сказали: "Алкаш утонул!"
Между прочим, свидетельство ребят очень пригодилось. Они твердо отвергли личность Перепахина и по фото назвали Вадима. Самого Вадима пока предъявить свидетелям не удалось. Я спугнул его. В тот же день он оставил Лене записку и исчез. В записке значилось:
"Все против меня. Считаю унизительным оправдываться. Уезжаю. Считай себя свободной".
Когда Мазин показал мне записку, я почувствовал себя скверно.
– Ничего, – сказал он, – куда ему бежать? Не тот преступник, чтобы скрыться.
– Какого же я свалял дурака!
– Бывает. Я и сам виноват. Не придержал твою инициативу.
Так он меня успокоил немного, а теперь провожал на вокзале. По радио объявили:
"Поезд номер… следующий из… прибывает на четвертый путь". Подошло время прощаться.
– Я напишу тебе, когда… хлюст отыщется.
Странно, но именно это меня мало интересовало. Конечно, его задержат. Мазин прав, не тот преступник. Но почему именно такой? Откуда эта пустая душа, эта способность даже не убивать впрямую, а ускорять смерть, низко, подло отключить телефон, подсыпать снотворное?.. Остатки его, кстати, обнаружила экспертиза в кофемолке на даче, хотя Вадим и мыл, разумеется, кофемолку. Как этот умненький, вежливый мальчик превратился в беглого преступника? А ведь все в жизни было дано, дороги открыты… Чего же не хватило? Характера? Ответственности? Что увело с пути? Сам? А наша снисходительность? Склонность прощать без меры? Нетребовательность, которая не от доброты идет, а от равнодушия? И бутылка, рюмка с ранних лет, граммы за граммами, пока вместо ума и воли не остается слепая машина, что живет на ежедневной подкачке, "поддаче", пока мир не разделится на два – серый, не интересующий, и иллюзорно–заманчивый?.. Нет, не заманчивый, а больной, который нужно поддерживать постоянными дозами, а на дозы нужны деньги, а заработать их сил нет, и вот он, шаг за черту, достать, взять любыми средствами… Вот куда и библиотека Сергеева пошла бы, и уникальная коллекция…
Поезд подошел и остановился. Проводницы протирали поручни. Я протянул Мазину руку.









