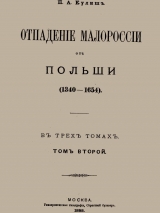
Текст книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"
Автор книги: Пантелеймон Кулиш
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
«Нынешнего времени в земле Лятцкой велие есть смятение и междоусобная рать зельная, какова не была отдавна, и ныне все в отчаянии есмы и в страсе великом от ляхов, и еще преодолевают наших казаков, ктому не мощно нам быти живым. И в нынешний час перевозятся на сю сторону Днепра, ляхи, литва с Радивилом, шездесят тысячей сказывают их быти».
В послании к московскому патриарху судьба малорусского православия представлена еще в более мрачном виде:
«Ныне прииде время, еже бежати нам от лица луку сильных, глаголю же врагов сущих нашея православные и благочестивые, с солнцем восходящие веры и церкви нашея восточные апостольские ненавистников, хулников, гонителей, ляхов, кои отдавна изостриша язык свой, яко меч остр, дыщуще на ны огнем ярости злопамятства, кои пообладаша беша все благочестивые церкви российские и монастыри, всех нас, яко заплененных, под ся покориша. И се ныне, Божиим манием и попущением, оружие приимше, пособием Божиим, войско наше православное казацкое Запорожское, не терпяще преизлишних бед от ляхов поносити, ополчившееся противу им сташа, еже есть слышано, яко мимошедшего лета вторицею и третицею неизбежные ляхи от наших побеждена быша; и се ныне сильнее первого на наших вооружишась, и онех убо множество, насских же в малом числе сочести. И сего ради боимся и зело ужасаемся, да не како безбожные ляхи преодолевают казаков наших и месть сотворят злую над нами, безо всякого пощадения и милосердия».
Посланцов Калистрата путивльские воеводы не пустили к царю. Но тем не менее монашеские вопли должны были волновать в Москве общественное мнение, находившееся под влиянием духовенства. Между тем, из расспросов, сделанных по заведенному порядку воеводами у этих посланцов, видно, что монахи писали в Москву то, что было нужно казакам, все равно как в прежние времена казаки в свои петиции на сейм включали то, что было нужно духовенству. Полковники Хмельницкого рассылали по монастырям реляции о своих победах, а вернувшясь из похода, являлись к монахам с приношениями, которые заставляли честных отцов забывать уверение Киселя и других православных панов, все еще продолжавших созидать и благодетельствовать наши храмы, что война с казаками идет вовсе не за веру, а за опустошение края, за предательство его татарам, за нарушение государственного права и оскорбление королевского величества. Таким образом казацкая и поповская мстительность торжествовала над правдою фактов, и православные люди от берегов Тясмина до реки Москвы твердили хором, что в Малороссии идет война за веру. Великоруссы разуверились в этом только тогда, когда Выговский и другие предатели, питомцы Хмельнитчины, стали поступать с ними так, как до сих пор поступали с безбожными и злочестивими ляхами, а малоруссы не стыдятся и после Мазепы проповедовать, что «казаки были единственными борцами за православную веру и русскую народность».
Оставаясь непроницаемою в своих намерениях, набожная, чинная, величавая и вместе с тем, по замечанию поляков, тонкая (subtelna), Москва угощала Чигиринского увальня, Вешняка, с обычным своим хлебосольством. По царскому указу, велено было дать ему «государево жалованье в стола место: колач смесной в полторы лопатки, блюдо икры чорные, лещь или стерлядь паровые, звено белые рыбицы, блюдо вухи рыбы свежие, звено белужины, щуку колодку; питья: две кружки вина двойного, две кружки романеи, две кружки ронского, две кружки меду вишневого, или малинового, полведра меду паточного, ведро меду цеженого, два ведра пива доброго».
Царь Алексей Михайлович милостиво принял присланные казацким верховодом лошадь (оцененную потом в 45 рублей) да лук турской, и спросил через думного дьяка о здоровье гетмана Богдана Хмельницкого: Вешняка и четверых его спутников «пожаловал к руке; но выслушать гетманской лист и на тот лист и на речи Вешняка обещал, через того же думного дьяка, учинить указ приказными людьми иным временем».
Казацкому посольству было придано значение обыкновенного «приезда казаков к Москве для испрошения государева жалованья». – «В доклад» было написано Посольским Приказом, что «1646 году гетман Запорожского войска, Николай Зацвилиховский, присылал к царю лист да двух человек языков татарских». Сообразно с отпущенным его гонцам жалованьем, было дано жалованье полковнику (Мужиловскому) и десяти человекам казаков, которые привезли в Москву иерусалимского патриарха Паисия, а сообразно с этим жалованьем был награжден и Вешняк с товарищи. Они получили: «отлас гладкой, сукно лундыш [98]98
Fein holländisch, по-польски falendysz. Из этого сукна казаки носили так называемые жупаны-луданы.
[Закрыть] самый доброй, камка добрые, два сорока соболей по 50 рублев сорок, денег 30 рублев; казакам трем человеком по сукну по англинскому по доброму, по две пары соболей по 5 рублев пара; денег по 10 рублев; людем их и полковникову конюху всего 6 человеком, по сукну по доброму, по паре соболей, по 2 рубли пара, денег по 10 рублев человеку».
Июня 12, через 8 дней по прибытии Вешняка в Москву, он был отпущен царем, у которого поцеловал руку, но с которым «розговорить устно», как это писал Хмельницкий, было бы слишком высокою для него почестью. На отпуске думный дьяк сказал ему в присутствии царя:
«Федор! великий государь-царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, велел к тебе сказати: Приезжал еси к нашему царскому величеству по присылке запорожского гетмана, Богдана Хмельницкого, с листом. И мы, великий государь, тот гетманов лист выслушали, и гетмана и все войско Запорожское за их службу, что нашие царского величества милости ищут, жалуем – милостиво похваляем. И против того гетманова листа посылаем с тобою к нему, гетману, к Богдану Хмельницкому, нашу царского величества грамоту да нашего государева жалованья три сорока соболей».
«А после того» (записано в столбцах) «думной дьяк Михайло Волошеников, объявил им государево жалованье при государе, а молыл: Полковник Федор! великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует тебя своим царским жалованьем: отлас, камка, сукно багрец, два сорока соболей, денег 30 рублев».
Так патриархально и вместе так отчетливо велось государево хозяйство московское, вовсе непохоже на польское, в котором иной раз было разливное море для всех выдмикуфлей, а иной – на королевской кухне недоставало дров и говядины, а сенаторы-резиденты голодали вместе с своим «великим монархом», от иностранных же послов, случалось, великий монарх бегал из Варшавы на охоту, чтобы в нимвродовской жизни скрыть свое постыдное убожество.
Из приема Вешняка явствует само собой, что тайный договор с казаками и пересылка сенаторских писем к казацкому гетману могли явиться только в шляхетских умах, которые по-казацки мутил взбунтовавшийся шляхтич.
В ответной своей грамоте, врученной Вешняку, царь писал, что желание Хмельницкого и обещание служить ему, великому государю, со всем Запорожским войском – милостиво похваляет, но что наступить царским ратям на казацких неприятелей нельзя, потому что отцом его, царем Михаилом Федоровичем, заключено с покойным королем Владиславом и с его наследниками «вечное докончанье», утвержденное на обе стороны их государскими душами, крестным целованьем и грамотами и печатьми». – «А будет королевское величество» (сказано в заключение) «тебя, гетмана, и все войско Запорожское учинит свободных [99]99
Вчерне было подписано сперва: «А будешь ты, гетман и все войско Запорожское, у короля и у панов-рад учинитеся свободны.
[Закрыть], без нарушенья вечного докончаня, и мы, великий государь, наше царское величество, тебя, гетмана, и все войско Запорожское пожалуем – под нашу царского величества высокую руку приняти велим» [100]100
Это место также вчерне было написано иначе, а именно: «А будет, вам в чем учинитца теснота и гоненье, и которые на нашу царского величества сторону переходить учнут, и мы, великий государь, для православные христианские веры, по тому ж тех приняти велим, что после вечного докончанья с обе стороны переходят повольно».
[Закрыть].
Но польскому королю и его панам-рады, рабам римского папы, уже была дана строгая нота. Получив известительное письмо о воцарении Яна Казимира в конце марта, Алексей Михайлович промолчал весь апрель, и только 8 мая написал внушение, что возводить человека в достоинство светила всего христианства (как делают-мол паписты) непристойно. Под этим внушением могло скрываться и другое, – что славословить без всякой меры короля, оторвавшего у Москвы Северщину к Польше, более чем неблагоразумно в такой момент, когда завоеватели Северщины завоевали Польшу, и готовы повергнуть ее к ногам преемника Собирателей Русской земли.
Привыкнув мыслить по римской логике, польские паны взирали на Москву с таким пренебрежением, что даже лучший из их канцлеров, Ян Замойский, среди национального собрания своего называл московского царя Бориса хлопом. Между тем цари-хлопы, с окружавшими их просторековатыми боярами, хорошо знали путь политической жизни, шли по этому пути при свете собственного, русского ума, и, в свою очередь, присвоивали себе право называть панов безмозглыми ляхами. Теперь именно настал такой момент, когда две системы политической жизни, два противоположные способа государственного самосохранения – должны были доказать практически свою состоятельность. Поляки гордились вольностью своею, а москали – своею неволею. Называя себя холопьями царя своего, бояре московские таким самоуничижением высказывали только национальное уважение к знамени, под которым русский народ (не шляхетский и не казацкий) из падшего сделался восставшим, из раздробленного – единым, из малаго – великим. Поэтому всякое прямое или косвенное оскорбление имени и достоинства царского принимали они за оскорбление всего народа, над чем «безмозглые» смеялись и после Хмельнитчины, в знаменитых Pamietnikach Paska [101]101
Byl tedy miedzy ochotnikami chlopiec, ktory umial z Moskalami swarzyc sie i draznic ich; jak oni wolali: «czaru, czaru»! to chlopiec przypadlszy blisko nich, zawolal glosem: «wasz czar taki a taki»! to Moskali za nim kilkunastu albo kilkudziesiat wysworowalo sie; chlopiec zas, na racymbach macie siedzac, dobrze uciekal, a wyprowadziwszy ich za soba daleko od kupy, to my, skoczywszy z bokow. przerznielismy ich, siekac i zabierajac. Dosc na tem, zasmy poslali wojewodzie ze trzydziestu jezykow z harcowki za powodem owego chlopca. To znowu chlopiec do nich poruszal i powiedzial im co innego o carze, a Moskale jakoby wsciekli, (bo oni bardziej sie urazaja o krzywde imienia carskiego, nizeli imienia boskiego), suna sie za nim zapamietale. Tak bylo tego wiele razy na swego chlopca, i tak tedy zagnali sie za owym chlopcem az w las, chcac go koniecznie dostac, boby go pewno ze skory odarli za takie niecnoty, ktore im wyrzadzal. My zas zawsze po nich...
[Закрыть].
Случай выместить на ляхах всю их кичливость сам по себе был искусителен.
Хмельницкий «растоптал» их боевые силы, растоптал, по выражению Киселя, их славу, и грозил перевернуть польское панство кверху ногами, – грозил в глаза великим и полномочным послам Речи Посполитой, которых третировал en canaille. Москали знали цену казакам еще до своего Разорения: это у них был народ дикий, безбожный, предательский. С казаками они держали себя осторожно, как с огнем. Но почему же им было не взять у ляхов свое, когда ляхи станут кверху ногами? Связывало их вечное докончание, утвержденное крестным целованьем. То не была преподанная ляхам присяга словом, а не намерением. Но это вечное докончанье, при всей святости своей для воспитанного православием сердца, не обязывало его терпеть новые оскорбления, – и от кого же? от панов, попранных ногами собственных рабов, как они сами сознавались. В сердцах думных царских людей не зажили еще раны, нанесенные тем самым Владиславом Жигимонтовичем, которого просвещение ляхи так не ко времени противопоставили московскому невежеству, разумея под этим сияние польского католичества и темноту русской схизмы. Всякое прикосновение к этим ранам отзывалось в Москве болезненно, а между тем со стороны ляхов это была не единственная зацепка.
С возобновлением казацких бунтов и сношений нашего духовенства с Москвою, польские политики стали бояться русского воссоединения больше прежнего, и, чтобы проявлявшиеся в низшей шляхте симпатии к московской тишине, к московской безопасности, к московскому суду и расправе – не возымели своего действия, пустили в ход самое жалкое средство. При всяком удобном случае, на сеймиках и сеймах, в церковных проповедях и в печатных сочинениях, они старались бросить на Московское царство тень, как на страну зверскую, коварную, и самого царя московского изображали или тираном, или посмешищем. Так продолжалось дело до последнего бунта. Хмельницкий, изыскивая средства задобрить московское правительство и вооружить Москву против Польши, напал на этот родник международной ссоры. В качестве польского шляхтича и казака, он питал к царскому правительству меньше приязни, нежели к султанскому, и в особенности – за его неуклонную строительность. Разозлясь на царя за его равнодушие к казацким предложениям, не раз отпускал он перед московскими людьми такие угрозы, что вот-мол пойду изломаю вашу Москву и все Московское царство, да и тот, что у вас на Москве сидит, от меня не отсидится. Но это делал он спьяна. Проспавшись и опомнясь, посылал он к царю все книги, в которых ляхи делали из него карикатуру, а московский народ низводили на ступень диких животных.
Этим удачным в демоническом смысле маневром Хмельницкий еще больше сгустил густую тучу на северо-востоке польского горизонта.
Но поляки, к пагубе своей, не замечали грозы. Они думали, что им предстоят счеты с одними казаками; обо всем же, что взяли у Москвы с возведения бродяги на престол Собирателей Русской земли, паны думали, как наши мужики: «що з воза впало, те пропало».
На последнем сейме было у них постановлено: собрать вновь 30.000 регулярного войска и дать королю право на посполитое рушение.
Деление панов на коренных землевладельцев и на колонизаторов малорусских пустынь проявилось опять зловещим образом. Польша сумела примкнуть к себе Русскую землю, или, как ее называли еще до церковной унии, Малую Россию, но не умела соединить ее с собою неразрывно. Хотя такие люди, как Ян Замойский, читали русские летописи, но они не понимали, как много значили для этой Малой России общие с Великою Россией предания. Своими униями они произвели только дизунию, и все, чем их политика мечтала соединить на веки с Польшею Русь, – а всего больше латинопольские школы, – обратилось в причину их вечной несоединимости. Не помогла полякам на чужой почве и колонизация пустынь, которой начало положили их кровные Конецпольские да Гаштольды.
Стародержавные паны не хотели теперь дать предводительства над войском представителю панов новодержавных, Вишневецкому, а король был у них в руках. Да он и сам не любил Князя Иеремии, точно провидел, что его сын сменит шведских Ваз на Польском престоле. Но на панов рады сильно влияло в этом случае и требование Хмельницкого, примирение с которым эти малодушные политики считали возможным до конца. Притом же, по их традиционному мнению, было бы несправедливо отдать великую или малую гетманскую булаву кому-либо при жизни находившихся в татарском плену гетманов, Потоцкого и Калиновского, о выкупе которых они хлопотали настойчиво. В ожидании свободы вождей, погубивших уже одну армию, впустивших казако-татарскую орду in viscera Reipublicae, и способных только к новым и новым промахам в пользу руинников, король, с одобрения панов рады, сделал то, что было всего хуже и что мог бы присоветовать ему только губитель Польши: он оставил гетманские права за собою, он, который не сумел гетманить и одним полком пехоты.
Ян Казимир вознамерился предводительствовать посполитым рушением непосредственно, а регулярное войско вверить новому триумвирату, который состоял из белзского каштеляна, Фирлея, каменецкого каштеляна, Лянцкоронского, и известного уже нам коронного подчашего, Остророга. Эта последняя мера опровергает известную пословицу: «po szkodzie Lach madry» [102]102
Умен лях после шкоды (т. е. потери).
[Закрыть]. Она показывает, что лях оставался всегда одним и тем же ляхом, и что Хмельницкий не напрасно считал все польское войско за ничто без Вишневецкого.
Притязания казацкого батька на независимое владение в русских провинциях королевства побуждали панское правительство вооружаться на борьбу с ним всеми своими силами. Вишневецкий советовал это панам в самом начале бунта: он советовал гасить пожар на малом пространстве; но поклонники Киселевского хитроумия дали пожару охватить большую часть государства, да и тут еще устранили единственно способного гасителя, по воле поджигателя.
Дилемма короля с его триумвиратом и с его панами-рады состояла в том: государству ли торжествовать над казацкой вольницей, или казацкой вольнице ругаться безнаказанно над государственным правом? Появясь во главе бунтующих казаков, иерусалимский патриарх придал ксендзовской побранке Наливайкова секта значение действительности, и тем усилил влияние ксендзов на их паству, у которой еще так недавно были они дискредитованы своею жадностью к овладению шляхетскими имуществами. Вопрос веры и церкви перестал теперь быть в Польше римским вопросом: он сделался польским, и вернее – римско-польским навсегда, так что, чем больше теряла Польша подданных, тем больше приобретала Римская Курия исключимых рабов среди шляхетского народа. От этого пропасть, разделявшая две национальности северной Славянщины, разверзалась все шире и шире. Казацкое дело, противоположное делу православия, стало принимать значение дела церковного не только в глазах Польши, но и в глазах Москвы. Гибель панской республики сделалась неизбежною.
Двинулись предводители квартяного войска на Волынь и расположились главным станом под Старым Константиновым, где бурная волна казатчины смыла уже однажды плотину или мол панской хозяйственности. Войско было далеко не все в сборе.
Финансовые затруднения и теперь, как всегда, составляли камень преткновения в панских военных действиях. А между тем хлопская война кипела в разных местах на Волыни и в Белоруссии с ранней весны. Собственно говоря она не прекращалась ни после того, как Хмельницкий двинулся из-под Замостья, якобы послушный королевскому повелению, ни после того, как он заключил перемирие в Переяславе.
Взволнованная казацким походом и голодная вследствие опустошительного бунта масса простонародья не хотела знать никаких договоров. Несчастная шляхта делала, что могла, отстаивая свои имущества, свои семейства, свои гражданственные учреждения; но чем успешнее отражала разбой, тем больше узаконивала в понятиях бунтовщиков убийства, грабежи и насилия, совершаемые над противниками казачества, тем шире разносилась молва о борьбе за христианскую веру, тем свирепее ревел и бил в землю ногами казацкий батько, заставляя дрожать шкуру на пленниках и королевских послах.
В начале марта, за два дня до возвращения королевских комиссаров из Переяслава, как уже сказано выше, гайдамацкий полковник Тиша, по-казацки Гарасько, овладел городом Острогом, – побывавшим уже в руках героев разрушения; но законные владельцы знаменитого города снова отстояли его у противозаконных. Увы! эти владельцы были окатоличенные потомки Князя Василия, на которого внуках и правнуках тяготели вещие слова Иоанна Вишенского, объяснявшего целость панских домов на Руси только существованием среди панов монашествующих каптуроносцев.
Теперь во мнении взбунтованной казаками черни исчезло и последнее различие между панами отступившими от предковской церкви, и панами, сохранившими веру отцов своих. Князь Корецкий, которого родители были еще православными, и который держался их памятью так, что даже конфиденты Хмельницкого хвалились Унковскому его готовностью помогать им, подвергся участи, одинаковой с окатоличенными давно уже наследниками князя Острожского. Ватага мужиков, запорожествуя по казацкому почину, взбунтовала местных гультаев против людей хозяйственных, которые поладили с вернувшимся на родное пепелище князем. Замок в городе Корце был разорен; шляхта и жиды истреблены; сам князь едва избегнул гибели от рук народа, который своим водворением в этих местах и своею целостью был обязан его воинственным предкам и ему самому. Сын знаменитого Кривоноса поднял на панов Полесье. Загон Донца, конвоировавшего, вместе с Тишею, королевских комиссаров от Звягля до Переяслава, задумал было, вместе с загоном полковника Татаринца, овладеть Заславом; но стоявшие на Волыни жолнеры отбили у них две пушки, 20 значков, и самих обратили в бегство. Казаки были выбиты из Звягля, и, вероятно, великолепная кушнерка перестала тогда «лаять» Хмельницкого за его простую обстановку, «когда Бог дал всего много». Еще прежде были они выбиты из Бара, который Хмельницкий называл своим городом, едва отстояли Шаргород и потеряли Гусятин. Наконец, были разбиты и под Межибожем.
Повсеместный голод, последовавший за казако-татарским нашествием прошлого года, давал жителям Волыни надежду, что Хмельницкий теперь не соберет великой силы для похода на панов, а с малою против них не устоит. Так думал и королевский триумвират.
Но война кипела сама собой, без видимой причины и без всякого разумного рассчета.
Православный Адам Кисель с православными и католическими своими спутниками подобно жившему в 4 милях от него князю Корецкому, напрасно старался утвердиться в своем волынском имении, Гоще, хотя держался в нем до конца мая, приводя экономические дела свои в возможный при тогдашних обстоятельствах порядок, другими словами – связывая выгоды подданных с выгодами панскими для противодействия опустошительной Хмельнитчине. В то же время он посылал письмо за письмом в Москву, выставляя Хмельницкого врагом не одной Речи Посполитой, но и всякого гражданственного общества. Хмельницкий, как мы знаем, дружески с ним переписывался о способах успокоения междоусобной войны, а между тем ловил его посланцов и подкрадывался к нему самому. Находившиеся с Киселем комиссары изображали собою довольно комически мир среди неудержимой никакою властью войны. По-видимому, Хмель считал особы этих представителей короля и Речи Посполитой неприкосновенными. Вдруг сильный казацкий отряд нагрянул в Гощу. Но Кисель имел конфиденцию среди казаков еще со времен Павлюка, и когтистая лапа хитрого кота сделала промах: мышь ускользнула с мышатами. После такой развязки комиссарской трагикомедии, панские сделки с хозяйливыми подданными стали уступать место казацким сделкам с гультаями и гайдарами.
Подобно своим предшественникам, Хмельницкий брал не одним подучиванем панских подданных и служебников на предательство, но и террором над людьми, мирившимися с существующим порядком вещей. Уже вскоре после первого разлива казацкой славы под бунчуками желтоводских и корсунских героев, слышен был и ропот на Хмеля в земледельческом и ремесленном классах. Самое стоянье под Пилявцами сопровождалось такой шаткостью в украино-запорожском войске, что Хмельницкий разослал по всем дорогам команды сечевиков для истребления новобранцев, расходившихся из табора; а захваченные впоследствии жолнерами по одиночке пилявецкие победители показывали на пытке, что общее бегство казаков было предупреждено только бегством самой шляхты.
Панским попыткам удержать разлив антихозяйственной казатчины экономическою деятельностью вредили всего больше землевладельцы, которые, отчаявшись в спасении своих имений, делали на них наезды с помощью квартяных жолнеров, и захваченное у крестьян добро отправляли в глубину края. Добро это было приобретено крестьянами посредством грабежа панского хозяйства, но тем не менее возбуждало громкие вопли против «проклятых ляхов». Еще больше помогали Хмельницкому в привлечении черни на сторону разбоя храбрые, хищные и распутные жолнеры, которые, идучи против русских злодеев, всячески обижали мирных жителей и грозили вырезать до ноги русское племя, разогнавши казацкие купы, – грозили не оставить живыми и младенцев, как жаловался Унковскому сам творец свирепой с обеих сторон трагедии.
Молва подхватывала нелепые угрозы в кабаках и на жолнерских вакханалиях, превращала их в совершившиеся факты, как это было в Тарасовщину, и гибельно для панского дела весь украинский, волынский, червоннорусский, белорусский народ делила на казаков, воюющих за православную Русь, и на ляхов, готовых истребить ее поголовно, вплоть до московской границы, не щадя и «немовляток».
В силу казацкого террора, подавлявшего не только работящих мужиков и мещан, но и мелкую шляхту, в составе так называемого Запорожского войска находились люди, гнушавшиеся казацким промыслом и ждавшие только решения спорного вопроса: которому из двух славянских государств владеть Малороссией, чтобы из-под казацкого самоуправства перейти под власть правительства монархического. К таким людям принадлежал неизвестный автор современных записок, которым я дал название «Летописи Самовидца». Он разделял со множеством порядочных людей то мнение, что война на Хмельницкого возымела свое начало от гонения ляхов на православие и отягощения казаков; но ляшеское гонение изобразил только словами: «не тилко унея у Литве, на Волыне, але и на Украине почала гору брати»; а это значило, что желавшие единения с людьми господствующего вероисповедания, как например Кисель, Березовский, Косов и все «могиляне», стали превозмогать староверов, которые понизились в достатках, в общественном значении, и со стороны которых скиталец Филипович был гласом вопиющего в пустыне. Напротив, «отягощение казаков» изобразила «Летопись Самовидца» весьма подробно и обстоятельно. По её рассказу, Хмельницкий прежде всего «наступил Ордою на Запорожье» и заставил стоявшее на Запорожье войско пристать к нему. Вызванное в Украину бунтом Хмельницкого коронное войско, по известию Самовидца, распространило в народе не новый уже слух, поддержанный, разумеется, хмельничанами, что, по уничтожении бунтовщиков, паны опустошат Украину, и большую часть её населят людьми немецкими да польскими. Но случилось наоборот: коронное войско было уничтожено бунтовщиками.
Услыхав об этом (рассказывает Самовидец), начали собираться в полки не только те, которые бывали казаками, но и те, кто никогда не знал казачества. Державцы спасались из охваченного бунтом края бегством, а Корсунские победители, вместе с новобранцами, принялись истреблять шляхту, жидов и городских урядников, не щадя ни женщин, ни детей. «Маетности» (пишу его языком) «рабовали, костелы палили, обвалиовали, ксионзов забияли, дворе зась (же) и замки шляхетские и двори жидовские пустошили, не заставляючи жодного (ни одного) целого. Редкий в той креве на тот час рук своих не умочил и того грабления тих добр не чинил. И на тот час туга великая людем всякого стану значным была и наругання от посполитых людей, а найболше от гультяйства, то есть от броварников, винников, могильников, будников, наймитов, пастухов, же любо бы (что хотя бы) який человек значный и не хотел привязоватися до того казацкого войска» (как, вероятно, и сам летописец), «тылко мусел задля позбытя того насмевиска и нестерпимых бед в побоях, напоях и кормах незвычайных, и тыи мусели у войско приставати до того казацтва».
Однакож, положение бунтовщиков было крайне рискованное. По сказанию Самовидца, войско Хмельницкого под Пилявцами было едва не в осаде от коронного войска; но пришла Орда «великою силою» и испугала панов, не видавших еще татарских полчищ. Гоня перед собой разбежавшееся войско (что не совсем верно), татары не брали полона, имея в виду будущий ясыр и не желая себя обременять, а всех обезглавливали. Но, расположась под Замостьем, казаки и татары распустили загоны по самую Вислу. «И хто» (восклицает Самовидец) «может зраховати (исчислить) так неошацованную (неоценимую) шкоду в людех, изо орды позабирали, а маетности (изо) казаки побрали! Бо в тот час не було милосердия межи народом людским. Не тил (только) жидов губили и шляхту, але и посполитым людем, в тих краях живучим, тая же беда была. Многие в неволю татарскую пойшли, а най барзей ремесники молодые, которые себе головы голили попольску, чуприну пускаючи на верх головы. Але предся (но однакож) Русь-христиане в тих поветах, в городах, позоставали, и ежели якого поляка межи собою закрыли, то тот (остался) жив. Костелы зась (же) римские пустошили, склепы (подвалы) с трупами (гробами) откоповали, мертвых тела з гробов (гробниц) выкидали и обдирали и в том оделю (одеянии) ходили».
Осада Львова показала нам, как щадили казаки галицкую «Русь-христиан». Самовидец поправляет сам себя, описывая то, что делалось у пего перед глазами. Нежинцы, посланные взять Кодак, по его рассказу, делали людям во время похода «великие кривды», так что поднепряне приняли их за Литву, идущую оборонять эту крепость, напали на них между Рашевкою и Комышным, и перебили несколько сотен.
Новую войну Хмельницкого, в 1649 году, характеризует Самовидец следующими словами, показывающими, как и предыдущая выписка, что тогдашняя письменная речь малорусская на половину сделалась уже речью польскою:
«.....усе що живо поднялося в казацтво, же заледво (что едва) знайшол бы в яком селе такого человека, жебы (чтобы) не (и) мел альбо (или) сам, албо сын до войска ити; а ежели сам нездужал, то слугу паробка посылал. А иные, килько их было, все ишли з двора, тилько одного зоставляли, же (так что) трудно было о наймита (найти наймита). А то усе деялося задля того, же (что) прошлого року (года) збогатилися шарпаниною (грабежом) шляхетских и жидовских и иных людей, бывающих на преложенстве (старшинстве), же навет (что даже) где в городах были и права майдебурские, – и присяглые бурмистрове, и райцы свои уряды (должности) покидали и бороды голили, до того войска ишли: бо тые себе зневагу держали (презрение терпели), который бы з бородою неголеною у войску был [103]103
Хмельницкий, как мы видели, жаловался в Переяславе, что паны вырывали казакам бороды. Борода была принадлежностью почетных людей. Но в Польше распространилась уже шляхетская мода брить бороды, и казатчина, подчиняясь вожакам своим, недовольным шляхтичам, усвоила себе их моду.
[Закрыть]. Так диявол учинил себе смех з людей статечных»!
Вот побуждения, управлявшие пособниками Хмельницкого в Украине! Немудрено, что составившееся таким образом войско норовило разойтись из табора еще до начала боя, и геройствовало только среди беззащитных. Понятно также, почему, не имея у себя сзади татар, оно было слабосильною и малодушною массою. Хмельницкий знал свой народ, эту дружину хищных новобранцев, находившуюся под террором «старинных казаков», и потому прежде всего заручился дружбою крымцев, во что бы ни обошлась эта дружба родному краю. Новобранцы стояли у него между молотом и наковальней: им не оставалось иного выбора, как «пановати», по-татарски, вместо разогнанной шляхты, или же идти в татарскую неволю. По свидетельству королевских комиссаров, оказаченные мужики в прошлую осень ничего не сеяли. От этого-то жилища их были окружены роющимися в снегу лошадьми, от этого улицы столицы казацкой были обезображены падалью, а вязанка сена продавалась по 2 талера.
Казацкий батько посылал в Украину целые обозы, нагруженные панским добром, но был принужден выгнать 600 собственных лошадей в снега за центральный город казатчины. Многие казаки вернулись домой также богачами. На киевских рынках продавалось бесчисленное множество панской одежды, ценных принадлежностей культурного быта, дорогого оружия, конской сбруи, ломанного и неломанного серебра.
Но приток добычи не внес в Украину того, что составляет прямое богатство страны.
Посреди роскошных вещей нищета высовывала обнаженные члены свои, а голод угрожал даже тем, кто владел блестящими побрякушками. Это были самые сильные союзники Хмельницкого в новом его походе против «проклятых ляхов», хотя они же явились в последствии самыми грозными врагами его. Хмельнитчина и началась под сильным давлением голода, поразившего разом и казацкую Украину, и татарский Крым. Зима 1647 – 1648 года была бесснежная, теплая, гнилая. Наступило неурожайное лето, и Унковский говорил правду Хмельницкому, что когда бы не подвоз хлеба из пограничных московских рынков, то казаки перемерли бы с голоду; а новый голод, причиненный великим бунтом черни, был предвестником тех голодов, которые погнали наконец казаков, точно стада, в запасливые царские Украины.








