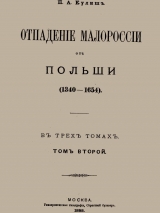
Текст книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"
Автор книги: Пантелеймон Кулиш
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Из Запорожья начал Хмельницкий вести переговоры с татарами. Но в это время загорелась в Крыму новая усобица, а султан между тем прислал хану запрещение вторгаться в Польшу, и потому товарищи Хмельницкого вернулись в Украину, чтобы зазвать к нему большее число казаков. Хмельницкий же, скрываясь на острове Буцком, правильнее Бутском, или Бутовском, иначе Товмаковском [23]23
Бутом называли казаки толмача, по-малорусски товмача. Отсюда и остров Товмаковский, иначе Товмаковка.
[Закрыть], управлял всем движением, которое прикрывал покорными жалобами своими королю, коронным гетманам и королевскому по казацким делам комиссару.
Происходившие в это время в Запорожском войске волнения напоминали начало Павлюковщины. Повод или предлог к ним был тот же самый. «Скарбовые люди» опять не заплатили за целые пять лет казацкого жолду, и казаки подозревали в утайке денег панов полковников. Недоверчивая всегда к своей старшине казацкая «чернь» сделалась теперь недоверчивее, чем когда-либо. Теперь в Запорожском войске старшиновали не избранники боевого народа, а панские креатуры, охранители землевладельческих интересов против казацких. Еще до побега Хмельницкого казаки, в задорных случаях, поговаривали о повторении над ними того суда, каким павлюковцы покарали «войсковых изменников». Самого комиссара по казацким делам, Шемберка, обвиняли они в стачке с полковниками и в утайке жолду.
Но всего больше возмущала казаков регуляция пропинационных доходов, пошлин и чиншей в тех королевских имениях, где им было дозволено иметь свою оседлость (обийстье), или где они занимались чумачеством и шинкарством. Эти доходы были главными хозяйственными статьями в украинных экономиях, но они требовали постоянного надзора, правильного учета, неутомимой хлопотливости. Ни к чему этому пограничная шляхта не была способна. Она свои винокурни (винници), пивоварни (бровары), «кабаки», шинки, корчмы, мыта, промыта и чинши «пускала в аренду», а на свой пай оставляла хозяйство, более приличное сословию господствующему: земледелие, скотоводство, пасеки, бобровые «гоны», рыбные «входы», селитряные «бурты» и поташные «буды». Арендаторами были почти везде жиды, если не армяне, которых промышленная деятельность, не чуждая подкупа сильных и прижимки слабых, местному простонародью, «гордившемуся украинскою вольностью своею», казалась порабощением. А когда «жид-рандар» запрещал казаку выкурить горилки, или сварить меду и пива к свадьбе, крестинам или храмовому празднику, казак называл это «зневагою» христианской веры, «наругою» над христианскою верою.
Все вместе возмущало казацкую чернь, тесно соединенную с людьми посполитыми и, под влиянием вечно крамольничавших низовцев, приготовляло умы гулящего и убогого народа (класс многочисленный и в нынешней Малороссии) к новому покушению против господства так называемых «панов ляхов».
Король был сильно встревожен бегством Хмельницкого, у которого, как у войскового писаря, хранились так называемые в кобзарских думах королевские листы.
Он тотчас поручил канцлеру выслать комиссию для исследования терпимых казаками притеснений, и велел выплатить казакам за пять лет жолд. Получив же известие, что хан готовится к войне и послал к султану за эмиром, велел, как уже сказано, коронному гетману быть наготове. К сенаторам и панам написал он, чтобы все вышли с дошним войском своим в поле и расположились на Черном Шляху между Белою Церковью и Винницею, а московских воевод велел просить, чтобы спешили с помощью согласно договору. Этим способом долженствовал начаться первый акт Турецкой войны.
В самом деле, отряды Орды Ногайской, Очаковской и Крымской приближались к польским границам. Но, слыша о великом войске, стоящем между Брацлавом и Винницею, немедленно вернулись в свои юрты; а гетман и сенаторы, узнав от волошского господаря, что султан отказал хану в эмирах, и что татары ни в каком случае не двинутся из Крыма, пока не нарастет трава, распустили 30.000 войска, и этим способом опять отсрочили королевские замыслы до весны. Деятелями этой отсрочки, оказавшейся гибельною, по исчислению Адама Киселя к путивльскому воеводе, кроме Николая Потоцкого, были: краковский воевода Любомирский, сендомирский воевода, князь на Остроге Заславский, киевский воевода Тишкович, русский – Вишневецкий, черниговский – Калиновский, староста калучский Замойский, староста львовский Сенявский, князь Корецкий, паны Немиричи и другие украинские землевладельцы.
Перечислив, сколько кто из них привел войска, комиссар пограничных с Москвою дел, Адам Свентольдович Кисель, писал с обычным своим красноречием:
«Яко исчезает дым, тако, Божою милостью, исчезли врази наши: с полей Черного Шляху в Крым повратили». Он уведомлял путивльского воеводу, князя Юрия Долгорукого, что «Венеты и Малтяне» победили многолюдное турецкое войско, и потому от султана пришли к хану «немеры жестокие, сиречь заказы», чтоб он не вторгался ни в Польшу, ни в Московское царство. Это было писано в феврале 1648 года. Имя Хмельницкого еще не произносилось, но Кисель уведомлял пограничного воеводу, что «войско квартянное зде в Украину притягнуло и положенное есть в черкаских казацких местах (городах), потому что казаки черкасци одного пулковника своего Чигиринского здрадили».
Летом 1647 года Адам Кисель ездил в Москву в качестве королевского посла для заключения с царем договора против татар, но, застав царских сановников уже в мирных переговорах с Ордою, мог постановить с ними только такие условия: 1) Оба монарха не будут задевать татар, и будут поступать с ними по-старому. 2) Если бы татары вторгнулись в Польшу, или в Московское царство, тогда оба монарха будут заодно, то есть будут помогать один другому, и уведомят об этом договоре хана. 3) Но если бы хан объявил Польше, или Москве, войну, в таком случае монархи обдумают, что будет наилучшим, и король созовет сейм.
С этого времени начались у Киселя приятельские с царскими людьми отношения, которыми он пользовался и в качестве комиссара пограничных с Москвою дел. Когда на Польшу поднималась из Запорожья непредвидимо грозная буря, у Киселя шла с царскими боярами деятельная переписка самого мирного свойства. Польша мостилась хозяйничать на русской земле, отторгнутой у царя в 1633 – 1634 году, с помощью казаков. Кисель, не довольствуясь королевскими пожалованиями в Черниговщине, выпросил у царя позволение – в трех местах Трубчевского уезда и в двух Недригайловского жечь золу для выделки поташа, или, как он писал, шмальцуги, «и на это дело рубить лес в черных диких местах оприч бортного дерева», в течение пяти лет.
С обеих сторон старались определить спорные земли по границе между двух государств и разобрать «обидные дела» на польскую и на московскую сторону.
Московские власти при этом «всех, до ково што по сыску и по уликам воровство дойдет, велели пытать по томуж, что с обе стороны людем, хто в какове деле от ково изобижен, управа в правду учинить, а вором, смотря по винам, наказанье бес понаровки дать, чтоб, на то смотря, иным не повадно было воровать». Напротив, судьи «с литовской стороны», по именам: Райский, Конопляный, Белка, Бурый, люди русские, сперва отказывали в суде своих преступников, говоря, что «шляхта их сама своих крестьян судит»; потом требовали, чтобы крестьянина, обвиненного в убийстве «за литовским рубежем», «казнить смертною казнью без сыску»; а когда им было доказано, по свидетельству духовника умершего литовца, что обвиняемый крестьянин за литовским рубежем покойного «не убивывал», то пан судья Райский с товарищи «и с суда усердясь пошли», объявив, что «вперед на рубеж для росправы никаких дел не будут».
Польские русичи, намеченные уже силою жизни к воссоединению с русичами московскими, в порубежных сделках соседних государств, при одной и той же вере, смотрели чужеземцами. (В этом – начало будущих смут по присоединении Малороссии).
Московские пограничные воеводы усердно досматривали, чтобы королевские люди, ни в каком деле, к воеводам и ни к кому иному не дерзали писать «непристойно», и чтобы в титулах обоих соседних государей не было «ни прибавки, ни умаленья»... «а есть ли хто в прописке тител объявится», то чтобы «всяк таков» был судим «и казнен по вине своей, как явный нарушитель миру». Ревностным защитникам прав своего царя, отвоеванных у Сигизмунда и Владислава с такими утратами и жертвами, было «в великое подивленье, какими обычаи князь Еремей Вишневетцкой, воевода руской, и канцлер корунный, Юрьи Осолинской, и хорунжей корунный, и иные старосты и державцы в листех своих писали, мимо вечного докончанья, неостерегательно, а по вечному докончанью королевскому величеству царем и великим князем и многих государств государем и обладателем не отписыватися и не именоватися»... «А люди они» (внушали царские бояре, как недорослям), «князь Еремей и канцлер, думные и сенаторы большие, и им бы обоих великих государей честь пригоже оберегать, больши иных простых людей; а на канцлера то дело наипаче и иных людей надлежит, что государская честь остерегать».
Точно как будто знали царские люди про отзыв Оссолинского перед папой о москалях, которые де одним именем христиане, а делом хуже последних варваров.
Теперь, накануне крушения польской силы и славы, московский боярин Алексей Трубецкой в простосердечной преданности интересам отечества, требовал, «чтобы королевское величество, по вечному докончанью, велел нарушителей докончанья казнити... чтоб от того меж обоими великими государи нашими нелюбья и ссоры не было».
Это достопамятное по своим повторениям внушение было писано 15 марта, а через два дня Адам Кисель сообщил московским пограничным воеводам первую весть о человеке, из которого польско-русская жизнь создала карателя шляхты за её многовековые злоупотребления личною свободой. В качестве руководителя пограничных разбирательств с польской стороны, писал он к путивльскому воеводе, который жаловался, что «буды отмежованное не уступают, пасек пщельных польские чиновники не зносять» с царской земли, «и поселили хаты за рубежем», а те с своей стороны жаловались, «будто его царского величества воеводы с Ахтыра, Олжаного и Бобрика у хрестян Гадяцкое волости вземше поклоны од пасек, их потом пасеки многие насильством забрали и колко тысечий пщелы побили, и самих хрестян многих порезали и порубили». Кисель не верил таким «зачепкам» в противность «вечному докончанью», говорил о братской любви обоих пресветлых государей и о дружелюбном соединении обоих великих государств, и только в конце письма упомянул о событии, которое занимало его больше всех пограничных ссор и драк:
«Еще же о том тебе весть даю, и ты к его царскому величеству писать будешь, что никая часть, тысеча, или мало того болш своеволников казаков черкасцов избегли на Запорожье; а старшим у них простий холоп, нарицаеться Хмельницкий; и думають донских казаков подбити на море... аще ли же збежить (Хмельницкий) з Запорожа на Дон, и там бы его не приймати, не щадити, ни на море пустити».
Деятельный охранитель Речи Посполитой Польской на другой день писал к воеводе севскому, Замятне Леонтьеву, благодарил за уведомление о Калмыцкой Орде и прибавил: «Толко того не разумею, што тая Орда в Крыму делами мает: чи сами з собою междуусобную брань учнут, или обоим великим господарством пресветлых господарей наших, совокупившися, вражду думають. – На сей стороне Днепра од Очакова» (уведомлял он, в свою очередь) «Орды нет, толко две албо три тысечи: вся на Крымской стороне», и опять занялся пасеками да будами, не предвидя, что скоро все польское хозяйство на русской почве пойдет прахом.
Вслед за тем Кисель уведомил путивльского воеводу, Никифора Плещеева, что хан ласкается, через своего посла, к гетману Потоцкому, к князю Вишневецкому, что тот посол теперь в Прилуке, «и до многих из нас (ласкается), со всеми нами братаючися и дружество хотя имети»; но твердил москалю поучительно, что татарское дружество с одним государством есть вражда против другого. Прошли уже (писал он) времена татарских опустошений то того, то другого из них. Теперь, если татары хотят быть с нами в дружбе, пускай будут в дружбе и с Московским государством. Заключил же свое послание словами: «Уже бо их приближаеться кончина, родов же христианских Божию милостю вознесение: Венетов и Малтан вознесл Господь».
Через три дня «каштелян енерал киевский, житомирский, овручский, староста носовский», как величали Киселя царские сановники, торопил бояр князя Алексея Трубецкого, Григория Пушкина и думного дьяка Григория Чистого к скорым ответам на его письма восклицая: «Толикое время само вопиет, какое бысть умедление! Впредь же сице да не будет между нами: дружбе убо и любве приятельской есть противно». По словам Киселя, ему, теперь уже брацлавскому воеводе, вместе с ясновельможным паном Краковским (Николаем Потоцким), было поручено разузнать, по какой причине некоторые казаки ушли на Запорожье, и «как будут крымцы думати, промышляти обо всем».
Тут же кстати («еда к тому пришло») уверял Кисель царских сановников, что он жадничает не буд, а славы московского царя: «Мне не буд жадно, но добродетели его царского величества: слава убо есть и будет в том его пресветлого величества, что надарил меня, его королевскою величества великого посла; честь же моя, што на мне просияет, величества есть добродетель».
Неизвестно, что думали себе в бороду царские сановники об уменье Адама Свентольдича льстить и выпрашивать, которое в Польше преподавалось, как наука жизни.
Буря между тем незримо приближалась. Лобызаясь письменно с московскими приятелями своими по случаю «всеславного воскресения Господа нашего, Иисуса Христа», Кисель был преисполнен радостных упований, и из «своего города Кобызчи», близкого к Киеву, отъехал в «дальний свой город Гощу, за Киев миль тридцать»; если же «Орда что задумает», намеревался снова прибыть в Украину, и беззаботно писал о Хмельницком, не предчувствуя, что он превратит в прах и пепел близкие и дальние панские города вместе с королевскими.
«Своевольного черкасца войско Запорожское само поднялося на Запорожу поймать, и крест на том целовали. Войско же наше коронное, скоро трава начнется, на Шляху Черном-лесу положенно будет, и сам ясневельможный пан Краковский и с ним пан воевода черниговский, польный гетман, будет, дондеже объявится, што Орда думает: аще убо и братаеться ган, посылаючи к нам веры не даем. Аще бы з Запорожа збежал Хмельницкий, казак своеволный, на Дон и хотел подвизати донцов на море, – по соузе обоих великих господарей наших, надобно зимать его как здрайцов обоих великих господарств».
В заключение, Кисель просил приятелей своих передать латинскую грамотку царскому доктору, который обещал сделать ему водку против его «скорби и болезни, подакгры».
Эта болезнь была весьма распространена между польскими панами, и потому имеет значение историческое. Привычка к пьяной жизни развилась у них в ужасающей степени еще в царствование Сигизмунда III. Владислав IV, как мы видели, страдал подагрой даже во время вторичного брака. Новый фельдмаршал его, Николай Потоцкий, был также подагрик. На подагру жаловался в своем бесценном дневнике и литовский канцлер, Альбрехт Радивил. Если бы шаловливая богиня Венера бросила яблоко в собрание Избы Земской, или Сенаторской, непременно попала бы в подагрика. «Старое венгерское» составляло в Польше столь важный предмет государственных попечений, что на последнем свободном сейме, лишь только панский ареопаг проглотил без зазрения совести вопрос о полутора миллионах, которые Речь Посполитая «задолжала жолнеру», тотчас его занял жизненный польский вопрос «о skladzie wina wegierskiego». Венгерское вино было, можно сказать, национальною честью и славою истинно-панского дома. По известной пословице, оно в Венгрии только рождалось, а воспитывалось и старилось в Польше (Hungariae natum, Poloniae educatum). Здесь его склады делались ежегодно, с рассчетом пировать, пока Польша будет стоять на своем вечном основании, на милой шляхетскому сердцу и уму неурядице. В самом деле, даже во времена последнего окончательного падения панской республики, поэт Мальчевский написал о поляках прекрасными стихами то, что они делали накануне Хмельнитчины:
Царские вестовщики были пронырливее панских. В Бакчисарае выведали они от «полонянина» о казацкой стачке с татарами и донесли своему государю, а из Москвы бояре Трубецкой, Пушкин и думный дьяк Чистой, от 10 апреля, сообщили Адаму Киселю следующее:
«Марта де в 5 день приехали в Крым к царю з Днепра запорожских черкас четыре человека, а прислали де их черкасы крымскому царю бить челом, чтоб он, крымской царь, принял их в холопство; а они де стоят на Днепре, а в зборе их пять тысяч; и просили у крымского царя людей, чтоб им итти на королевского величества Полскую землю войною за свою черкаскую обиду; и как де они королевского величества с людьми управятца, и они де крымскому царю учнут служить вечным холопством, и всегда с ним на войну будут готовы. И крымской де царь тех черкас, четырех человек, дарил кафтанами и держал у себя в Бакчисараех неделю, и, дав им по лошади, отпустил их назад; а крымским людем и черным татаром приказал кормить лошеди и готовитьца на королевского величества землю; а в Перекоп к Тогаю, князю Ширинскому, писал, чтоб Нагайские люди на королевского величества землю в войну готовилися ж. Да и татаровя де и Русские полоняники говорят не втай, что царь приказал Крымским и Нагайским людем войною на королевского величества землю готовитьца. А в Крыме де голод болшой, и прошлого году хлеб не родился, а ныне скот, овцы и коровы вымерли, и черные татаровя войне ради, и без войны де нынешнего лета никаким обычаем пробыть им не уметь».
В заключение важного известия, оказавшегося вполне справедливым, царские сановники советовали и принять меры к тому, чтобы не «допустить тех черкас под владенье крымского царя». В этом совете заключалась не только христианская, но и русская мысль, хотя москали смотрели, в этом случае, на самих черкас исчужа, точно малоруссы времен Ярославовских – на торков и берендеев.
Недели две корреспонденты двух соседних держав молчали, словно чуяли с обеих сторон что-то грозное. Наконец, от 4 мая «римским числом» польско-русский сановник уведомил сановников москво-русских (из своего города Новосюлки, зде за Киевом миль пять) о начавшейся Хмельнитчине, в следующих выражениях:
«Никогда холопская рука, найпаче же зменников, невозможна есть подвизатися противо своим господином; и тот холоп наш, зменник черкаский, з дружиною своею, в сих днех аще не избежит в Крым, изменною головою своею запечатует: полем убо и Днепром на него пошло войско наше... Все войско черкаское Запорожское есть верно, точию еден зменник Хмельницкий, простых холопов прибравши к себе, на Запороже збежал; и все казаки черкаские верные, крест целовавши, пошли Днепром доставати зменника того».
От 10 римского мая князь Иеремия Вишневецкий уведомил путивльского воеводу, Плещеева, из Прилуки о слухах, которые приходят, беспрестанно повторяясь, что «неприятеле Креста Христова наготове собранных орд на урочище стоят у Княжих Байраков 40.000 подлинно их сказывают, а того еще не ведомо, в которые стороны; чего им, Боже, не помоги. Естли в панство его королевские милости Коруны Полские, албо в землю его царевого величества Московскую мысль им есть итти, все наготове и за таковыми вестями по обе стороны Днепра с войски корунными стоять, а я при здешних маетностях моих с людьми моими готов есм, ожидаю скорые вести, и повести, куды мне лучитца итти. И для того сею грамотою моею его царского величества и тебе знати даю, чтоб вы были наготове на большое остереганья от стороны неприятеля Креста Святаго».
Так плохо по-русски писал русин, переделанный львовскими иезуитами в поляка. Про казаков до него не дошел еще слух. Но в то же время княжеский староста [25]25
Паны имели, как и король, старост, которые, по отношению к этим королятам, были те же brachia regalia.
[Закрыть] Малюшицкий, по письму малорусс, сообщил из Красного тому же Плещееву следующее:
«Пишет его милость пан гетман коронний сторони людей Кримских, с которими сполившися Хмельницкий своевольний в тисячах казаков чотирох з Ордою, и пана комисара осадили на вершинах Саксагану в четвер прошлий, и войско Запорозкое там посилкует противко татаров; але предся (однакож) гору береть Орда и под Чегирин обещаеться подходить рихло (вскоре); и пан полковник переяславский видел в Кучкасех по сей стороне, в полях, вшир и долго большой миле, Орда стоит и еще прибывает. И по напису сееи грамоти прибегли з листами от гетмана коронного, же (что) Орда скупилася с Хмельницким, где все войска обернулися противко их людей».
Наконец Адам Кисель, от 11 мая римским числом, уведомил Плещеева из Гощи о роковом событии на Желтых Водах, на вершинах Саксагана, – о первом поражении панского войска казаками:
«Нынеча же достиже мя весть о прелести ногайской татарской, што они, егда ясневельможный каштелян краковский, гетман великий коронный, послал полк оден войска коронного на зменников черкаских, они, собакове татары, крымци и нагайци, тот полк на полях, на урочищу Жолтые Воды, осадили; тридцать тысечи Орды на тот полк пришло, римским числом 2 мая. Они же, в Христа Господа веруючи, храбро и бодро ополчившися, бранятся; но по нынешнее время што се здеяло, Бог весть».
Кисель, конечно, знал, что казаки соединились уже все и, вместе с татарами, били панов; но не хотел сказать об этом Плещееву. Он вопиял о скорой помощи к воеводам путивльвскому, хотмыжскому и к воеводам севским, ссылаясь на договор короля с царем. Польская Русь, утратившая уже чистоту своего древнего языка и подражавшая речи московской, с примесью полонизмов, умоляла спасать ее от крымцев, а в сущности – от польской неурядицы, породившей руинную казатчину.
Как велика была эта неурядица, мы увидим, перенесясь на правую сторону Днепра, в лагерь коронных гетманов.
Когда Кисель писал к путивльскому воеводе, что «казаки черкасци одного пулковника своего, чигиринского, здрадили», это значило, что Хмельницкий, еще в феврале, прогнал из Запорожья стоявший там, в виде гарнизона, Чигиринский полк.
Известие об этом потрясло всю Украину, точно как будто Павлюк еще однажды сошел с эшафота. Страх обнял шляхту. Одни бежали в лагерь Потоцкого, другие бросились к обоим коронным гетманам с мольбой о снабжении Украины гарнизонами. Потоцкий двинулся с квартяным войском в глубину казацкой Украины, обеспечил гарнизонами замки и города, велел свозить пушки с безоборонных мест, убеждал «гродскими универсалами» местных помещиков – не оставаться в их домах, а присоединяться с надворными дружинами к коронному войску, разослал воззвания к магнатам, чтобы спешили к нему на помощь, уговорил всех землевладельцев обезоружить мужиков, и наконец – опубликовал грозный универсал, воспрещавший всякое сообщение с Хмельницким, бежавшим же к нему для своевольства угрожал смертью оставленных ими семейств и уничтожением собственности. Словом, в запылавшую казацким бунтом Украину подложил горючего материала.
Нельзя сказать, чтоб он делал «много шуму из ничего». Он, провозившийся с казацкими бунтами столько времени, еще в декабре 1647 года заявил, что не может быть в отечестве опасности, более чреватой бедствиями (wiecej prognans periculum). Он понимал положение страны и выражал, можно сказать геройски, недоумение, как «с такою малою горстью квартяного войска» отражать татар, которые и без казаков были весьма опасны; но тем не менее шел на борьбу с ними.
Король, однакож, был крайне недоволен мерами своего фельдмаршала. Король повелел Потоцкому немедленно пустить казаков на Черное море, и не подвигаться с войском в глубину Украины.
Коронный гетман оправдывал свои действия тем, что двинулся спасать Украину по общей просьбе и по всестороннем обсуждении дела; что не было такого села, такого города, где бы не призывали к своевольству и не умышляли на жизнь и имущество панов и державцев, где бы не домогались вознаграждения своих заслуг и не подавали беспрестанно жалоб на несправедливости и притеснения. О вере, которую наши летописцы и историки делают первою и главною причиною бунта, предводитель его усмирителей не упомянул в своем оправдании перед королем ни единым словом.
Зачинщиков бунта он видел только в недовольных экономическими порядками да материальными потерями.
«По-видимому, не велика беда 500 взбунтовавшихся казаков» (писал он); «но кто вникнет, с какими упованиями и надеждами поднят бунт, каждый должен признать, что было из-за чего мне двинуться в Украину: ибо эти 500 человек подняли бунт в заговоре со всеми казацкими полками и со всей (мужицкой) Украиной. Когдаб я не поспешил, запылал бы в Украине такой огонь, который не скоро был бы, или же великими силами, погашен... Один князь воевода русский (Вишневецкий) отобрал у своих подданных несколько тысяч самопалов, а сколько же другие! Все это огнестрельное оружие, вместе с людьми, принадлежало бы бунту Хмельницкого. Если бы не были предупреждены приготовления к бунту, если бы не были забраны пушки в разных местах, которыми своевольные люди (swawola) намеревались овладеть, то какова была бы сила их, и что делали бы они во владении вашей королевской милости, можете представить. Впрочем я вовсе не с тем двинулся в Украину, чтобы пролить христианскую кровь, которая в свое время будет необходима для Речи Посполитой, но с тем, чтобы, не обнажая сабли, одним только страхом кончить войну. До сих пор казаки не потеряли ни одной капли крови и не потеряют, если успокоятся. Но вижу, что этот безрассудный человек, Хмельницкий, не преклонится перед милостью. Не раз уже я посылал к нему, чтоб он оставил Запорожье, обещая ему помилование, отпущение преступлений. Ничто на него не действует. Послов моих задержал. Наконец послал я и пана Хмельницкого, ротмистра вашей королевской милости, человека расторопного и хорошо знающего казацкие гуморы, с увещанием, ручаясь моим словом, что волос не упадет с его головы. Но не тронутый и этой благосклонностью, отправил ко мне моих послов с требованием, чтобы коронное войско вышло из Украины; чтобы паны полковники, со всею их ассистенцией, были из полков удалены; чтобы правительственная ординация относительно казаков была уничтожена».
Далее Потоцкий доносил королю, что Хмельницкий зовет к себе на помощь татар, которые хоть и вернулись главною массою в свои кочевья, но все еще чего-то ждут у Днепра. Несколько сот крымцев переправил он даже на сю сторону, с тем чтоб они сгоняли польские сторожи, поставленные на разных пунктах для удержания своевольных людей от побегов на Запорожье. Слышно было, что у Хмельницкого уже 3.000 казаков. В этом Потоцкий видел доказательство, что он давно уже думал о том, как начать свой бунт.
«Сохрани Бог» (продолжал коронный гетман), «еслиб он с этим войском вступил в Украину! Тысячи обратились бы вдруг во сто тысяч, и было бы нам, что делать с этими своевольниками. Теперь он готовит и укрепляет себе на Буцке город (horod), и решился сильно в нем обороняться. Высоки доводы вашей королевской милости, которые благоволите высказывать по предмету отвращения этого несчастья: чтобы дозволить своевольникам идти на море, еслиб того пожелали. Не того ему хочется, чтоб идти на море, а того, чтобы жить в стародавнем своевольстве и чтобы ниспровергнуть священные постановления Речи Посполитой, стоившие стольких трудов и шляхетской крови. Согласен я, что для общественного блага следовало бы пустить казаков на море, именно в интересах самой Речи Посполитой, чтоб эта милиция не залегала поля и не забывала давнишнего способа войны, который может в последствии понадобиться. Но в такое скользкое время нельзя этого сделать потому, что одни челны еще не готовы, а другие хоть и готовы, но не так снаряжены, чтобы годились для морской битвы. Поэтому неготовые приказал я кончить при себе, а на место сделанных кой-как будут присланы другие. Но хоть и будут изготовлены, для этого необходимо, чтобы казаки были успокоены и в надлежащем порядке отправлены, если то укажет надобность Речи Посполитий и воля вашей королевской милости. Ибо, сохрани Боже, чтобы неуспокоенные вышли они на море и, вернувшись, подняли неугашенный бунт: тогда удержать их в указанной ординации Речи Посполитий значило бы воевать и с казаками, и с турками, и с татарами. Вот почему надобно, по моему мнению, постараться, как я и стараюсь, угасить сперва нынешние бунты. Но во всем этом я желаю повиноваться воле и повелениям вашей королевской милости».
Было это писано, вероятно, в то время, когда султан запретил татарам вторгаться в Польшу. Паны были этим обрадованы, и фельдмаршал окончил свое покорно-оппозиционное оправдание горькою для короля лестью:
«Рад бы я был видеть в эту зиму победы вашей королевской милости над неприятелем Св. Креста и новые лавры, украшающие ваше славное имя; но так как задуманные предначертания (вражеские) отменены, что видно из прилагаемых при сем писем господаря, то униженно прошу принять от меня венец служения отечеству».
Таково было положение измечтанной королем Турецкой войны и действительного бунта Хмельницкого в конце марта 1648 года, когда Потоцкий, обеспеченный дружественным письмом Ислам-Гирея, решился послать против Хмельницкого войско и подавить бунтовщиков, пока они не усилились приливом своевольных людей из Украины. Между тем Хмельницкий, в начале марта, заключил договор с татарами, отдал хану в залог сына своего, Тимофея, а сам вернулся на Запорожье сзывать к себе казаков.
Войско, находившееся в распоряжении Николая Потоцкого и его товарища по гетманству, Мартина Калиновского, долго стояло в бездействии между Брацлавом, Винницею и Белою Церковью, в предупреждение татарского набега. От Белой Церкви до Канева оборонять Поросье должны были польские торки и берендеи, казаки, а за Днепром Посулие защищали многолюдные дружины удельного, можно сказать, князя Речи Посполитой, Иеремии Вишневецкого. В виду быстро закипающего бунта, Потоцкий не дождался королевского универсала для наступления на казаков, как бывало до сих пор, и поспешил на театр своих подвигов 1637 и 1638 годов.
Теперь уж Николай Потоцкий был не тот, что в оные прославленные им годы, когда шляхетский народ восторжествовал над народом казацким и, как панам казалось, навеки подчинил его своей законодательной власти. Болел Потоцкий панскою болезнью, подагрою, и в Агамемноновском своем походе на Сулу. Десятилетие, проведенное среди «хлебоядцев» и винопийцев гостеприимного дома Потоцких, сделало польского защитника Поросья и Посулия неспособным сесть на коня. Он ездил по полкам в карете и во время битвы. Но в отяжелевшем теле носил Потоцкий энергический дух своих предков, русичей: ибо не напрасно волочилась Польша за нашими буйтурами, вовлекая их в свою национальность: она ловила в Малороссии таланты, которыми была скудна, и этими талантами прославилась в католическом свете. Потоцкий веровал, подобно православному ляху Киселю, что «никогда хлопская рука не возможна есть подвизатися противо своим господином».








