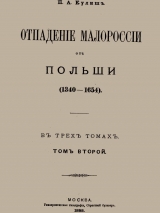
Текст книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"
Автор книги: Пантелеймон Кулиш
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
«12 мая прибыл я в Уяздов, и слышу изо всех уст о войне. Удивляюсь, расспрашиваю, доискиваюсь причины. Я думал, что шведы ударили на нас, как прибыл ко мне коронный канцлер от короля с уведомлением, что, вместо зайца, поймали на охоте войну... Я спросил: напечатаны ли уже листы для ротмистров? – Еще нет. – Тогда я сказал, что скорее позволю отрубить себе руку, нежели приложу к ним литовскую печать. Коронный канцлер был того же мнения».
Король почувствовал необходимость сделать первый легальный шаг для того, чтобы втянуть Речь Посполитую в пойманную на охоте войну. Сеймовое постановление 1613 года гласило, – что в случае какой-нибудь внезапной опасности, король обязан предупреждать ее «по докладу радным панам, каких скорее может увидеть». Владислав призвал в Варшаву самых приверженных к нему членов Сенаторской Избы, чтоб убедить их в грозящей Польше опасности и склонить к войне. Постановление панов рады узаконило бы его поступки и – что всего важнее – подскарбий, то есть государственный казначей, мог бы тогда выдать ему сумму, которую Речь Посполитая собирала уже четыре года на случай войны с Турцией.
Оба канцлера опасались этой сенаторской рады, и потому условились видеться накануне в саду монахов реформатов для совещания.
«Я советовал» (пишет литовский канцлер), «чтобы рады не было, по той причине, что постановления секретных сенаторских рад всегда зависели от решения короля. Завтрашняя рада не сопротивлялась бы его мнению, и мы должны были бы взять его вины на себя, а пока оправдались бы на сейме, общая ненависть задушила бы нас. Вот почему советовал я отложить раду до коронации королевы, чтобы дать обществу время ознакомиться с этим делом».
Так и было поступлено. Оссолинский убедил короля, точно учитель школьника, отложить безотлагательное в его революционных интересах дело, и так как оба канцлера не согласились печатать приповедных листов, то король велел печатать их комнатною (pokojawa) печатью. О комнатной печати в сеймовых постановлениях вовсе не упоминалось, и каждому гражданину представлялся полный произвол «респектовать» эту печать, или нет.
Когда происходила в Варшаве такая путаница королевского и панского двоевластия, пришло официальное известие о событии, которое говорило ясно, что и на русской почве Польша стоит неурядицей: казаки вышли на Черное море. Это известие произвело в среде можновладников чрезвычайное волнение, точно как будто с их стороны было сделано все, что мог бы сделать, в качестве панского диктатора, Конецпольский для предотвращения подобных событий.
Одновременно с одной революционной новостью поразила панов и другая: к Люблину двинулось 40 пушек, а перед арсеналом стояло уже 20 новых, готовых для похода. Венецианский посол, получив часть занятых у королевы денег, делил их между офицерами, давая себе такой вид, как будто он управлял войною. Тьеполо обращался с речью к жолнерам, обещал награды, надзирал в арсенале за работами, объявлял даже, что король выступит в поход.
В то же самое время заграничные газеты говорили о королевских планах, неизвестных правителям Польши, о договорах с иностранными державами, игнорировавших права Речи Посполитой.
Все это возбуждало в сенаторах негодование; а тут еще было получено известие о приближении турецкого посла. Надобно было действовать.
В несколько дней все можновладники пришли в движение и соединились против короля. Революция королевская вызвала в Польше революцию шляхетскую. Быстро вскипела оппозиция, и уже литовские «сословия» требовали от короля созвания сейма, в противном случае, грозили прибыть в Варшаву и держать рады, хотя бы и в его присутствии. Сенаторы, резиденты и прибывшие по их зову члены Сенаторской Избы, истощив напрасно просьбы и убеждения, стали обходиться с королем дерзко даже в гостях у Оссолинского. За обедом коронный подканцлер, Андрей Лещинский, указывая пальцем на послов французского и венецианского, спросил вслух: «Что это за послы? по какому праву сидят они за королевским столом? Королевская свадьба кончилась: зачем они остаются у нас»?
Этой наглости даже и Владислав IV не вынес: он уехал поспешно с королевой и со своей свитой. Гости Оссолинского остались в великом волнении. Сенаторы принялись разбирать поступки короля: упрекали, что он руководился советами своих иностранцев, которые разносили по всему свету секреты Речи Посполитой; что сделался орудием чужой политики в руках венецианского посла; что своим образом действий хочет вызвать междоусобие; указывали на его болезнь и на лета, на ссору с соседними государствами по поводу вооружений, и все приходили к тому заключению, чтоб не позволить ему вербовать войско и не поддерживать войны, которую задумал он противозаконно, вопреки присяге и без внимания к возможным последствиям.
Канцлер говорил сдержанно, не хотел выступить против короля открыто, и представлял, что Речь Посполитая имела бы достаточно поводов к нарушению мира с Турцией. Этим он утвердил многих во мнении, что и сам был участником замыслов короля.
Паны группировались вокруг литовского канцлера, который делал королю самые неприятные представления в самых почтительных словах, и Оссолинский уступил наконец просьбам своего панегириста, чтобы к его напрасным убеждениям присоединил и свои. Король оставался при своей решимости, однакож задержал в Варшаве пушки, приготовленные к отправке.
Владислав сделался раздражителен, чего с ним до тех пор не бывало. На непрошенный совет Якова Собиского, относительно Турецкой войны он отвечал с таким язвительным презрением, что гордый магнат «впал в меланхолию, заболел и вскоре умер».
К увеличению досады, терзавшей короля, со всех сторон посыпались к нему письма от бискупов и светских сенаторов. Особенно горько ему было письмо князя Иеремии Вишневецкого, товарища Конецпольского в Охматовской победе и самого воинственного из магнатов, который, будучи в это время опекуном малолетнего наследника Фомы Замойского, располагал значительною силою. Этот объявил королю без обиняков, что Турецкой войны предпринимать без ведома Речи Посполитой не следует.
Но громче всех был голос краковского воеводы, Станислава Любомирского, считавшегося «великим и первенствующим в государстве мужем». Он обратился к королю с письмом по просьбе малопольских сенаторов, и его письмо разошлось во многочисленных копиях и в Польше, и за границей. Любомирский говорил, что король нарушил права и вольности шляхетские, ломает свою присягу, советы иностранцев предпочитает отечественным, искренним, опытным, и поступает так, как будто поляки утратили свою верность, или не понимали подобных предприятий и не имели сердца для смелого дела. Он просил не таить от поляков войны, в которой дело идет об их собственной шкуре, и заключил свое длинное послание надеждою, что настанет время, когда король уразумеет разницу между теми, которые хотят ему только полюбиться, и между верными, преданными своими подданными.
Письмо краковского воеводы было сигналом ко всеобщему ропоту. Короля называли «творцом вредоносных смут», дразнили подметными письмами, похожими на пасквили, грозили, что сейм разгонит навербованных жолнеров и привлечет вербовщиков к ответственности.
Король нашелся вынужденным вернуться к первоначальному плану, к походу на Буджаки, тем более, что в это время папа и князья итальянские обнадеживали его своею помощью. Владислав начал объявлять публично, что никогда не имел намерения начинать войну с турками; что все его приготовления были направлены к войне против татар; что никаких договоров против турок не заключал, и вообще ничего без согласия Речи Посполитой предпринимать не замышлял, так как все зависит от сенаторской рады, которая вскоре должна состояться.
Этим способом успокоил он бурю, которая собралась над его головою. Правда, сенаторы не верили, что никогда он о войне с турками не думал, но были убеждены, что король уступил их просьбам и желает идти путем законным.
По пословице: «каков приход, таков и поп», польские можновладники до тех пор вертели своими королями, вымаливая и вынуждая уступку за уступкою, пока наконец, в лице Владислава IV, увидели лукавого дельца по предмету царственности, вместо государя, – увидели не вершителя общественных дел, а школьника, которого от времени до времени надобно стращать. Не имея сами гражданского самоотвержения, требовали его от короля; присягая сами словом и противным слову намерением воображали, что избирательный король будет верен своей присяге. Рано или поздно должны были они проиграть в эгоистическую игру государство и раскаяться в своем иезуитстве.
Поступки Владислава, по-видимому, подтверждали то, что он говорил... 29 (19) мая он решительно разорвал договор с Венецией, и объявил пораженному изумлением послу её, что при таких обстоятельствах, как безденежье папы и князей итальянских, войны для обороны Италии вести не думает; велел ему вернуть данное королеве обязательство и принял заем на себя. Согласно просьбе великополян повелел изготовить и подписал универсалы под коронною печатью о прекращении вербовок и распущении навербованного войска. Запасы пороху, ядер, пушки и всю аммуницию приказал спрятать, лошадей и возовую прислугу отослал, в Стамбул обещал послать гонца для успокоения султана, а сам предался праздности и забавам, точно как будто голова его не была ничем озабочена.
И однакож, в то самое время, когда отпирался от всякой мысли о Турецкой войне, писал он к папе, к итальянским князьям и в Венецию, обеспечивая себя дальнейшею помощью. Графа Магни послал, в половине июня, к немецким князьям, приглашая их к войне с Турцией, а победоносного шведского полководца, Торстенсона, просил уступить ему свое войско. Князь Януш Радивил выехал в начале июня из Варшавы с инструкциями к волошскому господарю. Универсалы о распущении новобранцев лежали нераспечатанные. Вместо них, новонабранные дружины получили знамена с надписью: «Во славу Креста (Pro gloria Crucis)».
Военные приготовления не прекращались, только делались под предлогом войны с татарами. В арсенале работы шли день и ночь. На эти работы король ежедневно тратил по 1.000 дукатов. Из королевской канцелярии было послано приказание к прусским оберратам, чтобы содействовали вербовке пяти компаний драгун по 200 всадников, под начальством Крейца и Фабиана фон Кенигсек. Можновладники получили воззвание о доставке для королевской службы соответственного числа жолнеров. Приповедные листы выдавались под комнатною печатью.
Варшава наполнилась офицерами различных вооружений и рангов. Король ограничивался только сообществом военных людей: с ними проводил время, охотился, пил, веселился, и так как обладал редкою способностью привлекать к себе и убеждать людей, то в короткое время такую возбудил к себе преданность, что все были готовы лезть в огонь по его мановению. Чтобы привлечь к себе военные таланты, наименовал Николая Потоцкого краковским каштеляном и коронным гетманом. Потоцкий был противником Турецкой войны, но татар воевать был готов, и обещал выполнять королевские повеления.
Имея вождя и войско на своей стороне, король надеялся, что в августе можно будет начать военные действия и, под видом войны с татарами, втянуть Речь Посполитую в войну с Турцией.
Под конец июня разослал он письма ко всем сенаторам с приглашением в Краков на коронацию королевы и на совет. В письмах жаловался на распущенные вести, якобы он, без ведома сейма, предпринимал войну с Турцией, просил этим вестям не верить и успокоить шляхту, так как он готовит войну против татар, на которых московский царь уже наступил, пока султан, занятый войною, не может их оборонять.
«....Предоставляем это рассудку вашей преданности, uprzejmosci waszej» (писал он к популярному краковскому воеводе, Любомирскому), «столь достойное и с делом короля согласное намерение заслуживает ли такого превратного истолкования, для того, чтобы встревожить доверие преданных нам подданных, которое мы столькими благодеяниями так утвердили в их сердцах, что не опасаемся, чтобы его поколебали порывистые рассуждения и представления нашего намерения. Требуем, однакож, от вашего усердия, дабы, по вашей сенаторской обязанности, вы содействовали пренебрежению этими неосновательными слухами и доверчивому мнению о нашей опеке гражданских прав и вольностей. Впрочем близок уже наступающий сейм, который, если, по совету панов сенаторов, не ускорит, то на время, определенное законом, созвать не замедлим, и тогда об этом предмете откровенно побеседуем с вашею преданностию....»
Этим способом король, в течение одного месяца, так обработал общественное мнение, что в Варшаве никто не подозревал упорства, с которым он держался своего замысла. Нашлись даже такие, которые готовы были присягать, что король о Турецкой войне никогда и не думал. Но в провинции не удалось ему так легко отвратить подозрение: ибо вербунки, происходившие там у всех перед глазами, и новые приповедные листы под комнатною печатью, – опровергали уверения, что король оставил мысль о Турецкой войне. Не хотели верить, чтобы против татар надобно было вербовать вооруженную тяжело пехоту. Война с татарами также не была очень популярна. Появились многочисленные сатиры, летучие сочинения и колкие шутки против короля и его гетмана. Распускали слух, что москалей татары разбили наголову.
Зато приверженцы двора разглашали, будто коронный гетман прислал известие о завоевании венецианцами Дарданелл, а для возбуждения религиозной ревности католиков было распущено в то же время пророчество о погибели турок в 1646 году, вместе с поддельным письмом султана Ибрагима к королю. Султан грозил, что возьмет Краков, ксендзов и их распятого Бога без милосердия потопчет, веру искоренит, монахов будет разрывать лошадьми. «Пускай де на меня досадует Бог твой: имея за собой Магомета, я совершу все»...
Уклонения от долга, чести и национального достоинства со стороны короля, которого панское общество выработало по образу своему и по подобию, для русского читателя могут казаться посторонними предмету книги. Но я напомню ему, что в отпадении Малороссии от Польши совершилось отпадение верхних слоев народа от самой Малороссии, вместе с тою землей, которую наши отступники предали ipso facto в обладание иноверцев и иноплеменников. Клерикалы обделали свое дело в пользу польщизны давным давно. Мы забываем уже, как звали тех, которые были представителями странной метаморфозы, и пишем в русской истории имена Радивилов, Сопиг и пр. и пр. в ополяченной форме. Но, повествуя о черторые польской жизни со слов самих поляков, и часто подлинными словами поляков, не должны забывать, что в этом черторые кружились, тонули и утонули наконец, может быть, лучшие из наших малорусских людей вместе с худшими, и что поэтому на историю польской неурядицы, почти во всех случаях, можно смотреть как на горестные воспоминания о наших собственных предках.
Оссолинский – с того времени как склонил короля отказаться от войны с Турцией, повернул его к первоначальному плану похода и уничтожил преобладающее влияние венецианского посла, – сделался вновь горячим приверженцем королевских замыслов, и стал во главе действия. Он умел изгладить в умах мысль о заговоре с королем против шляхетских вольностей, и разгласил по всей Польше, будто бы король отказался от войны с Турцией по его убеждению. Великопольские сенаторы благодарили его за королевское письмо, «в котором де нас его королевская милость уверяет, что ничего такого не замышлял, что причинило бы ущерб нашим правам, и так как ваша милость был и есть причиною того, за это вашей милости много благодарны».
Перемена в образе действий Оссолинского очевидна. Через девять дней по разрыве с Венецией, канцлер явился у венецианского посла и, между прочим, сказал ему, что «можно бы и не оставлять начатого дела, еслиб только король был уверен, что не будет оставлен», а через несколько недель уведомил Тьеполо, что сенаторская рада соберется в Кракове и что король нуждается в помощи.
Король действительно нуждался в помощи, то есть в деньгах, так как после краковской рады намеревался двинуться во Львов и начать кампанию.
27 (17) июня выехал он из Варшавы в Краков, и в день его выезда выступило ко Львову 3.000 пехоты. Повеление вывозить остальные пушки было приостановлено, дабы не возбудить подозрения.
В Ченстохове король снял с себя саблю, положил на алтарь Богоматери и велел освятить хоругвь новосформированных гусар. В этом акте поляки видят его возвращение к мысли об учреждении ордена и рыцарства Беспорочного зачатия: тем и другим он мог надеяться привлечь охотников к войне с неверными.
17 (7) июля после коронации королевы, в Кракове состоялось первое заседание сенаторской рады. Король представил ей то самое, что повторял уже целый месяц: уверял, что никогда ничего противного праву делать не намеревался; что о войне с турками не думал; что желал только предупреждать ордынские набеги, но и войны с татарами не имел намерения начинать без дозволения Речи Посполитой, чему де доказательством служит созванная рада; приготовления же и договоры с христианскими державами делал в надежде, что Речь Посполитая, несомненно, согласится на эту войну. Потом представил сенаторам причины, которые склонили его мысли к татарской войне. Эти причины были: готовность Москвы воевать заодно с Польшей и ослабление Турции, которым надлежит воспользоваться. Но совсем умолчал о казацком союзе с татарами, из опасения, чтоб этот секрет не сделался предметом толков. Наконец, просил присутствующих, чтобы не только сами согласились на Турецкую войну, да и Речь Посполитую искренно к тому приводили.
Сенаторов было в раде 19; предводительствовали ими 5 бискупов. Все они знали уже о задуманном открытии кампании, усиливались отвлечь короля от войны и склоняли к созванию чрезвычайного сейма; наконец объявили, что без третьего, то есть «рыцарского сословия, второе сословие, (состоявшее из сенаторов) и первое (представляемое особою короля) не имеют права решать вопрос о предполагаемой королем войне.
Такую же декларацию получил король письменно и от сенаторов отсутствующих. Так называемый гремиальный (задушевный) лист великопольских сенаторов и шляхты, адресованный к королю и коронному канцлеру, признавал, как отеческую попечителность монарха, так и пользу войны с Ордою; «но поелику» (писали великополяне) «речь идет здесь о войне наступательной, которой без согласия всех трех сословий начать нельзя», то они просили Владислава – свои королевские предначертания приспособить к общественному праву и приостановиться с военными действиями, доколе сейм не согласится на татарскую войну, которая де может навлечь на государство войну Турецкую: ибо и турецкий «император» должен за своих подданных, и король не на татар, а на турок готовится.
Краковская рада продолжалась три дня. Оссолинский поддерживал мнения сенаторов, как объявил об этом сам в ответе великополянам. Согласились наконец в том, что король сзовет 23 (13) октября сейм и уведомит все державы, с которыми начал договоры, чтобы прислали на сейм послов с определенным и твердым объявлением, чего Речь Посполитая может от них надеяться в случае войны. Наконец, сенаторы признали войну с татарами необходимою, обещали склонять к ней шляхту, просили только «униженно», чтобы король не выезжал во Львов и не возбуждал этим турок, а лучше употребил то время на поправление своего здоровья. Король отвечал, что должен посоветоваться с коронным гетманом, а когда ему советовали лучше вызвать к себе гетмана, или через верного человека объявить ему свою волю, он оставил этот совет без ответа и удалился.
Пытались еще однажды, вечером, сделать ему представление об этом деле, но король, произнося несколько непонятных слов, велел прислуге нести себя в спальню, откуда тайком уехал в Неполомицы на охоту.
Гнев бискупов-сенаторов обратился на венецианского посла. Едва король уехал, ему велели, в два часа ночи, выехать за 4 мили от городского округа. Тьеполо поехал жаловаться к королю, и застал у него графа Магни, который вернулся из своего посольства с донесением, что, как немецкие князья, так и Торстенсон отказали в своей помощи.
«Мы сделали все» (сказал король венецианскому послу), «что были в силах. Все князья отказали нам в помощи; весь народ нам воспротивился; мы подвергли опасности наше королевское достоинство... Но не сожалеем о том; по-прежнему стоим на своем предприятии, и когда б имели достаточно помощи, могли бы теперь действовать еще успешнее».
К этому прибавил он, что выезжает во Львов; что значительные силы стоят уже на границе; но если решительный ответ итальянских князей придет поздно, тогда – все кончено.
Граф Магни получил тотчас повеление ехать в Италию. Король отправил гонцов к московскому царю и в Персию, а сам выехал во Львов, повелев остальные пушки везти за собою.
Поездка во Львов открыла глаза всем, кто до сих пор верил королю, что он с Турцией воевать не думает. Вспомнили, что еще в мае говорили в Варшаве публично; что военные приготовления окончатся в июле; что тогда же король выедет во Львов; что в первых числах августа выступит в поле... Поэтому выезд его во Львов считали началом военных действий против Турции.
5 августа прибыл король в город нашего Льва Даниловича. Его сопровождала королева, вместе с нунцием, французским послом, Оссолинским и несколькими надежными приятелями. Едва приехал он в столицу Червонной Руси, как его засыпали письмами можновладников. Шляхта следила за своим королем, как за опасным врагом. Знали, кто входил в архиепископские палаты, где он остановился, кто выходил. Знали, у кого король был и с кем говорил. Ловили на лету слова его дворян. Но не было возможности проникнуть в окружавшую его тайну.
Король сделал смотр войску. Но видя, что вербовка шла вяло, по недостатку денег, что шляхта сторонится от военной службы, а можновладники проникнуты духом оппозиции, решился, вместо дальнейшего пути к Подольскому Каменцу, вернуться в Варшаву. С этим намерением созвал он, под величайшим секретом, военный совет, и повелел гетману Потоцкому, ставши с обозом под Каменцом, ожидать дальнейших распоряжений. В то же время казаки вышли вновь на Черное море, а король отправил изо Львова к султану письмо, обвинявшее Турцию в нарушении мира, так как буджацкие татары не переселены в Крым. Это письмо было вызовом на войну. Король, очевидно, надеялся, что Порта потребует объяснений и пойдет на уступки, или же станет грозить войною. В случае благоприятного ответа со стороны венецианской синьории и князей итальянских, как опасения, так и угрозы Порты могли только помочь королю на сейме для начатия войны. Но если бы Венеция ответила отрицательно, тогда вооружения короля и уступки, ожидаемые от Порты, принесли бы по крайней мере ту пользу Польше, что буджацкие татары были бы переселены в Крым. Во всяком случае, можно было бы, на основании этого письма, начать переговоры и доказать Порте ясно, что вооружения короля были направлены не против неё, а против буджацких татар.
Между тем гетман Потоцкий, вместо того, чтобы повиноваться королевским повелениям, донес обо всем сенаторам, а они советовали ему, с предостережениями и внушениями, чтобы медлительностью уклонялся от исполнения королевских распоряжений. Согласно с панскими внушениями, Потоцкий изыскивал различные препятствия к немедленному перенесению лагеря под Каменец, пока король, не догадываясь о его махинации, вернулся наконец в Варшаву ни с чем.
«Был я у короля» (писал в Венецию Тьеполо), «лишь только он вернулся изо Львова, и нашел его непоколебимым в своих предначертаниях. Король говорил мне, что его пребывание во Львове встревожит Порту; что баша силистрийский прислал во Львов соглядатая с уверением, будто буджацкие татары получили строгое повеление не появляться в Польше, а быть в готовности против Москвы. Сказал мне также, что нетерпеливо ждет возвращения графа Магни и сейма, и что получил верное известие о казаках: они ободрены удачею в морском походе и двинулись дальше».
Поездка во Львов и смотр войска дали шляхте новый повод к нареканиям. Даже придворные говорили о короле дурно, называли его нарушителем вольностей, угнетателем народа. Не только словом, но и письменно подрывали они славу его и подстрекали общество к бунту.
Двусмысленное в глазах двух государственных сословий поведение Оссолинского и его секретные совещания с королем во Львове возбудили против него не меньшие подозрения и досаду, как и против короля, – тем более, что в этом городе, по его всемогущему влиянию, решен был важный для магнатских партий вопрос о том: кому, после возвышения Николая Потоцкого до «великой булавы», король вверит «булаву малую», то есть полевое гетманство. Наибольшее право на этот высокий пост, по военным заслугам, имел сподвижник Николая Потоцкого в последнем, опасном для панов усмирении казацкого бунта, Станислав Потоцкий, воевода подольский. За ним следовал не менее известный воинскими подвигами воевода русский, князь Иеремия Вишневецкий. Наконец, по обычной в Речи Посполитой наследственности дигнитарств, следовало бы малую булаву предоставить сыну великого Конецпольского, Александру, коронному хорунжему. На ходатайство Оссолинского в пользу свекра его любимой дочери, Урсулы, черниговского воеводы, Мартина Калиновского, перевесило все, чем эти три кандидата возвышались во мнении шляхетского народа.
По горестной для Польши случайности, новый коронный полевой гетман был внук того Калиновского, который «переломал ребра отцу Северина Наливайко и которого Наливайко называл, в письме к королю, счастливым, что не захватил его дома, когда налетел на его местечко Гусятин с венгерских гор, сжег замок и разорил местечко.
Теперь потомство самовластного магната глухим еще покамест гулом нового казацкого бунта вызывалось на боевой суд, по-казацки на суд Божий, с наследниками и учениками дикого Царя Наливая.
Но Божий суд совершался уже над всеми олигархами польско-русской республики за их презрения, – совершался в том смысле, какой выражен в русской и польской пословице: «кого Бог захочет покарать, у того отнимает разум». Не предвидя, в гордости многовековых успехов, какое унижение готовится им в наследственных приватах их, они устами многочисленных своих приятелей и клиентов ревели против нарушения политического равновесия панских партий и наконец свой рев сосредоточили в безымянном «дискурсе», [13]13
Dyskurs jednego Dworskiego per modum Listu pisany we Lwowie.
[Закрыть] обвинявшем канцлера в том, что, под предлогом Турецкой войны, намеревался он уничтожить шляхетские вольности и реорганизовать Речь Посполитую.
«Это давнишняя мысль канцлера» (писал безымянник) «уничтожить шляхту и ввести в Польше правление оптиматов (аристократов). Не так он привержен к монарху, чтобы желать ему правления наследственного; нет, он хочет ввести такое положение, чтоб у нас не было ни полной вольности, ни полной неволи. Он хочет быть не министром, а товарищем короля. К этому, после всех его подвигов, были направлены его широковещательные дискурсы о Правах Посольской и Сенаторской Избы. С этой целью сочинил он кавалерию, которой сломили голову, и которую теперь поднимают за хвост. Для того же искал он в Империи княжеских титулов, и наследственных князей в Польше уничтожал. То же самое обнаружилось в благодарности, вымученной у шляхты, в контрибуции, выжатой у ксендзов, в складках, выманенных у городов. То же самое и в вопросе, как повалить Посольскую Избу. То же высказалось и в гвардии для развода схваток на сеймах. Вот почему не решался он привыкший к вольности народ привести к строгому повиновению, а довольствовался постепенным увеличением королевской власти. Не имел он и теперь намерения выступить с насилием; но когда его захватили врасплох королевские замыслы, захотелось ему воспользоваться случаем и ниспровергнуть существующее правление в Польше. Давно уже сказал о нем варвар, что это польский Ришелье, только что не попал на такого государя, которого мог бы сделать статуею, а себя – королем».








