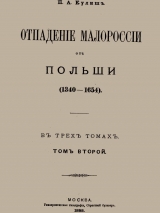
Текст книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"
Автор книги: Пантелеймон Кулиш
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Избранники панского большинства, Заславский, Конецпольский и Остророг, изъявили согласие на то, чтобы во главе комиссаров стоял миротворец Адам Свентольдич Кисель. Представитель панского меньшинства, князь Вишневецкий, устранился с негодованием от совещаний польских царей и, подобно гневному сыну Пелея, обращал в уме своем грозные мысли, проникнутые глубокою скорбью. То он готовился (по дошедшему до Кунакова характеризующему Речь Посполитую слуху) «наварить полякам пива горше Хмельницкого», то решался предоставить их погибельной их участи, то намеревался совсем уехать из безалаберного и неблагодарного отечества.
Правоправящая панская республика, в борьбе с революционной республикой казацкой, все еще мерила взаимные свои отношения мерилом прошлых своих успехов и своего торжества над нею. Депутованные на казацкую комиссию предполагали, что, для транзакции с казаками, всего лучше было бы избрать место, недалекое от Киева, где бы можно было покупать съестные припасы для своей ассистенции, а коронное войско, чтобы стягивалось между тем к Константинову. Ассистенция же комиссаров (совещались паны) не должна быть ни слишком многочисленна, чтобы не испугала казаков, ни слишком мала, чтобы казаки не пренебрегали её. Казаки хотят 12.000-ного реестра (размышляли депутованные). Пожалуй, можно согласиться на одну-другую тысячу. Казаки просят об уплате жолду. Но ведь приготовленные для них деньги (с дефицитом в 230.000) взяты вместе с обозом, да притом же из-за этого жолду наделано столько шкод и татарами, и самими казаками... Но всего забавнее в совещаниях представителей Польского государства, что они придумывали меры к тому, как бы казаки не показались перед шляхетским народом предписывающими ему условия.
Это происходило 24 (14) июля, – и тут же Варшава получала известия о хлопских разбоях в «Литве и в Руси», о беспощадных нападениях Перебийноса на шляхетские жилища.
На другой день депутованные заседали у примаса. Тот спрашивал, как о предметах равнозначащих: что делать с диссидентами, которые хотят отменить сеймовой декрет об уничтожении в Вильне протестантского збора, и что делать с новонавербованными жолнерами, угнетающими духовные добра своими стациями?.. Депутованные важно решили: сопротивляться диссидентам, а жолнерские угнетения переносить в это плачевное время терпеливо.
С той же важностью постановили, 26 (16) июля, – чтобы комиссия началась 23 римского августа в Киеве, а кончилась 6 сентября, чтоб от казаков потребовать освобождения пленников и выдачи пушек. Пускай де казаки разорвут лигу с татарами, беспокойных людей выдадут, верность Республике возобновят; уплаты жолда пускай не надеются по причине наделанных ими шкод; королевские листы возвратят; вольностью довольствуются такою, какая дарована им комиссиею Кумейскою, а maximum – Куруковскою, и т. п.
Как бы в ответ на эти несообразности Варшава получила вести, что Кривонос овладел Полонным, местечком краковского воеводы Любомирского (к которому так ластился Хмельницкий после Корсунского погрома) и произвел в нем неслыханные убийства над беззащитными людьми, как об этом было говорено уже выше. Зато сторонники князя Вишневецкого уведомляли раздраженных варшавян, что он, командуя только 6-ю тысячами жолнеров, три раза бился с 60-ю тысячами казаков и положил их 10.000 трупом.
Непосредственно за этими вестями в дневнике Радивила записано, без всякой иронии, следующее: «Мы, депутованные, целый день провели в споре с диссидентами», а в Дневнике Варшавской Конвокации читаем, – что едва не все воеводства объявили свою решимость – отделиться от диссидентов с протестациею против них (cum protestatione contra dissidentes).
Всё-таки кровопролитие, произведенное Перебийносом в Полонном, заставило панов немедленно отправить полномочную комиссию к казакам под начальством брацлавского воеводы, и казалось им, что они сделали весьма важное дело.
Между тем из разных мест получались донесения о признаниях, вымученных пытками у пленных казаков и казацких шпионов, бродивших под видом попрошаек.
Одни из них рассказывали, будто бы московские послы были у Хмельницкого (шляхта всего больше боялась его сношений с Москвою) и объявили ему, что царь просит казаков уступить ему землю по Днепр, а он за то поможет казакам прогнать поляков за Вислу и сядет на Польском королевстве. Другие показывали, будто бы малорусские владыки снабжали казаков порохом, пулями и гаковницами. От третьих судебная инквизиция узнавала такие важные вещи, – что какой-то чернец говорил: «Кто лучший, тому, Господи, помоги», или такие, – что в Новом Константинове есть мещанин Харко, который сносится с казаками, и еще: что в таком-то местечке есть у казаков приятели – Харко, Иван, Мартан, Иванко, Лесь, Павлюк: или, наконец, – что в Володарке есть трое таких, у которых не допытаются ничего и десять катов: такое де знают зелье. Эта исповедь, раздражавшая попусту чернь против «панов ляхов», стоила споров с диссидентами. Умы, как видим, были в тумане.
С своей стороны продолжал туманить правителей безгосударного государства Хмельницкий своими письмами, и распускал о нашем духовенстве и его пастве разные слухи соответственно своим целям.
Не советовавший прощать казаков наследник Острожского вопиял теперь, в письме к примасу, что дела находятся в отчаянном положении, и боялся уже, чтоб «не упала высокая Троя (i boje sie, zeby nie upadla alto a culmine Troja)». Он отправил одного из своих приближенных, какого-то Колонтая, послом к Хмельницкому, – к «предателю Хмелю», как называл его перед панами.
По этому случаю почтил его своим письмом предтеча предателя Хмеля, Кривонос.
Знаменитый истребитель жидов, стариков, женщин и детей уверял князя Заславского, что казаки не хотели опустошать Польской земли, но заелся де с ними князь Ярема, тиранил, посекал, сажал на кол невинных людей, в каждом городе становил среди рынка виселицу, а потом буравил глаза. «Мы тоже» (писал человеколюбивый разбойник), «обороняя свою веру и жизнь, были принуждены стоять за свою обиду. Вот и о наших послах не имеем никакой вести. Видно, уже спят, что не проснулись до сих пор. А жидов» (закончил письмо кровавый лыцар) «направляйте к самой Висле. Вся беда началась от жидов: ибо они свели с ума и вас».
Это было написано перед резнею в Полонном, которая (говорит Радивил) произошла от того, что казаки поверили распущенным хлопами слухам, будто их послов посадили в Варшаве на колье: легковерие, достойное казацких потомков, малорусских историков и беллетристов.
Чем ничтожнее был, по своей природе, князь Доминик, тем больше дорожил его влиянием на миротворцев Киселей казацкий батько, Хмель. Отпуская Колонтая из Паволочи, он вручил ему универсал к нескольким городам, чтоб его не задерживали ни хмельничане, ни татары, то есть, чтоб успокоительный ответ на посольство дошел по адресу.
Хмельницкий свидетельствовался Богом перед «ясноосвещенным» князем Заславским, что, будучи неизменными слугами Речи Посполитой, казаки желали мира от всего сердца; но наступил де на них князь Вишневецкий, которого они отпустили из-за Днепра, хотя держали, можно сказать, уже в руках, и поэтому казаки должны были двинуться войском. В удостоверение своих слов, посылал ясноосвещенному князю для прочтения универсалы его милости князя Вишневецкого и письма из Москвы. Хмельницкий ждал только своих послов из Варшавы, чтобы вернуться со всем войском и с Ордою в Украину: «пускай де не бродят больше в христианской крови»... «Да и то» (продолжал он) «я постоянно удерживаю своих от чат и грабежа не чем иным, как только мечем, и именно потому, что ваша княжеская милость благоволите являть столь великую милость к нам, нижайшим слугам своим, еще с предков своих. Будучи этим чрезвычайно обрадованы» (лебезила далее старая лисица перед старой вороной) «и возблагодарив за это сперва Господа Бога, мы готовы исполнить всякое повеление вашей княжеской милости, в таком упадке Польской Короны. Только сердечно и униженно просим, благоволите сноситься с нами, своими нижайшими слугами, обо всем. По желанию его милости пана Колонтая, велел я выдать строгий универсал к нескольким городам, чтоб имения вашей княжеской милости для войска нашего были неприкосновенными и мы прилагаем всяческое попечение, чтобы никто не делал ни малейшей кривды ни вотчинам вашей княжеской милости, ни вашей княжеской милости слугам».
В заключение раболепного письма своего, Хмельницкий, не без тайной иронии, выразил желание отдать первенствующему магнату поклон лично со всем Запорожским войском. Мы увидим, как обрадовался католический потомок нашего Изяслава возможности такого поклона под Пилявцами. Он и теперь умолял уже примаса не полагаться на поветовые ополчения (praesidia) и обратиться к посполитому рушению да к панским собственным силам. В то же самое время послал он свою пехоту, в числе 2.500 человек, для обороны своих имений, под начальством Осинского, носившего звание обозного Великого Княжества Литовского, а сам занялся тем, чтобы своими переменчивыми приказами сводить его с ума. Опытный в военном деле Осинский мог бы погибнуть ни за что, но его спас Вишневецкий, подоспев к нему для совместных подвигов. С горстью мужественных людей, они успешно воевали против Кривоноса и отбили у него знамена корсунских квартяных, фамильное знамя Калиновских, четыре пушки и какие-то органки.
Казацкие ревучие гарматы действовали против панов так плохо, что не причиняли им никакого вреда, а от их мелкой стрельбы поле покрывалось казацкими свитками, «точно белым сукном». По реляции Осинского, Кривонос бежал от Случи «бесстыдно».
Но у смелых бойцов за боязливую братию было мало хлеба и фуража, а боевые силы их убывали с каждым боем. Князь Вишневецкий послал в сенат, от 30 (20) июля, коллективное письмо, подписанное главными его соратниками. То были: киевский воевода Януш Тишкович, коронный стражник Самуил Лащ, обозный Великого Княжества Литовского Самуил Осинский и брацлавский подсудок Криштоф Тишкович.
Читателя поразит странное обстоятельство, что знаменитый банит Лащ Тучапский попал в число представителей польского патриотизма... «Так наша піч пече», могли бы сказать малорусскою пословицей поляки. По смерти Станислава Конецпольского, пан Лащ, правая рука его в борьбе с соседями, без которой не обходилась панская колонизация, а также – в отражении татар и в обуздании казаков, должен был бежать от киевской шляхты, окружившей его дом с приговорами трибунала в руках, и скрывался в магнатских домах от преследования закона, то есть от своих врагов. На сейме 1646 года о Лаще ходатайствовали в Посольской Избе, по обычной снисходительности панов к подобным преступникам. Бунт Хмельницкого вызвал его на боевую арену, под защитой военного экземпта, и тот же Януш Тишкович, который, в качестве киевского воеводы, послал на него местную шляхту, подвизался наряду с ним в борьбе с казаками. Между колонизаторами Малороссии случалось много раз, что недавние враги сражались плечо с плечем против азиатской дичи и родственной с нею дичи казацкой. Сам Вишневецкий ненавидел разбойника Лаща за многое, но в борьбе с казаками и казацкими побратимами, он, подобно Тишковичу, не делал различия между Осинским и Лащем Тучапским. Таким образом подпись Лаща красовалась рядом с подписью нашего Байдича.
Это было уже второе представление польских воителей польским доматорам, членам каптурового сейма и конвокации. Они доносили о несчастнейшем положении Республики (statum Reipublicae afflictissimum). Они видели всё большую и большую руину (ruinam) всего отечества. Они недоумевали, почему к ним, в их отважных боях с многочисленным неприятелем, не приходят ниоткуда вспоможения: потому ли, что паны братья сами по себе беззаботны, или же потому, что они отуманены напрасною надеждою на мир (spe traktatow ubespeczeni et vana nube armisticii obumbrati). «Предостерегаем вас опять» (писали воители), «что неприятель, под покровом обещанного мира, всё более и более увеличивает свои жестокости, всё шире и шире растекается и усиливается, так что в каждом хлопе надобно видеть врага, в каждом городе и селе – толпу неприятелей (catervas hostium). И неудивительно: из нашей беспечности чернь заключает, что все ей позволительно (omnia sibi licet in omnes). Отсюда происходит, что никто не сопротивляется, все разбежались, все подавлены страхом (wszyscy terrore pressi zostaja)».
После такого увещания, изолированные защитники польской чести и славы умоляли сенат не вести переговоров без Марса, чтобы не подпасть под власть неприятеля. Напрасные мольбы! Конвокационисты были только поражены (perculsi) новыми известиями, – больше ничего. С ужасом узнавали они, что силы Вишневецкого истощились потерями в битвах; что долее не может он сдерживать «импета» неприятеля; что отступает с обозом под Константинов; что Полонное осаждено (писавшие не знали еще, что Кривонос в него вломился); что Чорторыя и Черкин вырезаны... Но, вместо того чтобы послать своему защитнику помощь, они держали в Сенаторской Избе тайную раду, из которой велели выйти даже королевским секретарям, и целый день совещались – не о том, как отразить неприятеля, а о том, как поступить с самоотверженным героем. Надежды на мир до того сбивали их с толку, что Вишневецкий казался им опасным революционером, вроде самого Хмельницкого.
Письма казацкого батька к вельможным панам и распускаемые им, по старинному обычаю, выдумки, подействовали на панское общество так, как это было ему нужно.
Отособив талантливого полководца и от лучших, и от худших сограждан его, хитрый казак маскировал свои приготовления к борьбе с панами кривоносовскими набегами, которые разгоняли местную шляхту, обезоруживали панские замки и открывали ему свободный путь в глубину давнишней Украины – Волыни, Украины не казацкой, а шляхетской. Но путь к нему самому, в его украинские трущобы, оказался непроходимым для правительственных комиссаров.
Красноречивый и глубокомысленный Адам Кисель был одурачен им больше всех тех, которые в национальном собрании внимали ему, как оракулу. Предпринятая Киселем экспедиция превышала его вещественные и нравственные средства. Он и его трое товарищей, Сельский, Дубравский и Обухович (все наши соплеменники, избранные из среды депутованных, отправились под прикрытием полка в 2.000 человек, то есть такой ассистенции, «чтобы не испугать казаков», как совещались государственные люди; но эта ассистенция оказывалась ничтожною силою среди бушевавшей на Волыни казатчины. Загоны свирепого Перебийноса не хотели знать никаких мирных переговоров, и беспрестанно покушались побить комиссаров с их жолнерами; а Хмельницкий, «удерживавший своих от чат и грабежа ничем иным, как только мечом», не отвечал на приятельские письма Киселя, умолявшего его о защите от гайдамаков. Хмельницкий делал вид, будто ничего не знает о панском посольстве.
Казаки взяли и опустошили Полонное, Корец, местечко самого Киселя, Гощу, ограбили Геблиев, Тучин и все панские имения по Горыни. Не решаясь «идти в глаза» бушующим гультаям, Кисель остановился в безопасном еще от них Луцке и послал к Хмельницкому посланцов, жалуясь на прерванное таким ужасным способом перемирие, и прося обезопасить ему дорогу в Украину. Но, прождав напрасно две недели возвращения посланцов, пустился на Горынь в свои «пустки», и по дороге посылал в разные стороны подъезды, разгоняя разбойничьи купы. Победа над ними обходилась ему не дешево: он терял лучших людей своих и в конце концов не знал, как выпутаться из миротворной миссии.
Шляхетская Украина, Волынь, успокоившаяся от домашних разбоев со времен Косинского и Наливайка, не только была заражена казатчиною, но отрыгала и старую жвачку разбойной шляхетчины, так как эта некогда украинная область, со времен незапамятных, была тем, чем сделалась теперь собственно так называемая казацкая Украина. Самое имя её своим грамматическим складом показывает, что здесь волынь была таким же обычным явлением, как в хорошей избе – теплынь. Во времена варяжские в её лесистых и болотистых пустынях наездничала и гнездилась вольная воля, самоправная удаль. В литвопольском периоде нашей истории Волынь оставалась верною своему варяго-русскому прозвищу. Право открытой силы преобладало здесь над законом и обычаем больше, нежели, например, в Холмской земле, где, как мы знаем из автобиографии Иосифа Верещинского, шляхтич, не помеченный рубцами в имущественных столкновениях с «панами братьями», был замечательным исключением.
В земле Волынской власть и богатство представляли почти такую же грубую ассоциацию с рабочей силою, как и в собственно так называемой Украине, отодвигавшейся все далее и далее к востоку. Эта первобытная, чуждая строгой регламентации союзность повелительности с подчиненностью, работала здесь по закону тяжкой необходимости, и выработала общество, отличавшееся от варяго-русской толкотни только примесью польского языка и обычая к элементу русскому. Ни в одной из литво-русских и польско-русских областей не было столько богатых и убогих шляхтичей, титуловавшихся князьями, и нигде между служилыми и чернорабочими людьми не встречалось такое множество бояр. Сокрушенная Батыем варяго-русская система засыпала своими осколками Волынь густо. Когда Киевская земля опустела и Литва да ляхва захватили в свои руки остатки недобитой монголами Руси, – между Припетью и Днестром засели представители древнего русского самоправства, не хотевшие подчиниться новым порядкам.
В эпоху Наливайка были уже забыты кровавые смуты, которые пришлось пережить коренным литвинам и полякам для водворения на Волыни этого шаткого государственного права, которое делало польско-русское общество сборищем недоступных для закона преступников. Памятны были правительству только услуги князей Острожских, Заславских, Четвертинских, Сангушков, Чарторыйских, Корецких, Збаражских, Вишневецких, чуждавшихся уже верховодства в политических усобицах и помышлявших всего больше об интересах экономических. Эти потомки древней княжеско-боярской вольницы сделались тузами среди прочих князей и спустившихся до служилого звания бояр, благодаря силе, отваге и искусству властвовать: качества, бывшие в оно время естественною заменою нынешнего общественного права. По невозможности подавить своевольство этих можновладных дук, правительство старалось их задобрить пожалованиями и привилегиями, предоставляя им ту власть над городами и тянувшими к городам землями, которой не могло удержать за собою.
Купленные великими уступками со стороны польской верховной власти, наши русские дуки, из неугомонных бунтовщиков, сделались орудиями правительства для усмирения других демагогов. Так, по наказу Батория, князь Василий, с помощью крымского хана, усмирял низовцев, как об этом была у меня речь в своем месте. Но когда король пытался урегулировать свои доходы с Волынских городов и замков, эти гордые покорники верховной власти давали королю чувствовать свое революционное происхождение, и не удостоивали сановитых ревизоров даже такого внимания, чтобы предъявить документы на свое полноправство. В течение многих лет на владениях князя Василия накопилась весьма значительная сумма недоимки подымного налога. Озлясь на него за противодействия церковной унии, Сигизмунд III потребовал от него недоимки весьма строго; но строгое требование осталось мертвою буквою.
Повелевая Волынью на бумаге, короли на деле должны были терпеть удельную независимость волынских князей, окруженных служилыми, князьями, панами, боярами, вольными людьми, и грозивших удесятерить свою гвардию. В лице своих магнатов, Волынь долго противилась окончательному соединению Великого Княжества Литовского с Польской Короною, но и после Люблинской политической унии тамошние князья фактически оставались независимыми владыками своего края, то есть владели им не по польскому праву, а по старорусскому обычаю. Правда, воинственность потомства Олегов, Святославов, Изяславов уступила место заботам имущественным, но она сохранилась в той шляхто-боярской и бояро-мещанской массе, которая служила прежде панам-дукам в их борьбе с ополчениями королевскими, а потом нападала на них самих под бунчуками Косинского и Наливайка. По старой памяти, имена крупных волынских князей всё еще могли сделаться кличем для вооруженной оппозиции правительству, и правительство боялось их по-прежнему.
Скрепляя связь между разноплеменными частями Польши, короли «попускали попуск» вельможным дукам до такой степени, что их владения увеличивались во много крат на счет государственных, церковных, шляхетских и мещанских имуществ различными путями, а местная власть их над волынянами получала характер власти монархической.
Но эти буйтуры Королевской земли были обязаны своим богатством и значением не столько знатности своего рода, не столько своему влиянию на короля и потачкам верховной власти со стороны панских экзорбитанций, сколько уменью править разбойным элементом, образовавшимся на Волыни издревле в среде низшей шляхты, бояр, мещан и так называемых официально и в силу привычки вольных людей, начинавших уже принимать повсюду имя казаков, по самому промыслу своему вольных.
Под покровительством можновладников, на Волыни совершались всевозможные насилия панов над панами, мещан над мещанами, попов над попами, монахов над монахами, при помощи готового ко всяким услугам казачества, и происходившая отсюда неурядица не только не вредила их экономическим интересам, напротив, увеличивала богатства их с быстротой прогрессивною.
Грубость века и неопределенность понятий о праве сильного над слабым давали волынским князьям и великим панам возможность уклоняться от нравственной и юридической ответственности за творимые вокруг них беззакония. Короли относились к некоторым из них с особенным уважением, если не страхом, так что они оставались не только без суда, но даже и без упрека, в таких случаях, когда другие были лишаемы чести и покровительства законов. Наши волынские демагоги-князья были подсудны королям юридически, но фактически не были.
Что касается самого общества, то волынские дуки, не смотря на все свои магнатские экзорбитанции, вовсе не представлялись ему притеснителями. Они часто слыли даже благотворительными вельможами, покровителями науки и древней русской веры. Обиженные вопияли громко против своих тиранов и грабителей, из которых многие были приближенными лицами этих баронов. Но голоса, обвинявшие на Волыни сильных земли, заглушались хором бесчисленных сообщников их в пользовании «нетруженным хлебом». Да и не было в те времена панов, которые могли бы служить первенствующим волынским магнатам живым укором в их самоправстве. От своих собратий отличались они только загребистою лапой в дележе общей панской добычи.
Все другие паны действовали в том же духе, каждый по мере своего гражданского бессовестия, по мере своей магнатской безнаказанности, хитрости, корыстолюбия. И этим то способом поддерживалась на Волыни та вольная воля, от которой Волынская земля получила свое название. Богатство и убожество, свобода и порабощение, веселое буйство и мрачное уныние были здесь перемешаны резко, точно в турецкой азиатчине.
Это была зловещая помесь: от неё произошли те смуты, которые начались на Волыни при бессовестнейшем из Острожских, прозванном у сплетников было святопамятным, и через полстолетия покрыли большую часть польско-русской территории кровавыми развалинами. Но, с притуплением чувства справедливости у высшего и у низших сословий, вернее сказать – состояний, притуплялось в Королевской земле и чувство опасности от повсеместной порчи нравов. Между тем она-то, а не Кресы, как думает польская историография, была «Ахиллесовой пятою» в составе Речи Посполитой.
Даже такие православники, как Адам Кисель при всей своей заботливости о судьбе Польши смотрели на князя Василия и подобных ему обладателей шляхетской Украины Волыни, прежде всего, как на защитников Христианской земли от разлива мусульманщины. В виду больших расходов на постоянную борьбу с татарами и великих опасностей украинного быта, им казались извинительными панские экзорбитанции; а во что были способны превратиться орудия панских экзорбитанций, низшая шляхта, бояре, мещане и казаки вместе с попами, не уступавшими в грубом эгоизме ни одному сословию, и полудикими, готовыми на все пагубное мужиками, – предвидеть это было тогда рано. Это увидели только в то время, когда пособить беде было уже невозможно.
Магнатские завистники и недоброжелатели, мелкопоместные и безземельные шляхтичи, не только не хотели помогать своим патронам в отражении казацких набегов, но еще и сами нападали по-казацки на панские отряды, занятые партизанскою войною с кривоносовцами. Кисель собственными глазами видел толпы волынских шляхтичей, и притом «sluzatych», которые ходили заодно с казаками на разбойный промысел, под предводительством своего же брата, шляхтича, и от которых ему приходилось оборонять свои возы. «Они даже бились не так, как бьются казаки» (писал он к Оссолинскому). «Те обыкновенно стреляют из самопалов, а эти нападали на наши отряды в поле рукопашным боем». Для несчастного панского общества вернулись времена Косинского и Наливайка. Вернулись для него и те Баториевские времена, когда не только украинская шляхта, но и паны старосты делали казакам «разные adminicula». Оно видело в страшном развитии зло, нарожденное собственным бесправием, и не знало, чем и как помочь себе.
Вот в каком водовороте, или черторые очутился Кисель с отважным, но сравнительно ничтожным полком своим. Добравшись кой-как до своей Гощи, нашел он в гощинских «пустках» несколько сот бражничавших опустошителей. Гультаи приветствовали хозяина стрельбой из самопалов, и не обратили никакого внимания на объявление, что это пришли комиссары с мирными предложениями. Напротив, напали на Киселевых жолнеров с такой завзятостью, что пришлось положить почти всех пьяниц трупом, при чём с панской стороны убит храбрый воин, шляхтич Люля из-под хоругви Александра Конецпольского, еще один шляхтич Березинский (оба малорусса) и несколько человек челяди.
В Гощу пришли к Киселю измышленные вести, что когда Кривонос, он же и Перебийнос, вернулся в Украину, Хмельницкий приковал его цепью за шею к пушке, заполоненную Кривоносом шляхту выпустил на волю, и более сотни его «разбойников» приказал своим татарам обезглавить. Кисель всему этому верил, и хвалился коронному канцлеру, очевидно, понимавшему казаков не лучше его самого.
Он верил и тому, что хан остановил свои полки и дожидается его прибытия. Хвалясь всем этим Оссолинскому, он усердно просил панов удерживать свои войска от всяких подъездов, чтоб они не раздражали Хмельницкого.
Миролюбивым панам, после этого, только и оставалось, что держать тайные рады против полководца, который один был способен отстоять их панованье.
В позднейшем письме к Оссолинскому Кисель опять просил «не портить его переговоров такими подъездами», и окончил письмо уверением, что Кривонос был прикован к пушке, но потом де, при Отце Ляшке, [53]53
Дворянская фамилия Ляшка до сих пор существует в Борзне. Кисель, вероятно, во избежание неприятного для казаков имени, называл своего конфидента Lasko, словом, не значащим ничего. Тогдашние недоляшки подобные Киселю, попали в такое положение между двух народностей, что не знали, нак им быть.
[Закрыть] его отпустили за порукою. Но Хмельницкий не мог, хоть и хотел бы, приковать к пушке полковника, создавшего 60-тысячный корпус головорезов, а комедии, вроде подставных лиц, он строил и не перед такими людьми, как монашествующий конфидент великого дипломата. Ему было нужно, чтобы паны, по просьбе Киселя, «не портили переговоров никакими подъездами».
Не дождавшись в Гоще ответа на свою просьбу, Кисель опять начал прокладывать себе дорогу к Тамерлану, как называл он Хмельницкого. Когда, в своем фантастическом походе, приблизился он к знаменитому городу Острогу, резиденция «начальника православия», этого «столба и утверждения веры», была уже занята казаками, которые «день и ночь пили вино и мальвазию». Пьяницы выбежали за ворота и хотели здороваться с ним тем же способом, как и Гощинские незванные гости. Но Кисель построил свое войско в боевой порядок и отправил к ним посла. Насилу взяли они в толк, что это миротворный, а не наступательный поход. Кисель показал полученное в дороге письмо от Хмельницкого и отдавался со всем полком, чтоб они вели его к своему гетману. Казаки видели, что это немаловажный приз, и были готовы конвоировать панов, но потребовали от них восемь заложников. Кисель на это согласился, если казаки дадут столько же своих.
Но едва обменялись они заложниками, к Острогу приблизился отправленный Осинским, соратником Вишневецкого, подъезд, под начальством отважного партизана, пана Сокола, с тем, чтобы выбить казаков из города, принадлежащего князю Доминику, достойному наследнику князя Василия. Казаки завели с неприятелем гарцы, а в городе между тем поднялся крик, что Кисель разом «и трактует и штурмует».
Пятеро из панов заложников очутились без голов; троих спрятала от пьяной черни старшина. Во время гарцев, казаки добыли у пана Сокола языка и узнали, что Кисель был тут ни при чем; но не захотели уже его конвоировать и не дозволили ему даже провести свой полк через город. Комиссары, удержав у себя казацких заложников, повернули к Ляховцам. Тем и кончилось премудрое путешествие панского миротворца к Тамерлану-казаку.
Из Ляховцев Кисель отправил одно письмо к Хмельницкому, жалуясь в нем, между прочим, на профанацию со стороны казаков не только польских, но и русских алтарей «Божиих», а другое – к своему давнишнему приятелю, киевскому митрополиту, которого просил ехать к Хмельницкому с просьбой о пропуске к нему панского посольства. Вместе с тем уведомил он правительствующих панов, что теперь, увы! «ближе к войне, нежели к миру». Все-таки польский патриот русин приписывал себе важную услугу отечеству тем, что своим путешествием и своими посланиями приостановил настолько времени неприятельское нашествие, намекая весьма ясно, что не желает видеть своей pietatis ku ojczyznie без памятника.
Недавно миновало 16 (6) июля, условленное время трактата Сильвестром Косом и Адамом Киселем о соединении церквей. «Не то было бы в Украине, когда бы слушались его (Киселя) с самого начала»! Так, без сомнения, думал он, отправляя письмо к питомцу Петра Могилы. – «Не то было бы со мною, когда бы нам удалось осуществить план, покрытый велжою тайною»! Так, без сомнения, помышлял наперсник Адама Свентольдича, читая письмо его, которое, видно, сжег, потому что оно до нас не дошло. Можно себе представить воздыхания стрегомого казаками архипастыря, когда он ехал к свирепому гетману, сокрушителю драгоценнейших его надежд и той славы в польском потомстве, которой не удалось и его воспитателю стяжать себе на киевской митрополии.








