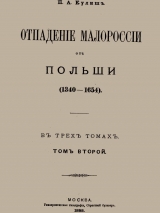
Текст книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"
Автор книги: Пантелеймон Кулиш
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Нельзя было комиссарам проехать в Переяслав на Киев: они поехали на Хвастов... Хвастов! какие с этим именем были соединены у них воспоминания о добродетельном бискупе (а все таки бискупе) киевском, Юзефе Верещинском, основателе первой в Украине типографии, авторе гуманно-политических брошюр, наивных до поэтичности, друге и защитнике верных еще королю и Республике казаков! Бискуп Верещинский, окатоличенный с колыбели русин, наименовал было уже колонизованный им Хвастов Новым Верещином, в память о родном Верещине в Холмской земле. Он, вместе с другими энтузиастами патриотами, ревностно созидал «Новую Польшу», иначе «Нижнюю Польшу», в Малороссии, и не сомневался в успехе благого по его воззрению дела... Теперь, по словам дневника, казаки с мужиками (cum plebe) насекли и натопили в этом Хвостове не мало шляхты обоего пола (utriusque sexus); а некоторые из престарелых утопленников могли еще помнить доналивайское время и знать в лицо добродетельного колонизатора Хвастовской пустыни!
Через Днепр переправились комиссары в Триполье; оттуда ехали на Воронков; от Воронкова сделали еще 6 миль, и достигли Переяслава 19 (9) февраля (следовательно, месяца за полтора до выезда Унковского из Малороссии).
Стоял сильный мороз. Гетман Хмельницкий выехал навстречу королевским комиссарам за версту в поле, в несколько десятков лошадей, с полковниками, есаулами и сотниками, с военною музыкою, под бунчуком и красным знаменем. После приветствия и «казацкой речи», сел он в сани с левой стороны Киселя. Когда въезжали в город, велел ударить из 20 пушек, может быть, взятых под Корсунем или под Пилявцами, и пригласил послов к себе (do swego dworu) на обед.
В бедственных обстоятельствах панской республики, на долю королевских комиссаров выпала самая горестная роль – являть спокойный и величавый вид, когда в сердце у них скребли мыши. Приамово посещение Ахилловой ставки не было столь мучительным. Приам целовал руки убийцы своего сына, но этот убийца был ему равен, и совершил свое кровавое дело геройски. Здесь пришлось выпрашивать милости у собственных слуг и рабов, которые восторжествовали над исконными панами своими предательством христиан в руки неприятелей Св. Креста. Разоренные казако-татарским нашествием паны тянулись из последних средств, чтоб одеть свою ассистенцию и свой шляхетский конвой сообразно достоинству Речи Посполитой, для внушения казацкому народу грозной по их мнению мысли, что прогнанные из Украины землевладельцы имеют еще довольно средств для поддержания владычных прав своих. С великим опасением за себя самих и за своих женщин-героинь, добрались они до кратера, все еще колебавшего страну бунтом, всё еще озарявшего ее пожарами и заливавшего кровью. Но то, что они видели и претерпели в дороге, оказалось менее страшным по сравнению с тем, что предстояло им видеть и испытать в самом вертепе казацкого Плутона. Действительность превзошла самое дикое, что ни закрадывалось в их воображение.
Хмельницкий был теперь уже не тот, каким Кисель знал его в то время, когда, вместе с Петром Могилою, морочил казаков поддельным королевским письмом да укрощал евангельскими изречениями. Ничего шляхетского не оставил в своих приемах и обстановке казацкий батько. До последнего слова и движения, превратился он в запорожца, ненавистника всего панского и ляцкого. К такому превращению побудила его не одна мстительная политика, но и горькая необходимость.
Еще в своем «вестовом письме по литоре» Кунаков доносил царю, что татары, после Корсунского погрома ляхов, остались у Хмельницкого и «меж себя укрепились, гетман – присягою, а татаровья – шертью, что им друг от друга не отступиться, и ныне де вся надежда у Богдана Хмельницкого на тех татар, которые остались у него, а черкасам не доверивает».
В настоящее время казацкий батько опасался казацкой «зрадливости» больше, нежели когда-либо, потому что «фортуна» послужила ему слишком усердно. Только прикидываясь простаком и крайним ненавистником ляхов, только показывая вид, что у него с казаками «дума и воля едина», удерживал он их в повиновении, да и то с помощью жолдовых татар. Вспомним показания пленных казаков о замешательстве в казацком таборе под Пилявцами. Хотя в инквизиционных конфессатах надобно видеть всего больше то, что желали вымучить инквизиторы, но весть о казацком замешательстве все-таки имела свое основание. Приход орды, по словам Мужиловского, «нечаемый», сделал тогда Хмельницкого, как и в Диком Поле, из малого человека великим, из «последнего в человецех», как он выражался о себе, первым, и с него все пошло у казаков на стать. Поэтому он и теперь, окруженный казако-татарской ордою, вел себя, как ордынец, или кочевой запорожец, так что, по замечанию одного из комиссаров, московский посол, человек почтенный и обходительный, часто бывал принужден опускать в землю глаза во время беседы гетмана с полковниками, а посол Ракочия, уезжая из Переяслава, не мог удержаться, чтоб не сказать по-латыни: «Каюсь, что прибыл к этим свирепым и безумным зверям (Poenitet me ad istas bestias crudeles et irrationabiles venisse)».
За обедом у гетмана шла такая грубая попойка, что могла напомнить знатоку казатчины известные запорожские стихи:
В нас у Сичи то і норов, хто Очинаш знає:
Як умивсь, уставши вранці, дак чарки шукає.
Чи чарка то, чи ківш буде, не гледять перелини:
Гладко п'ють, як з лука б'ють, до ночної тіни.
Разгоряченные горилкою, гетман и полковники не могли воздержаться от сарказмов насчет князя Вишневецкого, Александра Конецпольского, Чаплинского и всех ляхов.
Но это было только предуведомлением к будущим беседам с ненавистными гостями.
На другой день, 20 (10) февраля, комиссары совещались о том, когда вручить гетману булаву и знамя. В совещании участвовали, как неизбежное, хоть и не сознаваемое панами, зло, их руководители, ксендзы. Совсем не следовало бы им брать с собой ксендзов сюда, в ту среду, которая опустошила все костелы, от Кобрина до Переяслава. Эти представители католической польщизны напоминали казакам (а в казаках были и попы [92]92
Например, в статейном списке Унковского говорится: «А Запорожское войско стоит под Баром, в Константинове и в Гоще, под начальством Нечая, полковника брацлавского, Штепы попа да винницкого Гавтеренка».
[Закрыть]) творца Брестской унии, Скаргу, и отступников народной церкви Терлецкого, Потея, Рогозу, Рутского, Кунцевича.
Члены комиссарской рады рассуждали о Хмельницком, как дети, или, что все равно, иезуитские питомцы, остающиеся до конца в детском возрасте, и решили: отдать ему знаки гетманского достоинства прежде всего (ante omnia), «чтобы смягчить его людскостью и королевскою милостью».
Этот многозначительный акт Хмельницкий указал совершить на майдане перед своим двором, вблизи которого квартировали (как написано в дневнике Мясковского) послы московский и венгерский. Несли перед комиссарами булаву киевский ловчий пан Кршетовский (это значит русин Кротовский, происходивший от Крота), а знамя – киевский скарбник пан Кульчинский (опять какое-нибудь полонизованное имя). Их торжественное шествие возвещали гетманские трубы и бубны.
Хмельницкий ждал королевских комиссаров, стоя в кругу своих полковников и другой старшины, в альтембасовом (золото-парчовом) красном собольем кобеняке, под бунчуком.
Кисель хотел произнести речь, которую сеймовые паны, без сомнения, назвали бы oratio disertissima; но едва начал восхвалять короля, великого монарха, как стоявший возле гетмана Джеджелий, или Джеджала, закричал: «Король – яко король, але вы, королята, князи, бронте много, и наброили. И ты, Киселю, кость од костей наших, одщепивсь еси и накладаеш з ляхами»...
Свое малорусское происхождение Мяско-Мясковский засвидетельствовал тем, что в дневнике комиссии писал казацкие речи по-малорусски не как иноплеменник.
Гетман (продолжает он) стал говорить Джеджале: «Угамуйсь, не роби колоту» или что-нибудь в этом роде (wzial go hamowac hetman); но он, пьяный уже, хотя было еще рано (pijany gorzalka, choc rano bylo) хотел еще ораторствовать, потрясши булавою; однакож, видя, что никто его не поддерживает, удалился из круга. Вероятно, нашлись у гетмана такие, которые увели его домой, уговаривая, как водится в подобных случаях: «Коли двое кажуть п'яный, дак лягай спати».
После такой интермедии, глава королевской комиссии, с надлежащей торжественностью, отдал Хмельницкому «королевские листы» и «комиссарский креденс (верящую грамоту), которые были тотчас прочтены, потом отдал украшенную бирюзой булаву (bulawe turkusowa), а племянник его – красное знамя с белым орлом и с надписью Iohanes Casimirus Rex Poloniae.
То и другое принял Хмельницкий без особенного удовольствия (z jaka taka checia). Нам вспоминаются при этом слова самовидца в подобном случае: «подарок оного в смех принял, яко тот человек, который и своего много имеет». Булава Николя Потоцкого и булава Доминика Заславского затмевали в глазах казацкого батька туркусовую булаву нищего короля и ценностью, и значением своим. Он поблагодарил «казацки», как выразился дневник Мясковского, и пригласил комиссаров к себе (do swojej gospody).
Перед обедом Кисель произнес к нему речь в изысканных выражениях (gladkiemi i wybornemi slowy): говорил о великих сегодняшних подарках, указал ему на амнистию прошлых дел и преступлений его, потом на свободу стародавней греческой религии, на увеличение реестрового войска, на восстановление старинных прав и свобод запорожских, и наконец – что казалось ему всего важнее – что регимент вверен ему, а не кому-либо другому.
В ином положении дел все это было бы и величаво, и внушутельно. Но Кисель изображал в своем лице побежденного короля с его шляхетским народом, готовым, по мнению победителя, превратиться в жидов. Поэтому казацкому батьку должно было показаться и смешным, и обидным заключение красноречивой орации, именно следующее: подобает и ему, Хмельницкому, явить себя благодарным за столь великую королевскую милость; он должен, как верный подданный и слуга его королевской милости, положить конец этому замешательству и кровопролитию, предотвратить разлив крови, не принимать под протекцию простого хлопства, велеть, чтоб оно повиновалось панам своим, и приступить к трактатам с господами комиссарами.
«За такую великую милость» (говорил Хмельницкий, иронизируя Киселя), «которую явил мне король его милость через вашу милость, что и власть над войском прислал (wladze nad wojskiem przyslal), и прошлые мои преступления прощает, униженно благодарю. Что же касается комиссии, то ее трудно теперь отправить. Войска нет вместе, полковники и старшина далеко; без них не могу и не смею ничего делать: это подвергло бы мою жизнь опасности (idzie о zdrowie moje). Притом же я не вижу правосудия над Чаплинским и Вишневецким. Необходимо нужно, чтобы мне одного выдали, а другого покарали: ибо они причиною кровопролития и всего замешательства. Виноват, пожалуй, и пан Краковский, что наступал на меня, что преследовал меня, когда я, спасая жизнь мою, бежал в днепровские вертепы (kiedym w lochy Dnieprowe zdrowie unosil); но этот получил уже свою мзду, нашел то, чего искал.
Виноват и пан Хорунжий: отнял у меня батьковщину, Украину роздал ляховчикам, а те молодцов, заслуженных в Республике, обращали в мужиков и грабили, вырывали бороды, запрягали в плуги. Но этот не столько виноват, как те два другие. Не будет ничего изо всего, если одного из них не покарают, а другого не пришлют мне. Иначе – или мне с Запорожским войском пропасть, или погибнуть Ляцкой земле, всем сенаторам, дукам, королькам и шляхте. Разве мало ляхи тому причиною, что кровь христианская льется? Литовские войска высекли Мозыр и Туров. Януш Радивил одного молодца посадил на кол. Я послал туда несколько полков, а к Радивилу написал, что если он это сделал одному христианину, то я зато сделаю то же самое четыремстам (подразумевается нехристям) ляхам, которых имею, и воздам за свое».
«Вот какой антипаст [93]93
Иначе przysmaczek – возбудительная закуска.
[Закрыть] дал нам он перед скверным своим обедом, ударивши нас в сердца наши жестоким ядом и бешенством»! (пишет Мясковский). Отзывались и другие, точно какие гады из болота, а старый черкасский полковник, Федор Вешняк, схватил булаву на ксендза Лентовского, кармелита, который приехал к ним вместо покойного ксендза Мокрского с королевским листом, – за то, что сказал только: «Вести из Литвы о Мозыре и Турове могут еще перемениться». А он за булаву: «Мовчи, попе! не твоє діло брехню мені задавати»! И непременно ударил бы его, когда бы сидел ближе. Но, как этого нельзя было сделать, то сказал: «И ваши ксьондзи, и наші попи – усі» (тут он ввернул крепкое словцо) «сякие-такие сини. Ходи лишень, попе, на двір: навчу я тебе полковників шанувати». И с этим ядом вышел из светлицы».
«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», говорит пословица. Но Кисель, в трезвом виде, писал однажды Радзеёвскому то же самое: «Скажем друг другу правду: духовные ссорят нас с обеих сторон». Этими словами он высказал то, что старались и стараются с обеих сторон игнорировать, в ущерб разумению былого.
Комиссары провели у Хмельницкого несколько часов, всячески стараясь его смягчить хорошими словами. Но их красноречие нимало не подействовало. «С сердечным жалем и слезами» (пишет Мясковский) «разъехались мы по квартирам, которые были умышленно разбросаны по городу так, чтобы мы затруднялись в своих сношениях».
На другой день, в воскресенье, ходил Мясковский с Зеленским в соборную церковь, и там обменялся учтивостями с московским послом, которого в своем дневнике называет «особою людскою и обычайною». Вступить с ним в какую-либо беседу не было возможности, а Хмельницкий отнял у них эту возможность и в других случаях.
Но что это был за московский посол, ниоткуда не известно. В феврале посол самого Хмельницкого, Мужиловский, находился еще в Москве, а царский дворянин Унковский прибыл с ним в Чигирин только в апреле. Хмельницкий приковал к пушке подставного Кривоноса и его показали конфиденту Киселя. Весьма возможно, что он сочинил и московского посла для королевских комиссаров.
Церковь была полна разодетого в панское добро народа. Разительную с нею противоположность представляли немые памятники господства здесь иных властей, иных щеголей и щеголих. Замок, сдерживавший жмайловцев, тарасовцев, сулиминцев и павлюковцев, теперь «был разорен и пуст». Казацкий народ строил только подвижные замки из кованных и босых возов. Место валов, дубовых тынов и мурованных стен заступали у него фортели, в роде затонов и зарослей Медвежьих Лоз. Панская фортификация была не пригодна ни на что республике номадов. Даже старший брат казака, татарин, предоставлял цивилизованному арабами турку держать Крым и Буджаки под господством крепостей, ограничив свое владычество конем и мечем. Так не дорос и казак до сохранения в целости того, что создала в Украине европейская цивилизация, а над иноверными храмами ругался он еще больше из ненависти ко всему культурному, нежели в отместку за ругательства над православными церквами и кладбищами со стороны фанатиков панского владычества, Кунцевичей. «Были мы в коллегиуме и в костеле иезуитском» (пишет Мясковский). «Он так разорен, что не осталось ни одного алтаря и образа. Даже гробницы были открыты, и три шляхетские гроба опрокинуты. Гроб покойного Лукаша Жовковского, брацлавского воеводы и переяславского старосты, достойного вечной памяти кавалера, разбит, военные трофеи (insignia) взяты, снят и брильянтовый перстень с пальца».
Это был родной брат великого Жовковского. Он жил с казаками в добром согласии, постоянно давал им банкеты, мирил их с королевским правительством. По его внушению, реестровики овладели кошем разорителя Кодацкой крепости, Сулимы, а самого Сулиму, с соучастниками бунта, предали в руки правосудия. У казаков и попов слыл он паном добрым. Но и добрые, и злые представители римской проповеди и римской политики должны были исчезнуть с лица нашей родной земли перед могучим дыханием русского духа, который одинаково был непреодолим для иноземщины и в христианском самопожертвовании Советователей о Благочестии, и в истребительных подвигах казаков руинников. Тем больше сделался он сокрушителен для западных посягателей на русскую самодеятельность в государственном строительстве наших москво-руссов.
Хмельницкий был приглашен Киселем на воскресный обед, но приехал только вечером, пьяный, с несколькими полковниками. Расточаемые страшному гостю любезности, с устранением всяких неприятных ему напоминаний, были напрасны.
Хмельницкому хотелось быть ни в чем не виноватым, как это свойственно всем злодеям: он только и говорил, что о сделанной ему ляхами кривде. За это он отнимал у них не только Украину, но и всю польско-литовскую Русь. Наконец пьяный проповедник справедливости ввалился в особую комнату пани Киселевой и стал ее увещевать, ее и всех панов единоверцев, чтоб они отреклись от ляхов и остались в Украине с казаками, как сделал Выговский. Без всякого сомнения, присутствие ксендзов среди разобщенных и поссоренных ими русских людей раздражало не одного старого Вешняка, но и самого Хмельницкого, насколько он дышал одним духом с казаками. «Ляцкая земля» (проповедовал он) «погибнет, а Русь будет пановать в этом году, весьма скоро»... Тут он заметил в обществе пани Киселевой одного из своих пленников, пана Позовского (конечно, Пузовского), и погрозил ему виселицей. Хмель едва не повесил потомка малорусского Пуза [94]94
По-польски было бы Brzuch.
[Закрыть] перед прибытием комиссаров, и теперь закричал: как он смел показаться ему на глаза!
Не находя больше о чем говорить с дамами, любезный по-казацки гость вернулся к трепетавшим от его рычанья мужчинам, заливал вином пылавший в нем огонь злости, и только в три часа уехал, пьяный.
«Долго спал он» (продолжает свой горестный рассказ Мясковский): «ибо допивал с чаровницами, которые часто занимают его досуги (czesto go bawia) и обещают ему счастье на войне еще и в этом году».
Таковы были слухи, доходившие разными путями до комиссаров. Их тревожило и безотрадное положение Республики, и собственное положение в берлоге разъяренного зверя. Когда послали на другой день к нему человека, наименее неприятного ему, Киселева племянника, с просьбой назначить час и место для беседы и трактатов, молодой Кисель застал казацкого батька уже за горилкою с товариществом (juz go przy gorzalce zastali z towarzystwem). По словам дневника, ответ его был скор и ядовит. Он отправлял венгерского посла, и сказал при нем следующую орацию, которую дневник, сохранил в малорусской версии:
«Завтра буде справа і росправа: бо тепер я п'яний. С тієї комісії ничого не буде. Тепер війна, війна мусить бути в тих трьох або чотирьох неділях. Навчу всіх вас, ляхів: переверну догори ногами і потопчу під ноги, а наостанок оддам вас турецькому цареві в неволю. Король королем буде, аби карав шляхту і стинав дуки та князі. Нехай вольний буде собі. Згрішить князь – уріж йому шию; згрішить козак – те ж і йому вчини. Се правда, що я малий, мізерний чоловік, та мені се Бог дав, що я єдиновладець і самодержець руський. Нехай буде король королем, як воно йому здаєцця. Скажи се пану воєводі и комісарам. Лякаєте мене шведами, – і ті мої будуть. Хоч би їх було п'ятьсот і шістьсот тисяч, не переможуть руської, запорозької і татарської сили. Іди ж с тим, що завтра буде справа і росправа».
23 (13) февраля поехали комиссары к Хмелю на третье заседание. Кисель даже плакал перед ним, представляя, что он не только Ляцкую и Литовскую, но и Русскую землю, и веру, и святые церкви хочет отдать язычникам. Хмельницкий, выслушав его до конца, отвечал то же, что вчера, с такою прибавкой:
«Шкода говорити много. Як шукали мене Потоцькі за Дніпром, тогді був час трактувати зо мною. По жовтоводзький і Корсунській іграсці – був час. Під Пілявцями и Костянтиновим – був. Наостанок, під Замостім і як йшов я від Замостя шість тижнів – був. Тепер уже часу нема. Доказав я, чого й не думав зразу; докажу і далі, що задумав: виб'ю із ляцької неволі ввесь Руський народ; а що перше воював за мою шкоду й кривду, до тепер воюватиму за нашу православну віру.
Поможе мені в тому вся руська чернь по Люблін і Краків. Не відступлю її: бо то наша рука правиця. А щоб ви не знесли її та не вдарили на козаків, буде в мене двісті, триста тисяч своїх, та й уся Орда при тому. Токай-бей поблизу мене, на Саврані, мій брат, моя душа, єдиний сокіл на світі. Готов учинити зараз що схочу. Вічна з ним наша козацька приязнь; увесь світ її не розірве. За гряницю не пійду, шаблі на турки й татари не підійму. Доволі маю на Вкраїні й Подолі, а тепер і на Волині. Досить вигоди, досить достатку й пожитку в землі і князтві моїм по Львів, Холм и Галич. А ставши над Віслою, скажу дальшим ляхам: «Седіте й мовчіте, ляхи»! І дуків і князів туди зажену. А коли будуть і за Віслою брикати, знайду їх там певно. Не встоїть у мене нога ні одного князя і шляхетки в Україні. А коли захоче хліба которий з найменших, нехай буде послушний Запорозькому війську, а на короля не брикає».
Полковники вторили завзятой импровизации своего гетмана. Один из них, Яшевский, сказал выразительно:
«Минули вже ті часи, що нас ляхи сідлали. Над нашими людьми, християнами, брали вони гору драгунами. Тепер не боїмось їх. Дознались мы під Пілявцями: не ониї се ляхове, що перед тим бували. турки, москву, татари і німці бивали: не Замойські, Жовковські, Ходковичі, Хмелецькі, Конецьпольскі, и Тхоржевські, Зайончковські, – дітвора в залізо повбирана. Померли від страху, скоро нас побачили, та і повтікали, хоч татар не було зразу в середу більш 3.000. Колиб їх підождали до п'ятниці, до б ні єдиний лях живцем не втік до Львова».
«На сю войну» (продолжал Хмельницкий) «благословив мене патріарха в Києві; дав мені з моєю жінкою шлюб, с переступів моїх мене розгрішив і причастив, хоч я і не сповідавсь, і звенів мені кончати ляхів. Як же мені його не слухати, такого великого старшого, голови нашої і гостя любого? Оце же я вже обослав полки, щоб кормили коні і були готові в дорогу без возів, без армати. Знайду я те все в ляхів. А которий би козак узяв на війну воза, велю йому шию врізати. Не візьму і сам ні одного з собою, хіба юки та сакви».
«Долго об этом говорило» (пишет Мясковский) «бешеное чудовище со всею фурией, – до того, что вскакивал с лавы, рвал на себе чуприну, бил ногами в землю. Мы, слушая, оцепенели. Наши рации и персвазии, чтоб он вспомнил о Боге, о короле и, наконец, о том, какой будет конец таких дел и поступков, чтобы дал место разуму, умерил свою завзятость, – ничто не помогло».
На пункт о числе реестровых казаков, чтоб их было 12, а то и 15 тысяч, Хмельницкий отвечал: «Нащо писати стілько і стілько? Не стане сили, буде і 100 тисяч, буде стілько, скілько я схочу».
«После таких приятельских бесед, такой вкусной сессии и скверного обеда (пишет Мясковский), разошлись мы по квартирам, отчаявшись в трактатах, в примирении, в своей безопасности и в выдаче пленных. Стали мы стараться, как бы вывезти несчастных и выбраться самим. По ночам собирались мы на свет и рассуждали, отпустит ли нас Хмельницкий, или же отошлет на Кодак, ограбивши (spoliatos)».
В тот же день отправил Хмельницкий, перед глазами комиссаров, венгерского посла, наградив его и послов Ракочию трои парадных коней и несколько пар самопалов. Но посол, по словам Мясковского, уехал недовольный, и высказал по латыни приведенное выше мнение свое о казаках.
На другой день, 24 (14) февраля, комиссары просили Хмельницкого об «отправе» и о пленниках. Одни из этих пленников были взяты на Кодаке, при осаде крепости Конецпольского, с клятвенным обещанием (какое дал в Боровице и Кисель) возвратить им свободу, другие в Баре, на таких же условиях капитуляции. В числе последних был сын коронного гетмана, Андрей. Сперва Хмельницкий обещал освободить их, но потом переменил решение, и когда комиссары говорили ему, что это королевские слуги, рукодайные дворяне короля, он отвечал: «Се річ завойована: нехай король не здивує». Кисель представлял ему долг королевского подданного и слуги, долг воина, получившего от своего государя булаву и знамя, представлял забывая Боровицу, что эти пленники взяты не саблею, не на боевом поле, а условиями и трактатами. «Шкода про те говорити» (отвечал Хмельницкий). «Се мені Бог дав. Пущу тогді, як не буде ніякої зачепки на войну з Литви і від ляхів. Нехай підожде тут Потоцький брата свого, каменецького старосту, що мені Бар, моє власне місто, заїхав, а в моїм Подолю кров християнська ллєцця. Звелів я полки туди рушити і живого мені привезти».
В ответ на это, комиссары припомнили Хмельницкому, что в Киеве теперь христианская кровь без вины льется ручьями и течет в Днепр. Одних ляхов топят, других тирански рубят; избивают шляхту обоих полов, детей, духовных, ограбив и опустошив последние костелы. «Ищут ляхов под землею» (говорил Кисель), «и все это – за приводом брацлавского полковника Нечая, который говорит, что ему дан такой наказ от вашей милости».
«Не велів я невинних людей побивати» (оправдывался Хмельницкий) «тілько тих, що не хоче до нас пристати, або на нашу віру хреститись. Моя воля там порядкувати: я воєвода київськй. Се дав мені Бог через мою шаблю, а про інше таке шкода говорити».
Кто бы ни был так называемый в Переяславе московский посол, только все эти сцены происходили, можно сказать, перед его глазами. Уничижив перед этим таинственным лицом и короля и комиссаров, Хмельницкий отпустил его из Переяслава так, что паны не видели его «отправы» и не могли сказать о ней в официальном дневнике посольства ничего кроме четырех слов: «отправлял без нас московского посла (odprawowal bez nas Posla Moskiewskiego), прибавив к этому, что он «уехал перед самым вечером (odjechal przed samym wieczorem)». Панам не удалось никоим образом разведать ни об имени посла, ни о его беседах с гетманом, хотя и писали они в официальном дневнике своем, что он просил «через послов» о свидании с Киселем (lubo и Posel zyczyl sobie tego i prosil do przez Posly). [95]95
Этими послами, т. е. посланцами, могли быть казаки, удившие в панских карманах талеры.
[Закрыть] Но у казаков застали они, по своем приезде, такую молву, – что московский царь спрашивал у Хмельницкого: действительно ли он поднял войну из-за одной веры? Конфиденты Хмельницкого не чуждались подарков, как и панские: «Любят голубчики взять (lubia niebozeta wziasc)» писал Кисель о казаках, подкупая их еще в Павлюковщину. От них комиссары слышали да заключали из слов и самого Хмельницкого (z howory jego i konfidentow jego slyszelismy), что московский царь сожалел о междоусобной брани в Речи Посполитой, и увещевал Хмельницкого остановиться в своем задоре, не проливать больше христианской крови, не истреблять подданных своего государя, причем давал ему понять, что желает остаться «любовным» братом короля, брата своего, и станет на более справедливой стороне со всею своею силой.
Сообщая такие успокоительные вести, действительные или мнимые конфиденты Хмельницкого могли повторять содержание миротворного письма, посланного царем в табор Хмельницкого через Василия Михайлова. В этом удостоверяет нас то обстоятельство, что Хмельницкий весьма выразительно хвалился вечною казацкою дружбой с татарами, которой не разорвет и весь свет; что он ревел о своем княжестве по Львов, Холм и Галич; что величал себя единовладником и самодержцем русским, а Токай-бея называл братом своим, точно в ответ на заявление царя о любовном братстве с королем. Многозначительно для нас и то обстоятельство, что в завзятых орациях казацкого батька имя Москвы и Московского царя не было произнесено ни разу, тогда как из отправы венгерского посла сделал он такую бурную манифестацию.
Подделанное Хмельницким, как это очевидно, царское посольство в Переяславе украинские патриоты представляют поклонением славе Хмельницкого. Но и Михайлов с миротворным письмом своим в казацком таборе, и Унковский с милостивой грамотой в Чигирине – являются перед нами людьми, накидывающими на дикого степного коня узду; а бешенство Хмельницкого говорит нам, как этот конь чуял, что от опытной и сильной в обуздыванье руки уйти ему трудно.
Может быть, внушения таких людей, как Михайлов и Унковский, – а такие люди могли беседовать с Хмельницким и без посольства, – может быть, их беседы, проникнутые чувством политической степенности, и были причиною бешенства Хмельницкого. Не того домогался он от Восточного Царя. Лях по воспитанию, татарин по казацкому быту, он разумел московского самодержца чем-то вроде царя перекопского. В первом письме своем счастливый бунтовщик и титуловал его, как бы какого хана. Видя теперь, что московское христианство представляет не то, чем оно было у казаков, Хмельницкий и боялся своих единоверцев, и злился на них, а бедные ляхи отвечали перед ним за все.
25 (15) февраля, на просьбу комиссаров об отправе, он отвечал, что другой отправы не будет, кроме ответного письма. Не хотел дать ни другого «скрипта», ни продлить перемирия. Наконец, по усиленным просьбам Киселя, велел составить перемирные статьи и, вероятно, во внимание к московскому царю, выдвинул в этих статьях на первый план интересы церковные. Он соглашался приостановить войну на следующих условиях:
1. Унии в Киевском воеводстве не быть нигде, ни даже имени её (nec nomen ipsius).
2. Киевскому митрополиту дать место в сенате.
3. Киевский воевода и киевский каштелян должны быть религии греческой.
4. Римские костелы, которые обращены в ничто и трупы из гробов повыброшены, ксендзы побиты, потоплены, должны оставаться так, как они есть теперь.
5. Исключаются иезуиты, которые причиною всего замешательства.
6. Князь Вишневецкий, как author второй войны, никоим способом не будет коронным гетманом; иначе – я жить с ним и пустить в Украину не хочу.
7. Окончание комиссии на составление реестров отложить до весны, до Зеленых Свят русских, до первой травы, над рекой Русавою, чего теперь не могло быть по отдаленности полков и по причине голода.
8. Комиссаров только два.
9. До тех пор коронные и литовские войска не будут входить в Киевское воеводство по реки Горынь и Припеть, а от Подольского и Брацлавского – по Каменец.
10. Так же и войска запорожские за эти реки переходить не будут.
11. Всех пленников обещаю на той комиссии выдать, только чтобы так же был выдан тогда Чаплинский.
Королевские комиссары не приняли было этих условий. Они подали Хмельницкому свой проект перемирия, в котором домогались, чтобы коронные войска могли ходить по реки Случь, по Бар, Винницу, Заслав. Но Хмельницкий перечеркнул их пункты и велел им готовиться в дорогу с одним ответным письмом его и с вызовом на войну.
«Согласились мы и на такое перемирие» (писал Мясковский), «лишь бы вырваться из тиранских рук и предостеречь короля и Речь Посполитую, да чтобы этим ненадежным перемирием задержать Хмельницкого у Днепра и вырвать у него пленников». Даже и для того, чтобы задержать Хмельницкого у Днепра, не предлагали и не могли предлагать ему королевские послы ни Чигирина с четырьмя другими городами, ни киевского воеводства; не было речи и о границах Белой Руси, «как владели благочестивые великие князья», чем хвалился он через месяц в Чигирине царскому дворянину Унковскому [96]96
Основываясь на этой лжи, исторический журнал «Киевская Старина» (1887 г., август, стр. 735) проповедует: «Речь, достойная великого патриота, каким был Хмельницкий! Он как будто вовсе забыл о причинах, побудивших его поднять казацкое восстание; он вовсе не думает о своих личных интересах, даже благополучие всего войска запорожского не составляет цели его действий. – Цель эта выше, шире! Он мечтает о восстановлении (sic) Руси в тех границах, как она была при великих князьях» (курсив журнала), «он смотрит на войско запорожское, как на неразрывную часть целого – Великой Руси, к которой он поэтому всеми силами души стремится. Велика казацкая душа! Странным даже представляется, что у простого казака могла явиться такая идея, – идея, о которой Москва, преследуя свои узкие интересы, не имела никакого представления. Не могло не казаться обидным Хмельницкому, что Москва не хочет понять его великой идеи, не имеет мужества рискнуть побороться за свои старинные земли, тогда как он, отказываясь от лично выгодных условий мира, стремится осуществить эту идею».
[Закрыть].








