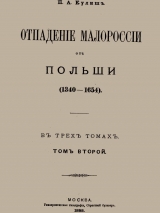
Текст книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"
Автор книги: Пантелеймон Кулиш
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Во времена князя Василия лугари, кочевавшие в виду татар, селились, под его прикрытием от закона, в переяславской пустыне. Во время князя Яремы (как называли его, сперва любя, а потом ненавидя, казаки) отатарившиеся вновь беглецы культурного общества ютились под его широкою полой в таких местах, которых до него никто не имел права, силы и смелости обратить в населенные. Нарушители закона и отверженцы прочно оседлых корпораций, защищенные от всякого преследования одним именем Корибута Вишневецкого, нового казака Байды, были его подданными больше в смысле военном, чем экономическом. Они были его вассалы, его дружинники, и под его знаменем собиралось их, в виде охочих казаков, тысяч по двадцати. Но своенравное, хищное, разбойное Запорожье мало-помалу возымело на них приманками и угрозами то самое влияние, какому подчинились казаки, так или иначе зависевшие от Острожского. Добычники по ремеслу и образу жизни, принятые новым Байдою под его широкий щит, в видах охранения занимаемой ими земли от степной кочующей и оседлой граничащейся дичи, захотели жить на счет панского хозяйства, и стали смотреть на своего князя, как вольные «служебники», а не как «подданные сутужники», – стали так смотреть, как в свое время архиказак Байда смотрел на Сулеймана Великолепного и на Ивана Грозного. Негодуя на его экономические порядки, они, со времени Павлюковщины, стали оборачивать свои пищали, как против него самого, как пана и «душмана», так и против тех своих товарищей, которые больше веровали в добычу плуга и мирного труда, нежели в добычу меча и хищения.
Князь Вишневецкий карал коронных и своих собственных бунтовщиков заодно с Потоцким, которому, как и Конецпольскому, служил правой рукой. Он думал властвовать над воинственными номадами по примеру предков своих, которые, меняя в отношении к ним гнев на милость и милость на гнев, умели делать их ручными, как диких степных лошадей. Но взаимная вражда казаков и панов росла в силу внутренних недугов Речи Посполитой, которые, по замечанию краковского воеводы, Любомирского, «чем вреднее, тем более скрыты», [42]42
Этот мудрый сенатор писал к сеймующей шляхте в июле 1648 года: Трудно восстановить спокойствие, «poki niezagoja sie nie tylko powierzchowne, ale i wewnetrzne rany, ktore, im szkodliwsze, tem skrytsze».
[Закрыть] а презираемые Вишневецким иноки, с умыслом и без умысла, давали казацкой ненависти к окатоличенному потомку знаменитого Байды санкцию веры. Указывая на отступничество князя Вишневецкого и распространяя тревожные слухи даже насчет его дяди, киевского митрополита, они, без всяких политических замыслов, делили резче и резче украинское население на панов и людей посполитых, на злочестивую ляхву и благочестивую русь. К панам причисляли они, в понятии черни, всех жолнеров, состоявших большею частью из православного простонародья, а к ляхам – всех землевладельцев и их шляхетных слуг, не взирая на то, что многие из великих домов сохраняли еще веру русских предков своих, а служилая шляхта, подобно самому Хмельницкому и его отцу, не находила никакой выгоды в том, чтобы менять православного попа на католического ксендза, или на униата.
Общая нужда в защите имуществ и семейств подавляла тогда в Малороссии все прочие житейские интересы. Не только казаки забывали свои досады на панов и на их служилую шляхту, но даже такие люди, которые, по-видимому, не нуждались в помощи магнатов-соседей, такие, которые граничились между собой из года в год и тягались в трибуналах за взаимные захваты, – прекращали старые счеты и вооружались вместе против постоянного врага колонизации – татарина. Так в 1643 году казацкий комиссар, Николай Зацвилиховский, подначальный Станиславу Конецпольскому, как великому коронному гетману, водил казаков на помощь князю Иеремии Вишневецкому против 4.000-й Орды слепого Умерли-аги и отбил у неё над Сулою, между Ревцем и Пслом, ясыр с добычею, а в 1644-м, Князь Иеремия с 3.000 своего войска ходил на помощь Станиславу Конецпольскому против Тогай-бея и действовал так энергически, как и с Потоцким против казаков Остряницы и Гуни. То же самое вспомним здесь и о другом поземельном соседе князя Иеремии, Адаме Киселе, интриговавшем в последствии между правительственною шляхтою против его геройских предприятий.
По фамильным бумагам Ростишевских, владельцев Линового в Киевщине, эти два одинаково деятельные соседа граничились по-казацки за свои осады и слободы, но против казаков действовали, кто во что был горазд, как против общих неприятелей.
Так дело шло у малорусских колонизаторов до 1648 года. При первых признаках нового бунта Корибут Вишневецкий понял опасность своего колонизаторского поста на окраине государства, в стране дикой, и принял решительные меры для предупреждения катастрофы. Несколько десятков тысяч самопалов, оборонявших его колонии от хищников и панов соседей, было отобрано им у своенравных подданных и сложено в лубенском арсенале до поры до времени. Но не предвидел он, что татары будут призваны казаками в товарищи добычного промысла и впущены в городовую Украину именно теми, которые не менее землевладельческой шляхты были заинтересованы в её обороне. Не могло прийти никому в голову, чтобы перекопский царь, два поколения тому назад сгонявший казаков с Днепра по договору с князем Острожским для обоюдного спокойствия мусульман и христиан, чтобы потомок Чингисхана, гордившийся старшинством рода своего перед цареградским повелителем правоверных, чтобы тот, кто еще так недавно являл себя царем в своих обычаях, – унизился до панибратства с бунтовщиком, кроющимся среди воров и горьких пьяниц в днепровских камышах и плавнях. Сам же он, этот Ислам-Гирей, писал к нему, князю Вишневецкому, недавно, уверяя его в своей дружбе и поступая царски относительно царственных соседей. Вдруг все перевернулось к верху дном. Запруда, сдерживавшая напор азиатской дичи на христианскую землю, уничтожена вероломным слугой знаменитейших панских домов, Жовковских, Даниловичей, Конецпольских. Цветущая сельским хозяйством и промыслами половина королевства предана разбойникам.
Завоевания шляхетского меча и плуга достались бессмысленным и беспощадным руинникам.
Но Вишневецкий держался крепко на своем пограничном посту, и в глубине Речи Посполитой на него смотрели как на спасительный устой отечества. Может быть, он удержался бы на своем важном стратегическом пункте и до конца. Он требовал подкрепления вовремя. Но вовремя шляхетская республика не делала ничего. По замечанию Адама Киселя, её медлительность в подобных случаях с каждым годом увеличивалась. Считая этот порок своей правительственной братии неисправимым, Адам Кисель, уже десять лет тому назад, предлагал свой проект правительственных мероприятий, которыми была бы предотвращена и самая возможность повторения Павлюковщины. Напрасная предусмотрительность! Быстрый разлив казако-татарского нашествия по Киевщине, Подолии и Волыни, отрезал Вишневецкого от тех панских владений, в которых все стояло еще на своих местах.
Хмельницкий между тем доказывал справедливость распространившегося уже в Польше мнения о талантливости коварного казака, которою паны могли бы, да не умели воспользоваться. Коронный подчаший Остророг писал к Оссолинскому о нашем Хмеле: «Великих способностей человек и воин по самой природе (dowcipu wielki ego i z natury zolnierz)». Читая такое донесение одного из ученейших полководцев своих, поляки должны были с горечью вспоминать слова геральдика Папроцкого, которыми он так разогорчил их отцов и дедов: [43]43
Книга Папроцкого: «Panosza, to iest Wyslawienie Panow Ruskich у Podolskich», была в Польше преследуема, как и его гербовник.
[Закрыть] «Кто в наше время в чем бы то ни было превзошел русака? Пошлете вы его в посольство, – он исполнит посольство лучше, нежели вы ему прикажете. Между русаками ищите полководца и доброго воина. С досадой слышит он совещания о мире». [44]44
Poslecie go w poselstwie, dobrze je odprawi,
Ledwie mu tak roskaza jak on lepiey sprawi.
Tam pytay o Hetmanie, o dobrym Rycerzu,
Nie rad kiedy wotuia w Radzie o przymierzu.
[Закрыть]
Казацкий гетман отправил на татарскую сторону Днепра (по милости Вишневецкого, сделавшуюся, как и правая сторона, русскою) одного из своих полковников, Кривоноса, по песням – Перебийноса, бунтовать Вишневетчину и в выборе своем показал тот же dowcip, который восхвалял Остророг. Это была одна из тех личностей, симпатичных для пьяной и свирепой толпы, которым украинские разбойничьи песни принесли полную дань своих диких восторгов.
Вишневетчина была готова к бунту со времен Павлюка. Но хозяйственность князя Яремы сдерживала зверские инстинкты тех забродников, которые, воруя, грабя, убивая, скитались в виде гонимых всюду волков, прошли широкое поприще панской колонизации из конца в конец, и не бежали далее от новых обязательств и новых преступлений только потому, что далее бежать было некуда. За Ворсклом и Пслом голодного скитальца подстерегал с арканом и лыками татарин, а Запорожье прогоняло забродников в городовую Украину тем же самым голодом, который заставлял их делаться винниками, броварниками, будниками, могильниками, фигурирующими в Илиаде казацких разбоев. Среди народа работящего и в городах и в селах, так называемые гультаи, гайдары, нетяги чувствовали себя в самом неприятном положении: они были способны только плиндрувати, руйновати, в пень рубати.
Теперь пришел черед силе опустошающей выступить против силы производящей, во всеоружии того беспутства, которого начала кроются в беспутстве шляхетского народа, бредившего вольностью в своей зависимости от каждого сильного и дерзостного. Винники, броварники, лазники, будники, могильники, чабаны, пасечники и те, которых королевские комиссии, с 1617 года, требовали исключить из казачества под непонятными уже для нас названиями канкаюков, былачеев, балакезев, кафанников, вместе с ремесленною своевольною молодежью и промотавшеюся или обобранною своими ксендзами да монахами шляхтою, – отделялись от общества людей порядочных, или, как говорилось тогда, статечных. Внимая дерзкому призыву Кривоноса к истреблению всех ляхов и жидов, причем имелась в виду не вера и национальность, а зажиточность, гультаи принялись кривоносничать всюду, где пахло поживою, горилкою, безнаказанностью, и наводили ужас на тех, чьи выгоды были в каком-либо отношении общими с панскими.
Не доверяя обезоруженным подданным, которых недавно еще собиралось вокруг него до 26.000 для демонстрации перед Крымом, Вишневецкий окружил себя только служилою шляхтою и разгонял гайдамацкие загоны Перебийноса на пространстве от Ворскла до Трубежа, а пойманных на горячем учинке перебийносцев казнил тут же, как делал Николай Потоцкий в 1638 году. Но он, в свою очередь, не принял во внимание важного обстоятельства, что в руках у него был меч католический, и что самое безупречное право суда с его стороны, как охранителя чести, собственности и личной безопасности граждан, было только новым ударом «ляха» по малорусскому сердцу.
Церковная реторта таинственно, точно в келье алхимика, переделывала польские добродетели в пороки, а малорусские пороки – в добродетели. Страх казни за бунт, за грабежи, насилия, разбой – уничтожался диким криком за веру! слышным от Чигирина и Корсуня до Путивля и Севска, от Путивля и Севска до Смоленска и Дорогобужа, от Смоленска и Дорогобужа до самой Москвы. По малорусской пословице: «у своїй хаті й кутки помагають», пренебреженному панами православию помогали, на его родной почве, даже те люди, которые не знали, в чем состоит оно, – те, которые были гораздо ближе к исламу, нежели к евангелию, – те, которые из моралиста-протестанта делали «Святого Рея», [45]45
По рассказу Кассиана Саковича, один благочестивый поп, развернув протестантское сочинение польского поэта Рея, обратился к прихожанам со словами: «Панове миряне, православни христиане, послухайте лиш казания Святого Рея», и по доносу католика, был привлечен за это к суду.
[Закрыть] – те, которых, по словам самих защитников православия, чаще видали в кабаке, нежели в церкви. [46]46
Печерский архимандрит Захария Копыстенский сетует в своей «Палинодии», что нашего попа чаще видали в кабаке, нежели в церкви (Автограф Палинодии хранится в Варшавской библиотеке графов Красинских).
[Закрыть] Чем энергичнее действовал Вишневецкий, чем усерднее подвигался он по камертону польского центра Варшавы, тем больше весы таинственной судьбы склонялись в сторону центра русского – Москвы. Бесстрашный охранитель польской границы, врезавшейся в московскую землю, он собственным мечем указывал нашему народу дорогу в Москву. Вишневецкий был похож на великана, пытающегося погасить вспыхнувший пожар бурным дуновением; но пожар, не «погашенный в искрах», превзошел наконец великанскую силу: бурный дух восточного маркграфа польского раздувал пламень международной вражды до бешенства. Такою представляется историку деятельность полонизованного Байдича в конечном результате своем.
Каждый удар его геройской руки и все блестящее поприще воинской славы его в эту гибельную для Польши усобицу – были не что иное по своим последствиям, как мимовольная служба русскому элементу, пренебреженному им ради польского.
Положение князя Вишневецкого было еще трагичнее, чем оных героев отпора антикультурной татарщине, о которых знаменитый геральдик XVI века писал, что они стояли на границе христианского мира, как мужественные львы, и жаждали одной кровавой беседы с неверными. Те пролагали колонизаторам-панам дорогу в обетованную землю, которой сами не увидели; а он создал целое царство, текущее молоком и медом в виду голодной Скифии, – и люди, призванные им к участию в благах привольной жизни предпочли превратить его богатое хозяйством княжество в такую же голую и голодную Скифию, как та, которая лежала за Ворсклом с одной стороны и за Тясмином – с другой.
Оказаченные Хмельницкими да Перебийносами поселяне действовали на его колонизационную ассоциацию сильно прельщением, но еще сильнее – террором.
Попасть в число их жертв было страшно и бесстрашному. Недаром ходили всюду рассказы о том, как сулиминцы казнили коменданта кодацкой крепости, а хмельничане – казацкого комиссара, Шемберка. Недаром и о самом Хмельницком шла молва, что он собственноручно снял голову с этого «нашайника». Не было той жестокости, которою бы не насладилось тогда беспощадное казацкое сердце. Если старожил нашего времени изобразил нам, в своих воспоминаниях, гайдамаку Железняка и Гонты, подавшего крестьянской благотворительнице дитя её на своем казацком списе (копье) [47]47
См. Киевскую Старину 1887 года, январь, стр. 51.
[Закрыть], что делали в XVII столетии хмельничане? И чего должен был ждать от кривоносовцев приверженец Князя Яремы? Имущество верного Байдичу человека обрекалось расхищению и пожару, его семья – позору и всевозможной тирании, а его жизнь, как, «панського підлизи» и «недоляшка», могла быть обеспечена – или отчаянною защитою в малочисленном ополчении шляхтичей, или, гораздо вернее, участием в кровавой оргии казатчины. Попав между двух лагерей и слыша о баснословных успехах бунта Хмельницкого, не только простолюдины, но и шляхтичи, преданные дотоле Вишневецкому, оставляли «своего князя», и если не переходили под бунчук Перебийноса, то прятались в северских трущобах до решения страшилищного спора между казаками и панами.
Разгоняя гайдамацкие шайки и карая своих изменников с той же завзятостью, которой отличались казаки, Вишневецкий дошел до Переяслава. Но усмиренный Конецпольским, а через семь лет Потоцким, Переяслав кипел уже бунтом. В нем сидел достойный преемник изолганного полудикою малорусскою письменностью Тараса Трясила [48]48
Прозвище Трясило дали Тарасу Федоровичу (по фамилии шляхтичу) казаки, распускавшие слух о своем торжестве над Конецпольским. Ложное предание о Тарасовой Ночи, в которую будто бы Тарас ляхов за чуба потряс, дожило до нашего времени, и пущено в ход новыми летописцами да кобзарями.
[Закрыть], Перебийнос, и готовился выйти навстречу князю Яреме, которого шляхетное ополчение таяло по мере приближения к старому гнезду казатчины.
Вишневецкий очутился в положении крайне опасном. Отрезанный от Киевщины и Волыни, он смотрел подозрительно на своих пограничных вассалов, на своих испытанных дружинников, и должен был опасаться всего худшего. Не желая пасть в бесславном бою, или сделаться жертвою казацкой тираннии, все еще страшный для Перебийноса князь Ярема отступил к своим Лубнам и стал готовиться к бегству в другую Вишневетчину, колонизованную предками его, – на Горынь. Надобно было сперва обеспечить от казацкой свирепости обожаемую любовницу-жену, красавицу Гризельду, и тогда уже ринуться на бой с чудовищем неслыханного бунта, очертя голову.
В Лубнах принесли ему письмо Хмельницкого. Истребитель панского войска принял за правило, подобно коварному Ислам-Гирею, рассылать во все стороны миролюбивые письма, в которых не писался милостию Божиею, как в сношениях с московскими воеводами: раболепствуя перед магнатами, смиренно называл он себя старшим Запорожского войска и хлопотал о помиловании, а между тем занимал под казацкий присуд города, разорял панские имения, вооружал новые десятки тысяч черни и вел войну такими варварскими средствами, что его называли Тамерланом.
Многие из магнатов поддались его хитрости, надеялись войти с униженным ласкателем своим в компромисс, не принимали крайних мер к защите имений, и этим убеждали чернь в своем бессилии: того и желал Хмельницкий, на то и рассчитывал. Он хотел убаюкать и Вишневецкого; но тот, не показывая вида, что потерял надежду устоять против Перебийноса, маскировал свое бегство военными приготовлениями и, взявши с собой лишь несколько походных возов да 15 рукодайных слуг, оставил свое заднепровское княжество, в которое не суждено уже было вернуться ни ему самому, ни его потомкам. Он объехал обнятое бунтом Заднеприе московскими сакмами, переправился на правый берег Днепра в Любече и отправил свою Гризельду с сыном Михаилом, будущим польским королем, через Полесье, в Вишневец. В Любаре присоединилась к нему украинская шляхта, бежавшая из своих имений.
Описывая бегство Вишневецкого, известный уже нам Натан Ганновер дает понять, почему Хмель и вообще казаки больше всего злились на коронного хорунжего, Александра Конецпольского, и на русского воеводу, Иеремию Вишневецкого: тот и другой вели сельскохозяйственные промыслы с участием жидов. Не принимали казаки во внимание, что неспособность туземцев к торговле и промышленности искони была причиною извлечения в нашу Русь иноземных выходцев, среди которых жиды и армяне оставляли позади себя даже немцев. Эти две народности внушали казакам особенную к себе злобу, так что в изображениях Страшного Суда казацкие маляры на свитке, исходящем из уст Судии судей, писали слова: «жиди и вірмене! идіте в муку вічну від мене». Напротив хозяйственное жидолюбие Вишневецкого Натан Ганновер изображает следующими словами:
«В это смутное время находился князь Вишневецкий, – да будет память о нем благословенна! – со своим войском там за Днепром. Он чрезвычайно любил жидов, отличался бесподобными военными доблестями, но и он убежал со своим ополчением, по направлению к Литве. С ним же убежало около пяти тысяч домовладельцев жидов с своими семействами. Вишневецкий оказывал им бдительную охрану, пока не привел их к желанному месту, например: когда бежавшим угрожала опасность сзади, он приказывал жидам идти впереди всех; если же чуяли опасность впереди, то жидам велел идти за войском, дабы оно служило им защитою».
Глава XVI.
Геройский дух шляхетского народа в лице ополяченного русича. – Бессознательная работа отступников русского элемента в пользу России. Православный миротворец между панами сенаторами. – Отсутствие патриотизма. – Безнравственный контингент казатчины. – Соперничество магнатов-доматоров с колонизаторами. – Каптуровый сейм. – Триумвират. – Вопрос о вере. – Шляхетская Украина. – Обманувшиеся в своих надеждах миротворцы.
Не прошло тогда еще и месяца после погрома панского войска, а казако-татарские загоны достигали уже Горынь и Случи. «Знай, ляше, по Случь наше»! кричали казаки, забывая, что наше значило казако-татарское. Но Житомир, опора киевского Полесья, еще держался. Он был переполнен сбежавшеюся отовсюду шляхтою, оплакивавшею свои великие утраты. Вишневецкий появился в её среде, как ангел отмщения за казацкие злодейства. В упадшем духе местного общества произошла реакция. Нашлись и деньги для сбора войска, явились и предприимчивые люди. Покамест, и сам князь дал заимообразно несколько тысяч злотых на ополчение. В качестве русского воеводы, Вишневецкий послал призывные универсалы во Львов, извещая, что татары скоро придут в Польшу великою ордою, под предводительством самого хана. Он требовал от соотечественников усилий чрезвычайных. Он умолял понять великость угрожающей опасности.
Но это был глас вопиющего в пустыне. Правители шляхетского народа находились в нравственном оцепенении. По словам знаменитого краковского воеводы, который пел уже свою лебединую песню, шляхте казалось, что целость отечества зависит от усмотрения неприятеля (na szczerej dyskrecyej nieprzyiacielskiej zda sie zostawac incolumitas patriae). Вместо того, чтобы приготовлениями к войне достигнуть мира, шляхта искала его в миролюбивых сношениях, со стороны Хмельницкого коварных.
Главным представителем партии миротворцев явился брацлавский воевода Адам Кисель. Письмом от 12 (2) июня он обратился к страшному бунтовщику от имени общего отечества, которому де в вольностях и свободах нет равного в свете. «В нашем свободном государстве» (писал он) «легче домогаться того, что у кого болит, а потеряв его, не найти уже другого такого ни в Христианстве, ни в Поганстве. Всюду неволя; одна только Корона Польская славится вольностями».
И тут же этот жалкий объедок иезуитства говорит, что из всего польско-русского народа он один сенаторствует в Польской Короне, «держа на своих плечах наши древности святой церкви». Столь же некстати вспомянул он при этом и о кровопролитных Кумейках, где он «не обагрил де никогда рук своих христианскою кровью казацкою». То и другое, по его мнению, должно было внушить Запорожскому войску полное к нему доверие. Он дружески советовал Хмельницкому отправить татар, а это значило – обезоружить себя в виду раздраженных землевладельцев, и брался примирить его с предержащею властью, как сановник, без которого де «не может быть постановлено ни войны, ни мира».
Хмельницкий отписал ему на другой же день из Белой Церкви, будто бы велел Орде вернуться (куда, не сказано), «униженно» просил предстательствовать о возвращении казакам старых войсковых вольностей, и, «если мы в самом деле» (писал он) «осиротели все по смерти его королевской милости, нашего милостивого пана», удостоить его (Хмельницкого) своим посещением, чтобы он мог переговорить с паном воеводой обо всем устно, воспользоваться его мудрым советом и узнать, кого Речь Посполитая желает иметь своим королем.
Это значило, что казаку хотелось только допросить велеречивого сенатора обо всем ему нужном, а, пожалуй, задержать у себя человека, доставлявшего панам сведения о казацких делах. Но Киселю, по пословице, «показались и козы в золоте». Он хвалился примасу, что Pan Bog через него, нижайшего из сынов отечества, устранил кровавую радугу и остановил междоусобную брань (internuum bellum), а в заключение красноречивого письма просил его отеческой и всех панов братий милости, чтобы никто «не отнимал у него этой верной службы», и чтоб она не осталась «без памятника любви к отечеству (absque monumento pietatis ku ojczyznie)».
Когда князь Вишневецкий появился на правой стороне Днепра, православный патриот Польши хвалился и ему, что убедил Хмельницкого к примирению, причем послал ему копию своей переписки с примасом и коронным канцлером о том, как бы что называется по-малорусски укоськать бунтовщика.
Но патриотизм окатоличенного русина был совсем иного рода. Вишневецкий отвечал Киселю так:
«Я, напротив, должен плакать (ingemiscere) о том, что не мог раньше ополчиться с квартяным войском на истребление этих ядовитых чудовищ, которых изменники и бунтовщики извергли теперь на Речь Посполитую. Глядя на горестное положение республики, в которой господствуют рабы, и невольники плебеев (servi et mancipia plebejorum), с изумлением болею сердцем и о том, что, обогатясь на счет братий наших и причинив ей такое поругание, эти чудовища, за то, что растерзали утробу государства, еще мечтают о награде и удовлетворении. О, лучше было бы умирать, нежели дожить до такого времени, когда слава наших великих народов так страшно искажена, – дожить до такой невозвратимой утраты в нашей Короне! Не могу хвалить принимаемых по этому предмету мер: могу верно судить лишь о том, как наилучше воспользоваться временем. Но чтобы вести с ними переговоры о примирении, не вижу никакого основания, – разве хотите, чтобы вкоренившаяся в этих рабских сердцах отвага не покинула их до нового бунта, и чтобы их притязания возрастали с каждым разом больше и больше. Если Речь Посполитая покроет вечным забвением громадные, беспримерные в прошедшем раны, нанесенные этими изменниками, то ничего не может ожидать в будущем, как только крайних несчастий и гибели. Кто бы мог поступить более враждебно с отечеством, как поступили те, которые продают его язычникам, которые шляхетскую кровь разливают, как воду, и уничтожают стражей коронных границ? Вы хлопочете с таким жаром о том, чтобы вознаградить нас за пролитую кровь наших братий и восстановить честь отечества: в этом я уверен. Но достойны ли такие люди пользоваться его благодеяниями? Если после истребления коронного войска и плененья его гетманов Хмельницкий будет вознагражден и останется с этим гультайством при старых вольностях, я не хочу жить в этом отечестве, и лучше нам умереть, нежели допустить, чтобы язычники и гультаи господствовали над нами».
Прошло недели две. Хмельницкий, отписав немедленно Киселю, задержал у себя его посланца, а посланцем Киселя был старец состоящего под его патронатом монастыря в Гоще, отец Патроний Ляшко, которого он, в письме к примасу, называл своим конфидентом и шляхтичем добрым.
Добрым шляхтичем, как это мы помним, называли паны и того монаха, который, в Павлюковщину, сослужил им службу соглядатая. Человека, прикосновенного так или иначе к панским интересам, казакам следовало задержать.
Две недели загадочного отсутствия конфидента охладили Киселевскую любовь к отечеству и мечты о памятнике панскому пиетизму. В письме к примасу от 30 (20) июня Кисель является перед нами печальным историком кровавого момента.
Из этого письма мы узнаём, что паны, так сильно повлиявшие на поступки коронного гетмана в противность повелениям короля, до тех пор совещались между собой о контингентах, пока 60.000, или даже более, неприятельского войска не захватили его с малочисленной армией. Потом узнаём, что в день Корсунского погрома подошли к Потоцкому люди князя Любомирского да самого Киселя. «Орда ехала на них до самой Белой Церкви», пишет он. Таким образом паны происхождения русского, Вишневецкий, Любомирский, Кисель, оказались единственными слугами польского отечества в его крайности.
Далее Кисель наш повествует о виденном и слышанном так:
«Лишь только разнесся слух, что войска и гетманов уже нет, а Орды идет при казацком таборе 60.000, тотчас вся Украина, Киевское и Брацлавское воеводства, бежали перед таким гвалтом и силою неприятельскою, бросая дома свои и дорогие залоги любви (cara pignora); а неприятель, войдя в недра (in viscera) государства, распустил все свои загоны. Города опустели. Полонное, Заслав, Корец, Гоща сделались Украиною (Ukraina zostaly); а некоторые помещики, не опершись и здесь, разбежались в Олыку, Дубно, Замостье. Ни один шляхтич не остался. Осталась только чернь. Одна часть её пошла к этому Хмельницкому, и несколько тысяч войска его обратила в несколько десятков тысяч, а другая часть, будучи уверена (freta), что с нею ничего не случится, осталась беззаботно по домам. Но и этим Орда, когда они выходили из местечек приветствовать ее, сделала такой привет, что во многих местах высекла в пень. Только тогда начали бежать ото всего добра и хлопы. Таким образом татары возвращались к своему кошу и к табору Хмельницкого под Белую Церковь, обремененные добычею. А что дальше будет, слушаем только да выглядываем. Различных добываем языков: одни пойманные из тех загонов татары говорят, что присягли друг другу оставаться до зимы; а другие, что, кончив это посещение (odprawiwszy goscine), татары хотят идти в Волощину, а казаки – к Днепру. Теперь уже не можем иметь никакой помощи из Киевщины, Подолии, Брацлавщины; только из Волыни взываем к остающейся в тылу братии. Но и тех трибунал задержал до сих пор несчастными судами, не обращая внимания на огонь, который охватил уже большую часть Республики (magnam Reipublicae partem). Таким образом не остается никакой надежды устоять против неприятеля, находящагося в (её) недрах (in visceribus): сила его возросла до 200.000 Орды и казаков».
Сидя начеку в своей Гоще, вспоминал Кисель и о Кумейках, которыми с притворною наивностью закрывался от казацкой мести. Теперь писал он к временному главе государства – примасу:
«Что сделает мое увещание, и как обойдутся с моим конфидентом, жду между надеждой и страхом. Хоть я всегда старался снискать у казаков доверие на случай беды, но боюсь, чтоб они не припомнили мне кумейского предприятия; они там поддались по моей присяге, которою уверил я их, что жизнь их вождей будет пощажена, но этого (в Варшаве) не исполнили».
И всё-таки веровал он в силу своего хитроумия; всё еще надеялся, что укоськал своим посольством бунтовщика и размягчил его, как воск (albo uczyni reflexya ten rebellis ta moja legacya liquefactus i uglaskany, albo, strzez Boze procedet ultra).
В том же письме к примасу сенатор, без которого «не могло быть постановлено ни войны, ни мира», ознаменовал себя мудрым советом – избрать главнокомандующим будущего панского войска богатейшего, неспособнейшего и трусливейшего из польско-русских панов, сендомирского воеводу, князя Доминика Заславского, наследника богатств и нравственной несостоятельности нашего «святопамятнаго» князя Константина-Василия Острожского.
Сеймики в покинутых воеводствах находил он невозможными, потому (писал он), что «воевода киевский (Тишкович) находится в Дубне; я в Винницу не могу ехать (в такое время), когда помещики разбежались и неприятель преградил путь. Сам князь Вишневецкий отступил к Драгину. Одни хлопы сеймикуют, или лучше – бунтуют в покинутых провинциях».
В заключение письма, Кисель называл себя нищим и сетовал, что «теперь мало кто думает об отечестве».
Это было писано 30 (20) июня. Через 17 дней литовский канцлер писал в своем дневнике о грозном положении дел в отечестве, о котором теперь мало кто думает, – о том, что и в Литве собралось уже 12.000 хлопов, которые сожгли, разграбили, вырезали несколько сел, местечек, городов, потом – о свирепых подвигах Перебийноса в Виннице, о приближении казацкой орды к Волыни, и наконец заметил, как и Кисель: «однакож все это не произвело у нас движения: все дела шли медленно».
Не мудрено было Хмельницкому прослыть человеком wielkiego dowcipu и военным гением в таком государстве, где каждый думал только о себе и в годину страшной опасности хлопотал, чтобы его любовь к отечеству «не осталась без памятника».
Пока паны сносились между собой да готовились вяло к отражению татаро-казаков, князь Вишневецкий соединил вокруг себя раздраженную казацкими злодействами шляхту, вооружил наскоро преданных ему подданных, – тех подданных, которых отцы и деды ходили с Байдою в Туретчину, Московщину, в Волощину, – и ринулся на казацкие загоны, свирепствовавшие в шляхетских добрах. Ожесточение шляхты взяло тогда самый дикий аккорд с казацким «зверством», – и вышел адский концерт взаимных убийств и терзаний.








