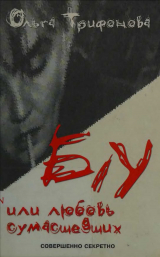
Текст книги "Б/У или любовь сумасшедших"
Автор книги: Ольга Трифонова
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
* * *
Из домашних сочинений Германа Васильевича.
Один коммунист работал начальником далекой стройки на вечной мерзлоте. Теперь считается, что это американцы первыми построили на вечной мерзлоте ГЭС, но это неправда, потому что, используя вечную мерзлоту как основу тела плотины, а также используя неисчерпаемый контингент ГУЛАГа, первая мерзлотная ГЭС была построена в нашей стране. И что самое интересное – в дни Великой Отечественной войны, которую на Западе почему-то называют Warld War II.
Но речь не об этом, а том, что семья начальника находилась в это время в блокадном Ленинграде. Его красавица жена с двумя мальчиками – Казимиром пяти лет и Феликсом трех лет, – а также с бабушкой детей, то есть матерью мужа, подвергались немыслимым страданиям в темной комнате на Васильевском острове. Был ещё один мальчик по имени Волик, грудной, но он умер, потому что у матери не было молока. Молочный порошок тогда голодающим не поставляли, как это делает сейчас немецкая благотворительная фирма «Каритас», и Волик тихо умер. Но все же на него можно было получить немного хлеба и жиров, поэтому несчастная мать скрыла факт его смерти, а так как схоронить его она не могла, не имея сил долбить мерзлую землю (не то что контингент ГУЛАГа в Заполярье), трупик Волика положили между оконных рам до прихода весны.
Так они и нежили в темной холодной комнате, где Казимир и Феликс (названный, кстати, в честь железного ксендза, который впоследствии и стал идеалом юноши) согревались под тряпьем теплом своей несчастной матери, между рам хранился маленький кулек – Воля, а на соседней кровати тихо угасала бабушка, когда-то носившая белоснежные воротнички и читавшая Шпенглера и Гегеля в подлиннике. Бабушка скончалась весной сорок третьего, и жене коммуниста, строящего ГЭС в Заполярье, выдали справку, что смерть наступила в результате воспаления легких и преклонного возраста, хотя бабушке еще не было шестидесяти и воспалением легких она не болела. Но в результате справки улучшилась блокадная статистика, так же как с помощью все того же воспаления легких улучшалась статистика Лубянки и ГУЛАГа.
А вскоре после того, как похоронили бабушку и Волика вместе на Смоленском кладбище, пришел человек в кожаном пальто, подаренном ему в Мурманске капитаном английского конвоя, и сказал, что их муж и отец велел ему (кожаному пальто) увезти семью из блокадного города.
Они ехали через Ладогу в ослепительный весенний день. Казик сумел привязать саночки к автобусу, но когда приехали, оказалось, саночек нет. И не то чтобы оторвались, отвязались, а веревка кем-то была срезана с помощью очень острого ножа. Видимо, когда попали под бомбежку и царила суматоха.
В Вологде в санпропускнике, наконец, вымылись и избавились от вшей. Феля ходить не мог, и его внесли в санпропускник на чьей-то спине. Решили двинуться к родственникам в Котлас. Когда жена коммуниста, до войны очень красивая и нарядная дама, постучалась в одну из дверей в коридоре Котласского барака, сестра не узнала ее и, сказав: «Сейчас», – ушла в глубь комнаты и вынесла ей кусок хлеба, как нищенке.
Казик и Феля ждали мать на крылечке барака. Потом, конечно, сестра узнала сестру и, конечно, пустила жить в свою комнату, где она жила с двумя дочерями. Кожаное пальто еще сообщило, что скоро будет вызов от мужа-коммуниста и тогда они все поедут в Заполярный поселок на стройку ГЭС, и хотя там холодно и тундра и темного времени гораздо больше чем в Ленинграде и белого же больше, – жить они будут там хорошо, потому что у мужа и отца-коммуниста теплая двухкомнатная квартира, много яичного порошка и тушенки (американских). Вызова почему-то долго не было, и тогда жена коммуниста взяла детей и поехала в Ленинград, с которого уже была снята блокада. Феля начал ходить, но ходил очень плохо, и от вокзала мать несла его на Васильевский на закорках, а Казик тащил вещи. В Ленинграде мать пошла в Управление и спросила, жив ли её муж-коммунист, потому что нет от него никаких известий.
Ей в Управлении ответили, что он не только жив и здоров, но и очень хорошо строит на вечной мерзлоте ГЭС и что, если она хочет, то может через Управление послать ему весточку. Она послала, и вскоре муж и отец-коммунист появился на Васильевском (острове) в кожаном пальто тоже от английского конвоя.
После слез, объятий и поцелуев отец и муж сказал, что у него есть серьезный разговор к жене, и они ушли на кухню, где шипел примус, а Казик и Феля остались в комнате и ели американскую сгущенку.
Честный коммунист сказал:
– У меня к тебе есть важное сообщение, постарайся принять его разумно. Дело в том, что я полюбил другую женщину и хочу жить с ней, а чтобы тебе было легче, я возьму Казика.
Младший, Феля, видимо, ему не очень нравился, и он его оставлял даром.
Жена коммуниста и мать Фели, а главное, Казика, встала с табуретки, на которой сидела, и подкрутила фитиль примуса, который уже коптил. Потом она снова села на табуретку и сказала:
– Поезжай на стройку и подумай, а мы будем жить здесь и ждать.
Честный коммунист зашел в Управление, где у него были важные дела, связанные с лопатками турбины, потом в ГУЛАГ, где у него тоже были важные дела, связанные с контингентом строителей, и вечером в специальном вагоне уехал в Заполярье.
А его жена вовсе не стала ждать, как она сказала ему, а, оставив Казика и Фелю на попечение племянницы, которая тоже, став взрослой девушкой, принесет ей горе, уехала в Заполярье.
Когда она пришла в «коттедж» начальства стройки, прозванный населением поселка «Кремлем», мужа-коммуниста дома не было. Он был, конечно, на стройке, потому что почти все силы и почти все время отдавал делу. Соседи сказали, что ключ всегда лежит под половиком у двери, но глядели на нее как-то странно, а она сделала вид, что не замечает их странных взглядов.
В квартире было чисто, а на столе лежала стопка выстиранного и выглаженного белья и полотенце. Сверху белья и полотенца лежала записка: «Любик, сходи в баню».
Жена коммуниста позволила себе только порвать эту записку, а больше ничего не позволила и стала ждать. Она развела яичный порошок, который очень любил муж-коммунист, если сделать его по правилам: с мукой и с содой чуть-чуть на кончике ножа. Открыла американскую тушенку, поставила на стол тарелки, положила ножи и вилки.
Около шести вечера дверь открылась и в комнату вошла очень толстая женщина в длинной шинели, подпоясанной веревкой, в сапогах, в оленьей шапке с длинными ушами.
Видимо, она видела жену своего друга-коммуниста на фотографии, потому что не удивилась, поздоровалась вежливо, сняла оленью шапку, развязала веревку, сняла шинель и повесила на вешалку, стоящую на одной ноге с несколькими загнутыми рогами наверху. Вешалку эту когда-то привезла сюда с большим трудом и мучениями жена коммуниста из Ленинграда.
У женщины был хриплый, прокуренный голос, и звали ее, кажется, Лида. Она не стала ничего говорить, выяснять, объяс-нять, оскорблять, а вынула из вещмешка кусок мороженой лососины, две банки крабов и кусок паюсной икры в газете «Правда Заполярья».
Все это она положила на стол, а жена коммуниста вынула тарелки из буфета, принадлежавшего когда-то бабушке, которая в подлиннике читала Освальда Шпенглера и Георга Вильгельма Гегеля, и положила на них лососину и паюсную икру, а банки с крабами очень ловко открыла собственным финским ножом пришедшая женщина, упомянув при этом, что она работает в итээровской столовой. Потом она села у окна и закурила «Казбек». Жена коммуниста принесла из кухни пепельницу в виде чугунной ветки виноградных листьев каслинского литья, которая (ветка) тоже когда-то принадлежала бабушке, читавшей Шпенглера в подлиннике.
Работник столовой поблагодарила и сказала, что, наверное, понадобятся стопки. Жена коммуниста достала и стопки, из них две серебряные и одну граненого стекла, тоже принадлежавших бабушке. Здесь она немного внутренне смешалась, прикидывая, кто из них двоих будет пить вместе с «Любиком» из серебряных чарок. Пользование серебряной чаркой несомненно должно будет обозначить положение дел.
Решила предоставить выбор Любику, тем более, что в разгар ее сомнений раздались в коридоре шаги и на пороге появился сам коммунист.
– Какая компания! – радостно воскликнул он, увидев жену и работника итээровской столовой, – а у меня как раз пятизвездочный с собой. Масленников презентовал, он вчера прибыл, – сообщил отдельно итээровскому работнику.
– Сам Масленников?! – ахнула работник, обливая его лучистым любовным взглядом, – Генерал-майор!
– Да не генерал-майор, а генерал-полковник, – несколько резковато поправил коммунист.
Но жена знала, к сожалению, что резкость и, даже грубость тона не означала отсутствия чувств, а была дыханием большой стройки и непримиримости позиции, подвергавшейся время от времени пьяным нападкам обозленных, но полезных делу, спецов из контингента опять же спецпереселенцев.
– Давайте, девочки, хозяйничайте, а я харю сполосну, намотался сегодня… запороли сволочи… четвертая штольня… сброда понагнали… – доносился, исполненный мужества и веселого негодования голос коммуниста из кухни сквозь фырканье и звяканье штыря рукомойника.
Сидели хорошо. Честный коммунист увлеченно рассказывал о своем нелегком деле, женщины налегали на икорку и уже оттаявшую лососину.
А настенные часы в футляре (конечно же, Павел Буре) и, конечно же, снятые когда-то со стены квартиры, что была на Петергофском, в том доме, где из окна в незабываемом 1917 выкинули пристава, настенные часы в футляре с неумолимой поспешностью накручивали узорными стрелками час за часом. Вот уж и двенадцать пробило, а муж, и отец, и Любик, но прежде всего коммунист, и, как говорил один очень хороший писатель, «далеко не импотент», рассказывал одну историю смешней другой.
Пятизвездочный был давно выпит, выпита и водка, обозначенная на бутылке мелко «российская», а крупно «ВОДКА», появилась третья – невзрачная просто «ВОДКА», работник итэ-эр расстегнула ворот гимнастерки и стали видны матерчатые плоские пуговицы солдатского белья. Нежная кожа жены коммуниста, предмет ее гордости, порозовела, но выглядела жена очень глупо, потому что совершенно была не в курсе разговора мужа с итээровским работником. Например, не знала людей, упоминаемых в рассказах. Раза два она очень неуместно и неуклюже попыталась встрять с рассказами о детях и жизни в Котласе, но под рыбьими взглядами скучающих слушателей цветы красноречия увядали, а на смену приходил чертополох косноязычия.
Вот и два пробило, а веселой истории о том, как в мае, «упившись вдупель», он бросился в кипящие ледяные воды реки-энергоносителя, конца не было видно.
Жена встала и ушла в спальню.
Разбирая постель, имевшую приметы неистовой страсти коммуниста и отсутствия гигиенических прокладок в местной аптеке, жена обратила внимание на то, что голоса в соседней комнате стихли.
Она подумала, что, видимо, работник итээровской столовой пошла домой, а ожидающий расправы муж допивает в молчании остатки Простой, и еще она подумала, что все же нехорошо было в таком опасном месте, где до зоны пятьсот метров, отпускать ночью женщину без провожатого, даже если на женщине шинель, подпоясанная веревкой, на ногах сапоги, а на теле солдатское белье.
Но когда она открыла дверь, то в свете луча света, вырвавшегося из спальни, увидела горбящуюся спиной мужа и согнутыми коленями итээровки композицию, прикрытую, как памятник в день открытия, тканевым голубым покрывалом. В отличие от памятника композиция равномерно вздымалась, издавая звуки «вдох-выдох».
Женщина закрыла дверь, снова застелила постель и легла поверх покрывала. Несколько раз ее будили возгласы торжествующей плоти, но так как она хорошо их знала, то не пугалась, а засыпала снова с мыслью, что надо хорошо выспаться, потому что завтра – назад в Ленинград, а там хлопот полный рот: контейнер для пианино (пусть в доме звучит классическая музыка), контейнер для стола, раздвигающего на двадцать персон (пусть звучат веселые голоса друзей и гостей), контейнер для книжного шкафа (Феля в последнее время пристрастился к чтению и, по-видимому, от него в будущем можно многого ждать).
Потом ей приснился сон.
Будто нет никакой войны, и они все вместе: Казимир, Феля, она и муж пришли в «Эрмитаж». Почему-то все залы пустынны, посетителей нет; муж подводит их всех к огромному, до потолка, зеркалу и говорит: «Вот так и сфотографируемся на память. Смотрите прямо в зеркало и не моргайте».
Она смотрит и видит, что в зеркале нет их отражения. Смотрит, не мигая, до рези в глазах, но замечает только верёвку, плавающую в воздухе петлёй. И тогда она понимает, что где-то рядом ходит работник итээровской столовой, которая тоже не отражается зеркалом.
Она смотрит, смотрит и смотрит, пока из глаз не начинают литься от напряжения слезы.
* * *
В поезде Герману Васильевичу приснилось соитие с Татьяной. То, последнее, после поездки на хутор, когда картина уже сложилась. Очень непривлекательная картина. Но об этом, о картине, ждал впереди разговор с бывшим однокашником, а пока, бреясь перед зеркальной дверью купе СВ-вагона, он припоминал сон. Сон поразительно совпадал с явью. Татьяна кричала «Ф-а-а-а-к!», закатывая глаза, но ему уже не было так опустошающе сладостно, как ранее. Голова не отключалась. Он ждал «слов», именно тех, которые как импульс замкнули бы сложную цепь событий, фактов, характеров и страстей, которая выстроилась в его сухощавой и чуть удлиненной, в общем-то если прямо – лошадиной голове. Словечек не было, значит, предстоял еще один сеанс, но уже после того, как раскумарится[3]. Отношения их уже были просты и лишены фальши. Больше всего она боялась за сына-калеку и младшую сестру. После того как Герман Васильевич объяснил ей, что именно эти двое станут заложниками «Мити» и всей его компании, превратив ее в послушное полусущество, Татьяна раскололась. Рассказала о самоубийстве Касика, севшего на иглу, о бешеных заработках Алексея, о седом красавце ученом, о «Звере», живущем в загадочной квартире на Новороссийской, и много чего дельного другого. Одного имени она не назвала, одну тайну хранила верно. Герман Васильевич вычислил эту тайну, но жаждал подтверждения от нее. Герой тайны, судя по всему, не играл уж такой великой роли во всей истории.
Его амплуа было заурядным – герой-любовник, но несвойственное Герману Васильевичу чувство ревности и, наоборот, очень профессиональная привычка дочерпывать истину до дна, заставляли, затаясь, ждать неоспоримого подтверждения своей догадки.
Когда она ушла в ванную, он, уже по-хозяйски, варил на кухне кофе и, наблюдая за туркой, стоящей на конфорке, прикидывал самое важное – как и когда «порекомендовать» ей залучить Красавчика в Озерки. Получалось, что сегодня, сейчас – идеальный вариант. Опрокинуть ее последним, главным своим знанием, напугать (что было совсем нелишне: в грядущей ситуации неожиданности могли ее ждать нешуточные) и, наконец, дать все гарантии благополучно отбыть за пределы Отечества со своим мудаком-финном. Финна ждали завтра к вечеру, следовательно, на изобретение капкана для главного героя – Красавчика оставался сегодняшний вечер. Дальше – дело техники, если, конечно, главным героем не окажется другой. Событие маловероятное, но была одна загвоздочка: одна женщина. Тут модель поведения была в высшей степени странной. Ну да Танечка объяснит, а пока ей надо помочь нахлобучиться, иначе дело не пойдет.
Она вошла бледная, с черными кругами под глазами, села на табуретку, крепко обхватив плечи руками. «Ну вот, кажется, поехала, бедняга», – подумал Герман Васильевич, искоса глянув на нее.
– Кофе?
– Пусть кофе.
На лбу ее, таком чистом, без единой морщинки, стала проступать испарина.
– Годика через три ты превратишься в грязную старуху, ты знаешь об этом?
– Я буду лечиться. Сеппо сказал, что нашел для меня хорошую клинику-санаторий.
– Но ведь он думает, что ты алкашка, это разные вещи.
– Не имеет значения. Алкашка, наркоманка, он меня любит и хочет спасти.
– Но сначала надо оказаться в Финляндии, правда?
– Ты не выпустишь меня? Ты обещал…
– Обещал. Но возникли новые обстоятельства.
– Если ты думаешь, что я подрядилась на тебя работать, – ошибаешься.
– Намек понял. Но сначала Юля и мальчик пойдут в детприемник.
– Не пойдут.
– Ты так уверена?
– Уверена.
– Почему? У них ведь никого нет.
– Есть.
– Неужели? Кто же? Для иностранных подданных усыновление дело довольно затруднительное, да и на каком основании?
– От…ись ты от меня, я тебя уже все рассказала.
– Вот как раз этого я делать не собираюсь. – Герман Васильевич засмеялся, подошел к ней, распахнул полы махрового халата: – Смотри, как он тебя хочет.
– Хватит. Я больше не могу.
– А ты попробуй.
– Отстань.
– Ну же…
– Отстань. Неужели не видишь, как меня ломает.
Ее пухлые губы побелели, она кусала их, и всю ее начало колотить.
– Дай.
– Откуда? Я все выбросил.
– Не все. У тебя колеса в кармане.
– Уже порылась. Что ж не взяла?
– Не уверена. А вдруг отравишь.
– Зачем? Ты мне нужна. – Он прижал ее голову.
– Дай, – промычала она, – это же мои колеса, я знаю ты рылся везде и забрал. Дай эфедрон.
– А что за колеса? Митя? Крокодил?
– Неважно. Дай.
– Как это неважно. Толкаешь меня на преступление и неважно, вдруг это яд? А?
– Клянусь, что колеса, если это то, что ты нашел у меня. Давай скорее и делай со мной, что хочешь.
Штуковина, судя по всему, была действительно забористая. Через десять минут ее лицо порозовело, глаза заблестели, она снова стала прежней красавицей, той, на которую оборачивались на улице. Расширенные зрачки сделали ее бирюзовые глаза безднами, черные, заплетенные в мелкие косички «а-ля Клеопатра» волосы оттеняли нежную смуглость кожи.
«Будь прокляты те, кто сделал из этого чуда падаль, – подумал Герман Васильевич, – пускай уматывает в пресную Финляндию, авось и спасется».
Она уже курила беспрерывно, заложив ногу за ногу, выставив загорелое хрупкое колено и длинные с продолговатыми икрами ноги. Это был призыв.
– Подойди ко мне.
Он встал, подошел.
– Вот так. Надо снять плащ с абрикосины.
Перламутр на ее длинных ногтях искрился то фиолетовым, то голубым.
– Когда я была молодой, я не знала, что они такие красивые.
– У Раскурова тоже красивый?
– У него красивее всех, слаще всех, тверже всех, дольше всех и всегда, везде, стоит только попросить, стоит – только попросить. Как я его любила, ведь я с ним с двенадцати лет, научил всему…
– Ты знала, что он с твоей матерью?
– Конечно. Ведь он жил у нас, когда жена уезжала.
– Ты знала и он тебя учил?
– Мы любили, и если б…
– …не Юля, он бы женился на тебе, да? Я спрашиваю, да?
Вспомнился эпизод из фильма по Прусту, когда Сван приходит к проститутке и, стоя, с сигарой в зубах, глядя поверх ее спины и мотающегося ритмично затылка, расспрашивает об Одетте.
«Вот сигары только не хватает».
– Он обещал жениться? Обещал, что уедете в Москву, начнете новую жизнь, мать поймет, простит, она бы и вправду простіша и поняла. Не сейчас и не нам о ней говорить. Как ты узнала про Юлю?
– Я догадалась и спросила.
– Как догадалась?
– Она один раз запела нашу песенку.
– Какую?
– «Нам с девчонкой каюк, наша мама на юг укатила…» Дальше не помню, возьми меня крепче.
– Вот так?
– Вот так?
– Раскуров научил?
– Да.
– Банальнейший прием. Это делают со всеми б…ми.
– Я не была б…ю.
– Знаю. А вот ты знаешь, где он сейчас?
– Что-то случилось, он не звонит, не пишет. Я спрашивала у его жены.
– Ну а она?
– Она… «Этот человек меня не интересует».
– Она что – стерва?
– Нет.
– Нахлебалась до тошноты?
– Наверное. Она так страдала, я думаю, что мечтала, чтобы лучше б уж он умер.
– Он… – Герман Васильевич осекся. Даже в нынешнем ее состоянии сообщить о не-жизни Почасовика означало погубить все. – А ты не думала временами то же: лучше бы он умер?
– Никогда. Я забрала к себе Юлю, и все.
– Так сильно его любишь?
– Так сильно.
– Девочка моя, – Герман Васильевич взял ее за плечи, повернул лицом к себе, – девочка моя, – он откинул косички Клеопатры, нежно погладил ее лоб, губы, – я сделаю все, чтобы вы уехали из этой помойки. Ты вылечишься, финны очень упорные люди. Ты вылечишься и все забудешь…
– Что я должна еще сделать?
Это она опрокинула его, она – нахлобученная, униженная, загнанная в темный угол с пауками.
Он взял ее на руки и, покачивая, стал носить по комнатам, по коридору.
– Что я должна еще сделать? Говори и дай еще.
– Первое: ни в коем случае не искать Раскурова, ты ему навредишь, подведешь под монастырь.
– Я хочу его видеть, попрощаться.
– Он растлил твою сестру.
– Я хочу посмотреть в его лицо.
– Слушай меня. Ты завтра уедешь со своим белесым поросенком.
– Он брюнет.
– Ты завтра уедешь со своим белесым поросенком и с Юлей через Выборг.
– А сегодня?
– Сегодня ты должна увидеться с этим седым ученым. Здесь. Во что бы то ни стало.
– Я не знаю, где его искать.
– Он должен сегодня позвонить. Должен, или…
– Он звонил вчера, сказал, что был на хуторе.
– Я знаю. Сегодня ты его позовешь сюда.
– Я не хочу, я боюсь Зверя.
– Зверя нет. Он придет один.
– Это будет действительно все, точка?
– Я клянусь тебе.
– Ты уже клялся.
– Да клялся, и поэтому ты сейчас у меня на руках, а не в целлофановом мешке на дне Обводного канала или Черной речки.
– А что, по-твоему, лучше?
– Лучше клиника в Турку или в Ювяскюле и безбедная скучная жизнь.
– Он позвонит скоро. Дай еще колесико.
– Седой даст.
– И потом все? Точка?
– И восклицательный знак, а не вопросительный, как любил говаривать Раскуров.
– Ты его знаешь?
– Приходилось встречаться.
– Он в этих делах не замешан. Ты слышишь, не замешан.
– В чью дочь был влюблен Касик?
– Одной врачихи.
– По имени Кража.
– Кража? Какая Кража?
– По древнеиндийски Тая – Кража.
– Ты и про нее знаешь. А что она крала?
– То, что нужно, вернее, ненужно. Ну что ж, до завтра.
– А колесо?
– Седой, Седой…
Он увидел ее вечером того же дня, забрызганную кровью Седого красавчика.
Вот о чем вспомнилось майским утром Герману Васильевичу, сидящему в черной «Волге» и равнодушно глядящему на «кипучую, могучую». «Самая любимая» здорово попло-шала: улицы с неубранным мусором, пустые коробки домов, «поставленных на капремонт», немытые троллейбусы. Правда, на их грязных боках появилась реклама вроде «У МММ нет проблем». С Большого Каменного машина свернула во двор. Здесь, в этом сером доме-монстре, жил Дружбан. Тургеневская девушка из благопристойной академической семьи стала его женой. Терема поразили. За плоской стальной дверью открылся обширный холл, уставленный «породистой» мебелью красного дерева. Китайские вазы, штофная обивка, люстра синего стекла. В холл выходило множество дверей с матовыми стеклами. Герман Васильевич насчитал пять. Дружбан с розово лоснящимся то ли от массажа, то ли от припарок каких-то лицом, встретил радостно и вполне по-свойски. Потащил за собой в узкий полутемный коридорчик, в конце которого оказалась дверь, обитая светлым дерматином. За дверью был кабинет. Здесь мебель собралась поплоше, хотя и старинная, но без сытого глянца мастерской реставрации. Доска секретера с множеством ящичков и колонками была завалена бумагами, спинка оттоманки, покрытой пледом, вздулась волдырями вспучившейся и местами опавшей фанеровки.
– Сейчас принесут завтрак, а мы сразу к делу, лады? – сказал хозяин, усаживаясь в кресло.
– Принесут? – насмешливо переспросил Герман Васильевич, отметив, что некий элемент допроса в том, как предложено расположиться, имеет место. Свет из окна падал на него, Германа Васильевича, оставляя лицо хозяина в тени.
– С волками жить – по-волчьи выть, – отшутился хозяин, – а вот и волки.
Дверь открылась, и тургеневская барышня вошла с подносом. Она была мила, очень мила, тонкой нежной шеей в кружевном воротнике, бледными губами, нежно пушистыми бровями. Что-то в ней было перламутровое. Точно угадал.
– Узнаешь? – спросил Дружбан, вставая и принимая из ее рук поднос, – Соня, домашнее прозвище Верховодка, каковой является и по свойству характера, и по сходству с рыбками, из чешуи которых изготавливают перламутр. Точно я придумал?
– Пожалуй, – ответил Герман Васильевич, почтительно склоняясь к бледной руке хозяйки.
Эти двое любили и понимали друг друга. Взгляды, жесты, улыбки свидетельствовали о том, что не стальная дверь, терема и шелковистые переливы эпохи Александра или Николая прельстили Дружбана.
– Вы отобедаете с нами?
– Выяснится, я думаю, через час.
– Отобедает, отобедает. Мы потолкуем немного, смотаемся в департамент, заедем за тобой и поланчуем.
– Я сегодня не могу, к сожалению. Готовится экспозиция. Вы видели Филонова? Экспозиция ведь приехала от вас?
– Видел.
«Такие всегда работают в музеях или библиотеках».
– Жаль, что не сможешь, – Дружбан искренне огорчился, – ну значит, недельки через две повидаетесь, а я за тобой в пять пришлю машину.
– Спасибо, – скромно поблагодарила перламутровая.
Герман Васильевич напрягся: какие две недели, куда две недели, зачем две недели?
Она стояла перед ним в сером суконном платье с серыми бархатными обшлагами и кружевным воротничком.
«Скромное рабочее платьице рублей за пятьсот, а может, и за тысячу, а может, и за пять, Татьяна обмолвилась, что теперь купальник меньше чем за четыре-пять не купишь. Как же моя выкручивается?»
– Митя мне много рассказывал о вас, и мне хотелось бы, чтобы мы стали друзьями, – с милой прямотой сказала она и, озарив сумрачную комнату мгновенной вспышкой перламутрового света, удалилась.
– Поздравляю. Только какая же она Верховодка, из верховодок подделки изготавливают, а она жемчужница.
– И не думал, что такие бывают. Даже с этой сучкой у нее нормальные отношения. Она к нам детей отпускает.
«Сучкой» была припечатана бывшая жена.
– Ладно. Официальная часть закончена. Я тебя тоже поздравляю, здорово ты это дело раскрутил.
– Не очень. Главный ушел. Застрелился.
– Ну и черт с ним! Лишние хлопоты. Важно, что «чистое дело – марш». Помнишь, кто так говорил? А ну да, ты ведь у нас книгочей.
– Ты уверен, что «чистое дело – марш»?
– Честно?
– Прямо.
– Не совсем.
– И я не совсем.
– А ты почему?
– Я еще не знаю, почему ты не уверен.
– Кто начальник: ты или я?
– Ты. Вот ты говоришь «лишние хлопоты», а ведь он был гений.
– Поменьше бы таких гениев в наши рабочие клубы, говорили трудящиеся, расходясь. Истинный дьявол.
– Неистинный.
– Это почему же?
– Неистинность вещи, а он уже в данном случае вещь, означает несовпадение сущего со своей сущностью.
– Это что-то очень умное. Из кого?
– Из Хайдеггера.
– Слышали, но не проходили. Однако могу догадаться, что имеешь в виду. Ему бы да в другую страну бы… да папашу бы не по пятьдесят восьмой сгинувшего. Брось! Монету любят и по ту сторону океана, и по эту.
– А он не любил. Относился спокойно. Вернее, вкладывал в другую программу.
– Вот другая меня как раз и интересует. Но… поставим точки над… «ё». Тебе помогла эта девка?
– Мне помогло событие. А событие, по мнению того же Хайдеггера, – это co-бытие, то есть быть вместе.
– Дался тебе этот Хайдеггер! По-нашему, по-рабочему, быть вместе – значит трахаться.
– Угадал. Все началось с того, что я узнал некоторые словечки из тех, что говорят в темноте. И навели они меня на мысль об одном человечке. А человечек был у меня…
– Добровольцем.
– Не только. Более.
– Неформальные отношения. Не одобряю.
– Однако… Со-бытие – великая вещь, она расширяет кругозор.
– Человечек, вернее, бывший человечек о наркоте знал?
– Не уверен. Но одна из его баб поставляла исходное сырье. Здесь дело в другом: все ко всему имеет отношение.
– Глубокая мысль. Ладно, оставим это. Ты сказал, что Красавчик вкладывал деньги в другую программу. В какую знаешь?
– Нет.
– А о даме по имени Ирина Федоровна слышал?
– Одна из баб Красавчика и этого, слинявшего. Я не вникал.
– Она – не одна из баб. Там любвя в обоих случаях была. А дама загадочная: или полная идиотка, или…
– Две недели на нее?
– Умница.
– Здесь в Москве.
– Не гони кобылу. Она спала с разработчиками двух мощнейших программ. Одну ты ненароком вытащил вместе с наркотой.
– Новороссийская?
– Она. Другую… За другой съездишь в турпоездку в Америку, вместе с Ириной Федоровной. Связи. Как всегда, впрочем, связи решают все. С программой познакомишься в офисе. А побочно – халтура. Вдруг наркота всплывет, все возможно. Дамочка в высшей степени загадочная. На мой вкус, ни кожи, ни рожи, а мужики ценят. Даже этот твой эротоман причастился.
– За ним не заржавеет.
– То-то вы с ним спелись на репетициях в театральном институте.
– Все знаешь.
– Почти. Я за то Питер не люблю, что среди населения там много сумасшедших, а сумасшествие вещь заразная.
– А если она останется?
– А ты зачем?
– Ничего себе. Наручниками, что ли, ее приковать к себе?
– Не отказывайся. Поездка классная, ну и на подхвате кто-нибудь, как же без этого.
– Так серьезно?
– Так серьезно. Тут многое намешано. Она спала с Красавчиком. Красавчик был несметно богат. Деньги за наркотики перекачиваются в Америку, это мы знаем. На них через подставных лиц покупается недвижимость: заводы и тэдэ и тэпэ. Это мы тоже знаем. Она записалась в поездку еще при жизни Красавчика, имея на счету в Сбербанке две тысячи рублей. Живет впроголодь, сам понимаешь: на шестьсот не разгуляешься сейчас.
– На тысячу шестьсот тоже.
– Намек понял. И более того, хочу перетащить тебя в столицу.
– Не… я привык.
– «Пан Ленинград, я влюбился без памяти в ваши стальные глаза». Поехали к начальству.
– «Медный Петр добывает стране купорос», – подхватил дурным голосом Герман Васильевич.
– «Анна Каренина просит всех освободить перрон и не устраивать сцен», понял?
– «…Все равно поезда никуда не уходят из уездного города N…»
– Помнишь, какие шашлыки были на Грузинской?
– На ребрышках.
– Больше нэт, ничего нэт… Вот в этой квартире жил когда-то автор, которого читали все, а вот в этой Рогинский, а вот в этой академик Шмидт, спускаться пешком – лучшая профилактика артроза…
* * *
Полет напоминал трагедию Шекспира.
Вдруг напряженно взвывали двигатели, корпус начинал сотрясаться, проваливаясь в бездну, казалось – финал, но по законам жанра катастрофа отодвигалась, сюжет переходил на новый виток, и так повторялось многажды.
Но это было потом, над океаном. Адо Праги долетели спокойно и очень быстро, может быть, оттого, что после бессонной ночи Ирина уснула. Разбудила Наталья, которая сидела рядом.
– Ирина Федоровна, пристегните ремни. Посадка. Нас повезут в какой-то занюханный городок, где мы будем ночевать, а утром снова в путь. Наша задача – оторваться от быдла и съездить в Прагу. Организацию беру на себя.








