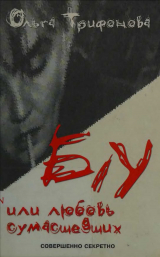
Текст книги "Б/У или любовь сумасшедших"
Автор книги: Ольга Трифонова
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Целую тебя.
Катя».
«Пальто зияет дырами» – значит, жена. Как ему на баб везло. Это письмецо будет контрольным. Если на родного сына не среагирует, – значит, считай, опыт не удался, факир был пьян. Удовольствуемся сексуальным спонтанным бредом. Интересно, как они его там в отделении тянут и для чего? О Господи! Опять эта образованная!
Уже октябрь и номер тридцать четыре.
Какая же безвкусица! Какая истероидальная экзальтация! Вот Веруньку бы послушать, но… неохота начинать. И ей тоже, оказывается, страшно. Вишь ты, какую аляндру, вспомнилось выраженьице Лени, запускает.
«Я боюсь начать. Ты понял это, правда?
Здесь другие слова, другой цвет сказанного, другая логика. Логика безумия.
Ты свел меня с ума своим письмом!
…Облечь это в слова, обозначить – значит признать существующим.
Все это вместе было сном, миражем, за чертой… Могу ли я не простить тебе твое ослепительное дерзновение? Могу ли я понять тебя вульгарно.
…В том, на что у меня не хватает дыхания?
Могу ли я обратиться к другим авторам, когда мне страшно подумать, что в мире есть что-нибудь, кроме тебя…
«Сумбурные и бессмысленные перечисления…» И это о письме, в котором ты расписываешься радугой небесной!..
Все шло по нарастающей от посвящения – к такому горькому следствию…
…Или не теми словами. Я их все забыла – слова. Ты научил меня новым…
Я хочу перечитать твое письмо – и не вижу строчек. У меня кружится голова и горят губы. Все вокруг меня – ты. Я почти боюсь увидеться с тобой.
Е.»
Следующее тем же почерком, от той же Е. Ирина пробежала его быстро. Высокопарный бред, какие-то убогие стишки. Сгодится как запасной вариант. Кажется, все. Забавный сюжетец. Казанова – девяносто один. Бедная, бедная Катя, кто теперь греет ей постель? Странно, почему о нем ничего неизвестно; ведь жена наверняка подала на розыск? А если не подала?.. А если она рада, что он исчез и кончились ее страдания. Но письмо-то от любящей женщины. Ну и что? Можно любить и желать смерти. И все же странно, очень странно. Леня бы все понял и все объяснил. Но Лени нет.
Кажется, месяца через три после его исчезновения она нашла в почтовом ящике странную кассету. Конечно, она прослушала ее тотчас: любимая Ленина японская музыка, низкий голос, странные инструменты, паузы. Она прослушала ее много, много раз, надеясь услышать какое-то слово-пароль, слово-привет, ведь не мог же он исчезнуть просто так, оставив ее одну, совсем одну в целом мире. Не мог. В этом была уверена. Но ни слова, ни звука долгожданно-неожиданного не было.
Когда становилось совсем страшно, запускала только эту кассету. И странно, музыка утишала волнение, сумятицу мыслей, уходили раздражение и усталость. В такие вечера она работала допоздна, утром просыпалась бодрая, и казалось, жизнь только начинается, все впереди, и сны приходили странные. Она летела низко над плоскими полями. Над их зеленью дрожали радуги дождевальных установок, темнолицые люди выходили из белых автобусов, один смотрел на нее, прикрыв ладонью глаза от солнца, а она, смеясь, влетала в облако мельчайших, светящихся брызг. Был еще один, повторяющийся. Голубой дом с кружевными занавесками на окнах, на крыльцо выходит седой мужчина со старинной керосиновой лампой в руке. Золотистый спаниель скатывается с крыльца и бежит к ней, его уши относит назад ветер.
«Какая же маета этот самый короткий день года! И, как назло, совпал с воскресеньем. Квартира убрана, приготовлен обед на неделю. Жуть! Какая-то жратва, а не еда. Котлеты из подозрительного фарша, купленного по большому блату в кулинарии на Горького. Кассирша – циклотемичка, успешно пролеченная Ниной, – вот на нее теперь единственная надежда. Суп из карпа, воняющего дустом. Тошниловка. Ничего, погоди. Эта тошниловка покажется тебе пищей богов после первого января, когда цены поднимутся в пять, в десять раз. Уже прикинула, как будет жить, и выходило – никак. Ну увеличат зарплату вдвое, значит, шестьсот в месяц. А килограмм мяса на рынке – восемьдесят, в магазинах его нет, сахара – тоже, масла – тоже, всего другого – тоже. Карпа купила по пятнадцать, значит, будет по семьдесят пять. Зарплаты хватит на пять килограммов карпа или на двадцать литров молока. Все ясно, можно не пересчитывать дальше на картошку, муку, масло. А ведь есть еще свет, газ, квартплата. Катастрофа! Какое счастье, что нет ребенка. Как его кормить, одевать?
В пересчете на доллары она будет получать шесть долларов в месяц.
Включила телевизор. Ну да, умирает ее время, ее место – Союз Советских Социалистических Республик. Это же хорошо, что умирает монстр. Он сделал твое детство голодным и бесправным, твою юность – нищей и безрадостной, твои зрелые годы бесплодными. Но тогда почему такая тоска? Такая удушающая, такая глубокая тоска?
Как отвратительно торжество и плебейское невеликодушие победителей! И дело не в том, что через десять дней картошка и сахар станут лакомством. Не лги! В этом, в этом! Снова безропотные, замордованные жизнью оказались в дураках. Правда, теперь им обещают светлое будущее не через десять лет, а через два года. И опять верят, опять надеются, что вот как-нибудь два года… Как?»
Ирина оглядела комнату.
Что здесь можно продать?
Вспомнила строчки стихотворения: «Кого предать и что продать?» Вот именно. Преданы будут беспомощные, продано – необходимо, а у кого-то станет много больше не необходимого. Проглотим и это. Как проглатывают эти дуры, письма которых лежат на тумбе тахты. Завтра надо вернуть, и посему прекрати свои общественно-политические стенания и примись за дело. Это все надо перепечатать. Неподходящее занятие для этого «веселенького» вечера. Но деваться некуда.
Ирина взяла стопку потертых конвертов, потасовала, как карты. Карты судьбы – кажется, были такие в Средние века. Как же эти будут жить? Ведь таких кобелей надо ублажать, делать им подарки, ставить на стол водку. Не приняв пол-литра, он в постель не пойдет. Написать бы им всем одно и то же, под копирку.
Милые вы мои, несчастные!
Да хранит вас Господь в вашем мужественном одиночестве! Только не гнитесь вы так, – откройте глаза. Смотрите на жизнь, не прищуриваясь, ибо образ размывается и переливается радугой на ваших ресницах. Смотритесь лучше в зеркала. Они расскажут вам, на что потрачена жизнь. Неужто мы приговорены к предметам общего пользования? Ведь везде, во всем… С детства – и на всю жизнь. Есть же другое, тоже общее: небо, деревья, книги, дети… Это не залапано, это остается чистым. Разве вам мало того, что мы держимся за общие поручни в общественном транспорте, едим из общих тарелок в общепите, спим на общих постелях в гостиницах, поездах и домах отдыха? Зачем же делать вид, что мужики не общие, и принимать их такими, какие они есть? Ведь так и губится душа нации. Развращая наших мужчин этой притворной слепотой, мы губим их. Очнитесь – вы опора и надежда растоптанной, замордованной, бывшей общности нашей. Спасите всех, спасая себя.
Зачем ему нужны были эти письма? Вопрос, на который никогда не получить ответа. Зачем нужны эти женщины? Ведь для чего-то? Наталья скажет: одна – для интеллектуальных бесед, другая – медицинское обслуживание, третья – уют, уход, четвертая…
Нет. Это страшнее. Это как в лагерной байке о «свинье», которую берут с собой при побеге, чтобы потом съесть ее (его) в тайге. А тут почти стадо с собой на прокорм на всю дорогу жизни. Потому что адресат бежал от себя, а это надолго, навсегда.
Ирина вылезла из-под пледа, выключила телевизор, где лесбиянки доверительно делились со зрителями своими проблемами (почему бы не пригласить министра финансов и бабу с двумя детьми, чтобы он, министр, рассказал ей, как выкручиваться грядущих два тяжелых года), открыла футляр машинки, заправила листок, и вдруг нахлынуло то, чего она страшилась более всего: воспоминания о Баку. Та, истерзанная, разодранная, как кошка, с заткнутыми в рот кусками ее же мышечной ткани, изнасилованная тридцатью. Вот вам, когда все дозволено и нет ничего, кроме темной комнаты с пауками. Что-нибудь помягче, чтоб голова не поплыла. Валиум, андаксин, гран-даксин – выбор хоть куда, должен же быть профит от профессии, у всех же есть. У одной – фарш, у другой – краденые махровые полотенца, если в прачечной, у третьей… неважно, валиум подойдет…
Итак.
«Мой дорогой! Вчера вечером получила твое письмо. Спасибо большое – думала, что не напишешь…»
О господи! Одно и то же!
«… я все же боюсь, что у тебя нет денег. Посылаю немножко. Если дойдет, пришлю в следующем письме еще. Целую. К тебе хочу!!! Твоя Т.»
Неохота этой белибердой заниматься, но если лечь и укрыться пледом, то вернется Баку, и тогда никакой валиум не поможет…
* * *
«Он настаивал на этой поездке, говорил, что должен отдохнуть, отвлечься, поэтому и отправляется в неведомое, в никуда. «Чтоб не могла приехать», – подумала Катя. «Скорбное бесчувствие», – было написано на афише кинотеатра. Увидев, отметила: «Это обо мне».
И вот теперь снова – стоит, ошеломленная такой простой догадкой.
«Ну, конечно, месяц свободы. Не надо торопиться домой: лгать, вечерами сидеть с отрешенным лицом перед телевизором, думая о чем-то своем».
С ним что-то происходило. С ним что-то происходило всегда, но сейчас он, кажется, не только закрутился, запутался, он во что-то влип. Да-да, это самое точное слово: он влип. Только у влипнувшего человека могут быть такие повернутые внутрь себя глаза и эта забывчивость. Без конца теряются ключи, какие-то нужные бумаги, теперь потерял права. А может быть, наврал? Для чего? Неважно. Катя давно уже устала решать кроссворды их жизни. Да существует ли их жизнь?
На кафедре работает девочка-лаборантка. Года два назад с ней что-то случилось. Она стала чахнуть. Похудела, позеленела лицом. Потом исчезла, и все поняли, что случилось самое худшее. Катя встретила эту лаборантку в коридоре клиники на Петроградской. Вместе молча ждали обследования. Жутковатое ожидание. Катя долго избегала этой процедуры, но когда боли стали невыносимыми – решилась.
Совпало с очередным обвалом дома. Он придрался к чему-то, к какой-то чепухе (странно, она никогда не может вспомнить причину ссор) и уехал на майские к друзьям. Что за друзья? Куда? Катя не знала. Но тогда решила: хватит, все. Унесла из шкафа в его кабинете свои вещи. Он догадливый – без слов поймет, что это значит.
Да, лаборантка. Оказалось, что она носила мертвого младенца. Младенец разлагался и отравлял мать. Вот так и их жизнь – мертвый младенец, который отравляет всех.
Обследование ничего плохого не показало, и участковая врачиха, такая же, как и она, замордованная лошадь, сказала, что, судя по всему, это боли в солнечном сплетении. «Солнечное сплетение, – сказала она, – это наиболее мощное скопление симпатических нервных узлов брюшной полости. Через него проходят ветви блуждающего нерва, дающего вот эти загадочные боли то там, то сям. Надо успокоиться и смотреть на жизнь проще».
Последний совет царапнул, в нем было понимание. Понимание ее ситуации, тоскливой и безнадежной, как блуждание в скоплении симпатических нервов. Выяснилось, что свою ситуацию врачиха решила просто: развелась с «кровососом» и занялась йогой.
Особенно сильными боли бывали по ночам в позвоночнике. Муж приволок откуда-то дверь, и теперь она спала на жестком. Одна. Те времена, когда они в нетерпении провожали вместе сына в школу, давно прошли. Сын всегда чувствовал их возбуждение, перехватывал взглядом его короткие прикосновения к ее груди, шутливые шлепки. Расстегивая халат, она говорила: «Ну зачем ты, солнышко, при нем? Ведь он все замечает».
– Скорей, скорей, – бормотал он, задирая халат.
И наступало забытье, потом тишина, со звоном разбитого стекла – распадалось от его крика. Тогда она часто опаздывала на работу, и ей казалось, что соседи по лестничной площадке поглядывают на нее при встречах с удивленным любопытством. Ведь крики доносились через тонкую стену каждое утро.
Те времена закончились мерзко. Она почувствовала что-то неладное. Пришлось таскать с собой вату. Врач, осмотрев ее, выписал лекарство, назначил ежедневные промывания в поликлинике. Со свойственной ей идиотски-наивной простотой в ситуациях, пугающих и неожиданных, она спросила, тут же пожалев о вопросе:
– Отчего это?
– Не знаю, вам виднее, – ответил доктор из-за ширмы. Он мыл руки.
Потом, сообразив, что вопрос этот могла задать только уж очень неушлая, посмотрел поверх ширмы:
– Спросите у мужа.
– Да! – От смущения прихватила молнией новые колготки, надетые специально для визита; тотчас от дырки поползла стрелка. Восемь рублей – двадцатая часть ее зарплаты. Только вечером по дороге домой поняла, что имел в виду врач.
Марина жила неподалеку. Прямо с порога, в прихожей, торопливо выложила ей все. Многое было непонятно: позорная ли это болезнь? Не вызовут ли ее в диспансер? Не может ли заразиться Кома? Почему такое короткое лечение – всего две таблетки, и зачем тогда неделю ходить в поликлинику.
Марина смотрела странно, каким-то чужим взглядом.
– Ты действительно ничего не понимаешь или придуриваешься? – спросила вдруг жестко.
Она вдруг увидела, что Марина, при всей своей всеми признанной красоте, похожа на попугая-ара. Уложенные высоко спереди, с густым загривком сзади волосы, толстый, чуть изогнутый нос, густо накрашенные глаза и этот холодный неподвижный взгляд – словом, большой, разноцветный, с выпуклой грудью попугай.
Марина расспросила толково, со знанием дела: давно ли это началось, брал ли доктор мазок? От одного вопроса краска бросилась в лицо, и она только кивнула. Следующий был еще похлеще. «Неужели у всех это одинаково?» – подумала с изумлением и снова кивнула.
О Марининой жизни знала и много и мало. Всех мужей, которые изгонялись легко и легко заменялись новыми, – знала, а вот тех, кто был в промежутке, – нет. Почему-то эти были тайной. Но и не интересовалась особенно. Всегда о своем, о своей боли, о своих подозрениях, унижениях. Вот теперь, кажется, о последнем, непоправимом.
– Гони ты его на…! – отчетливо и спокойно сказала Марина. То, что говорила всегда. То, что говорила всегда и именно с этим матерком, но с каким-то новым злобным оттенком. Злоба была свежей и объяснялась, наверное, тем, что, по сути, были родственницами. Дружили, кажется, лет с пяти.
Пили чай, Марина выспрашивала подробности, что было очень по-родственному.
Полусестра-полуподруга утешила: это все ерунда собачья, ни в какой диспансер вызывать не будут, заражение Комы исключено, это передается только половым путем, так что учти, если он вздумает вешать тебе лапшу на уши насчет бассейна, финской бани и прочего… Тут и к гадалке ходить не надо, он тебя наградил. Потом спросила невпопад, не знает ли она женщину по имени Вера, красотку, зубного техника.
– Нет. А что? Почему ты вдруг о ней спросила?
– Да не почему, – ответила с непонятным раздражением, – просто так. Вдруг знаешь. А врачиху детскую Таисию? Тоже нет? Никого-то ты не знаешь.
Домой плелась через парк академии. Вот и знакомый дом. Господи, а ведь двадцать пять лет прошло, взглянула на окно. Как всегда, оно было темным. За этим окном когда-то была комната и тахта, укрытая текинским ковром. Ковер спускался по стене от самого потолка. Немногое, что осталось от его отца. Да еще серебряный караимский кувшин и странный портрет, составленный из треугольников и косых плоскостей. Горбоносый лысый мужчина. Такой сейчас, наверное, Данила. Как странно, живя в одном городе, они ни разу за двадцать пять лет не встретились. Она села на лавку.
Когда-то здесь была аптека. Старый дом конца прошлого столетия. Какая же она старая, если помнит эту аптеку и как ее ломали. Били круглым чугунным шаром, пыль, грохот. Вспомнила, когда смотрела «Репетицию оркестра». Смотрели вот здесь, рядом, в кинотеатре. Тогда она еще рассказывала неосторожно о себе, о своем прошлом, и про аптеку рассказала. Муж спросил:
– Это ты помнишь потому, что бегала к своему любовнику вон в тот дом?
Много раз он напоминал ей про аптеку, напоминал, как напоминал многое из того, что она рассказывала. Потом и этого не стало. Ему было уже просто неинтересно все, что имело к ней отношение. Утешало одно: ему вообще неинтересно то, что не имеет отношения к нему, и пока была ревность, чувство, принадлежащее ему, он язвил, припоминал, а когда ревность угасла, угас и последний интерес.
Почему она не осталась с Данилой? Потому что не умел хитрить, не умел ошарашивать напором, страстью, письмами с безумными эскападами? Не было червоточины, оказавшейся потом такой привлекательной в другом?
Все дело в червоточине. Рыбу ловят на тухлое мясо или это раков ловят на тухлое мясо?
У Данилы была соседка из «бывших», да и сам он был из «бывших». Мать курила папиросы, и когда он возвращался из школы и сообщал, что его выгнали со второго урока, говорила: «Да ну тебя! Разбудил, поспать не дал. Выгнали? Ну и прекрасно, пойдем в кино». Отец сгинул в тридцать седьмом, остались материны сестры с мужьями. Мужья тоже из «бывших». Жили дружно, весело, не замечали скудности, на все лето отправлялись в Никитский сад, где размещались в пристройках и дощатых сарайчиках во дворе дома для научных сотрудников сада. Вечерами собирались в комнате то ли родственницы, то ли старой подруги – костлявой художницы, замечательно рисующей фрукты и растения сада.
Дальше пошли воспоминания о художнице и о том, как юный Лазарь Берман вечерами играл в нише белокаменной эстрады сада. Впадина ниши была окрашена в удивительный синий цвет, и о том, как делали плов с мидиями, и как ссорились, и как мирились на выжженной солнцем траве и у нее был настоящий солнечный удар. И как однажды ночью заплакала от ужаса перед чем-то стыдным и невозможным, чего он хотел от нее, а Данила утешал и говорил что-то, как никто никогда не утешал и не говорил потом. Она засыпала воспоминаниями пустоту, которая никак не засыпалась. Бездонная яма. Она образовалась после встречи с Маришей, потому что Марина, как всегда, ее выпотрошила. Вот главное ощущение – выпотрошенности. Из нее сумели вытянуть все, заглянули во все уголки, открыли все дверцы, перелистали все книги.
– Никуда он не уехал, – раздраженно отмахнулась Марина, – отсиживается у какой-нибудь дуры. Пережидает.
– Что пережидает?
– Значит, есть что. Слушай, ну почему ты такая тупая, почему ты видишь ушами, а не глазами?
– Ты о чем?
– Да о том, о чем знают даже соседи.
– Может, ты не будешь говорить загадками?
– Какие загадки! Выйди во двор своего дома, на лестничную площадку хотя бы и посмотри внимательно: кто? что? где? когда? с кем? почему?
– Мне неинтересно.
– Тогда живи спокойно. Читай книжки, воспитывай сына, пиши нежные письма мужу. Он оставил адрес?
– Да.
– Ну вот и пиши. Ты ведь любишь его?
– Не знаю. Я так измучилась, что иногда…
– Значит, любишь. А раз так – прими условия игры: муж в командировке, пишет редко, но верная жена ждет. «Письма твои получая, слышу я голос родной…»
– Зачем ты надо мной издеваешься?
– Затем, что для тебя так лучше.
Катя встала со скамьи. Красный свет зажегся перед ней на переходе, и она увидела знакомую машину и мужа в ней, увидела его каменное лицо с плотно сжатыми в ниточку губами.
* * *
Когда позвонил Почасовик и обычной своей веселой скороговоркой затеял рассказ о последнем собрании в своей конторе, Герман Васильевич, механически, но бережно перекладывая бумажки на столе, подумал: «Влип».
Звонок не имел смысла, вернее, он имел наружный вид звонка дружеского, то есть упаковывающего истинную суть их отношений в нечто обыденное. Упаковкой была грубоватая мужская дружба, с походами в сауну, с маленькими игривыми подарками. Герман Васильевич подумал, что с презервативами, привезенными из Рима в качестве очередного игривого подарочка, придется повременить. Сначала узнать, во что «влип».
Было правило: слушать терпеливо, не прерывая, что бы ни мололи. Мололи обычно чушь, вранье, сдобренное для правдоподобия деталями. Многочисленные «друзья» не подозревали, что главным предметом интереса Германа Васильевича была не информация, которую они поставляли вполне добровольно, даже удивительно добровольно, а сам «друг», его тайные прегрешения и пороки. Вот до них-то, до этих, закопанных глубоко-глубоко тайничков, и следовало добраться. А пока не доберешься – одна тягомотина, выслушивание копеечной чепухи. А вот когда сам раскалывается, о помощи просит – это и есть то самое.
Кажется, наступил момент Почасовика. Герман Васильевич не испытал от своего открытия ни радости, ни огорчения. «Выпадение кристалла» называл про себя это явление. Именно «выпадение кристалла», а не «выпадение в осадок». В осадок в результате выпадения кристалла выпадали другие. Вот такая петрушка получалась.
Но спокойное равнодушие, что выказал он в исторический для «друга» момент, он испытывал не всегда. Были времена, когда после института начал работать в комитете, времена величайшего изумления человечеством. Оно оказалось сборищем доносчиков. Поначалу искал объяснение в мудрости начальства: умеет увидеть, угадать, разгадать. Но когда вышел на контакты сам – понял: не в начальстве дело, просто ткни пальцем в любого прохожего, и он окажется тем самым. И радостно будет приносить в клюве все, что за один раз сумеет ухватить и удержать.
Изумление было веселым. Герман Васильевич вообще по натуре был веселым человеком. Убеждение, что самое плохое, что могло с ним произойти, – уже произошло в детстве, сделало жизнь, включая неведомое будущее, надежной, веселой и прочной.
Детство, конечно, было не подарком. Пока мать не запила, жизнь была сносной. Он даже любил приходить по вечерам в парикмахерскую, где она работала уборщицей, и помогать ей. Сметал щеткой в кучу волосы. Это была его работа, у матери от волос начиналась аллергия.
Волосы нужно было запихнуть в мешок, и мешок забирали. Ему всегда казалось, что забирают в тайные лаборатории для тайных опытов. Много лет спустя он узнал, что по волосам, как температуру по термометру, можно определить продолжительность и степень отравления ядом. Но, орудуя длинной щеткой, он еще не знал, что будет «для души» читать Торвальда и учебник по криминалистике, знал же совсем другое. Например: если не хочешь, чтобы на тебя смотрели с жалостью и состраданием, цена которым копейка, «какой хороший мальчик, помогает маме…». Если не хочешь слышать шепотка на ухо клиентке, он знал, о чем шепоток, хорошо знал, отправляясь на ночь глядя ночевать к бабке, так вот, если не хочешь – есть простой способ. Поднять голову и посмотреть прямо в глаза. Без вызова, без злобы – спокойно. Их этот взгляд приводил в смятение, что-то лепетали, пожимали плечами.
Но на мать такой взгляд не действовал.
– Чего вылупился, как василиск? Честное слово, последний раз. Вот увидишь.
Он увидел. Особенно полюбилась ей жидкость от пота «Ангара», притаскивала ее коробками. В парикмахерской крала шампуни, краски, выменивала на эту «Ангару». Сначала ездил в лечебницу куда-то в Кузьминки, возил поесть, – то, что собирали парикмахерши, маникюрши и землисто-серая педикюрша, сама хорошая поддавалыцица.
Странно, мать оставалась красивой почти до последнего дня. Страшно отекли ноги, торчал, как у беременной, живот, а лицо гладкое и цвет глаз не изменился. Она была замечательной матерью. Он сравнивал с другими: вечно злобными, ворчащими, талдычащим одно и то же. Ей ничего было не жаль: ни испорченной мебели, ни сломанного велосипеда.
Герман Васильевич без труда определял в своем поколении тех, у кого сидели и у кого не сидели. Но не потому, что вторые были качеством получше, как бы не пуганые. Увы! И те, и другие охотно шли на контакт, правда, ради справедливости следовало бы отметить, что те, у кого не сидели, все-таки «несколько фордыбачились» для начала. Но недолго, совсем недолго.
Взять хотя бы Почасовика. Странный характер. В нем соединились две линии. Как сказала бы жена-генетик, «чистые линии». Когда познакомился с его «историей», подумал вот о чем: на какую рыбу были рассчитаны ячейки бредня, который забросили и вширь и вдоль огромной страны. Выходило, что на всякую. И крупная белорыбица попадала, и плотва. И все же, все же… Одна закономерность лежала на «историях». Уцелели те, кому было что терять. То ли мудрыми были ловцы людей, то ли закон какой-то всемирный сработал. И те, с дворцами, с поместьями, с библиотеками и владеющие лишь тем, что можно унести на себе, вытаскивались бреднем из бушующего моря жизни и перемещались (иногда в буквальном смысле – грузили, как тюльку тралом на борт корабля) в спокойствие зоны.
Невредимыми оставались потерявшие с революцией то, что и роскошью назвать нельзя, но и унести с собой невозможно. Например, лавчонку дрянную, домик в предместье, мастерскую с ничтожным доходом. В генах их детей тлела память о сладости тихой безбедной жизни, и пока память эта тлела, с ними можно было сделать все.
Вот взять хотя бы Почасовика. Такие, как он, усвоили в детстве, что замминистра ниже министра, а главный инженер, будь он хоть семи пядей во лбу, – ниже начальника стройки. Слово «начальник» было им так же привычно, как зэкам, но имело смысл не угрожающий, а мечтательный. Мечта о приобщении к начальству все более высокого ранга грела всю жизнь и, как всякая мечта, двигала ввысь и вперед. Исключение из всех других неначальников составляли люди искусства, но не все, а отмеченные либо высокими званиями, либо народной популярностью. В знакомстве с ними, в общении удовлетворялся какой-то зигзаг, каприз, что-то вроде искаженного хотения героя Достоевского. То есть хотелось для себя нарочно, сознательно чего-то вредного, глупого. Каприз иногда оказывался сильнее выгоды. Может, потому и не пошел Почасовик по стопам деда, заслуженного деятеля науки, где все тернии на тропе были бы убраны заботливыми садовниками, а решился на поступок, отчаянный по тем временам, – поступил на филфак. Будущее было темно и ничтожно, но он жил настоящим, приняв с младых ногтей за правило: не отвлекаться на размышления о грядущих трудностях. Он доверял жизни и своей натуре, точно угадывающей, чувствующей, когда необходимо прибавить обороты, а когда и резко изменить курс. Итак – он доверял жизни, а жизнь доверяла ему. Кроме радостей классического образования, филфак предоставлял и еще одну, не менее соблазнительную – Почасовик был создан для любовных утех, жаждал таковых, и где, как не здесь, судьба с такой щедростью могла соответствовать его отнюдь не робким и даже отчасти неутолимым притязаниям.
Герман Васильевич внутренне ахнул, услышав как-то вовсе даже не специальный рассказ бывшего однокашника Почасовика. Ахнул – и вспомнил свои студенческие грешки, своих подруг, имена которых сохранила память не в силу профессиональной тренированности, а просто каждая – была событием, с ней были связаны ночные электрички, поиски пустой хаты, выпрашивание ключей, слезы, клятвы, вообще – кустарщина. А здесь же был масштаб, полет, все гудело, крутилось, взлетало фейерверком, рассыпалось искрами, бесперебойно работали окошечки «до востребования», летали самолеты Аэрофлота в нужном направлении, плыли пароходы Черноморского пароходства по синему-синему морю, женщины провожали с цветами, и с цветами другие ждали в месте назначения. Записки, полные страсти и заставляющих краснеть подробностей, бросались в почтовый ящик. Крутилась, звенела, сверкала, смеялась, рыдала карусель под названием «любовь». Размеры этой карусели, ее истинную музыку Герман Васильевич узнал, когда тот, кто запускал эту чертовщину, влип. Но и раньше некое представление имелось. Некое, но не истинное, потому что остановка карусели все же оказалась неожиданной, а загадочность исчезновения героя не соответствовала ни ситуации, ни способностям его. Надо сказать, что подруг Почасовик выбирать умел, умел и расставаться. Этого у него не отнимешь.
Итак, Почасовик влип. Статья ему грозила весьма неприятная, но несовершеннолетняя шалава ограничивалась пока слезами. Герман Васильевич разглядывал с улыбкой расхлябанно развалившегося в кресле Почасовика и думал: «Ты делаешь вид, что вся эта история – ерунда. Не ерунда. И не потому, что меня беспокоит судьба какой-то пэтэушницы. Судьба ее ясна, как устройство апельсина. Будет шляться, зарабатывая на колготки, превратится в вульгарную, расхристанную про…дь, а в конце концов ее подберет какой-нибудь полуспившийся работяга. И чем красивее, чем недоступнее она была для него когда-то, тем сильнее будет мордовать ее, став мужем. Судьба как судьба, а вот твоя, мой милый, сейчас поворачивается круто. Пора тебе заняться делом. Настоящим, мужским. И дело это подберу тебе я. А пока – отдыхай».
Прощаясь, Герман Васильевич посоветовал исчезнуть из города «на некоторое время, ну, скажем, на месяц», пока он постарается уладить неприятную историю, и, сославшись на занятость ремонтом отопительной системы на своей скромной фазенде, отказался от приглашения Почасовика разделять с ним иногда уединение.
Клиент ушел в сложном состоянии духа: успокоенности и взвинченности одновременно. Что и требовалось.
Герман Васильевич совершенно не собирался ввязываться в эту вонючую историю. Просто прикинул по-житейски: если бывшая девица поднимет переполох – его это, естественно, не колышет. Если нет – Почасовик, конечно же, отнесет это обстоятельство всемогуществу своего друга и покровителя.
Герман Васильевич всегда начинал утро с «приятного». Приятным была тайная коллекция рукописей – исповеди подследственных. Тайная, потому что имела прямое отношение к его большой славе в маленьком кругу коллег. Никто не знал, что умению «колоть» он был обязан одной странной идейке. А идейка эта имела отношение к ничем не изживаемым порывам запечатлеть жизнь и судьбы людей на бумаге.
Тайной этой страстью-пороком объяснялась отчасти и дружба с Почасовиком. Почасовик тоже пописывал. Был и другой порок, соединяющий их, но игры с девочками для Германа Васильевича все же не были омутом забвения, как для Почасовика. Примиряли его с человечеством эти, исписанные в камерах, «крытки»-листочки. Их авторы, обреченные на долгие сроки, а иногда и на вышку, с распаленной искренностью вспоминали свою жизнь. Из этих исповедей и делал Герман Васильевич рассказы и повести. В отличие от Почасовика, тоже уважающего документ, Германом Васильевичем двигали не самолюбие и не тщеславие, а бескорыстное желание запечатлеть навсегда отлетевшую жизнь.
Резкий звонок телефона – день начался.
– Слушай, умница. Нужна срочная консультация, – раздался в трубке голос начальника смежного подразделения. – Премного одолжишь…








