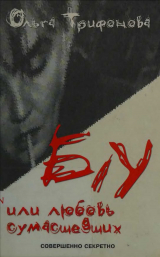
Текст книги "Б/У или любовь сумасшедших"
Автор книги: Ольга Трифонова
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
– Слушай, не перебивай и думай.
– Слушаю.
– Ты знаешь, что я занимаюсь изучением полей биоплазмы, то есть крайне слабых электрических полей, окружающих человека, животных, растения.
– Впервые слышу.
– Неважно. Важно другое. Американская разведка занимается изучением экстрасенсорных восприятий, а проще говоря, чтением и передачей мыслей на расстоянии.
– По-моему, бред, реникса.
О господи, сколько таких, слышащих голоса, приказывающие им делать ужасные вещи, мучающихся от излучений, посылаемых на них американскими передатчиками, она перевидала в клинике. С какой убедительной шизофренической достоверностью приводили они доказательства интереса к ним ЦРУ, и теперь этот уникальный светлый ум поражен тем же страшным недугом.
Она вспомнила замученного человека, мужа безнадежной пациентки, и как он старался найти логику в ее безумии, и как она, Ирина, убеждала его снова и снова, что безумие потому и есть безумие, что логики в нем нет. Похоже, теперь настала ее очередь.
Она пропустила какие-то слова Лени.
– …Человек делает то, что от него хотят. Психопрограммирование, то есть тайное воздействие на сознание людей, главным образом на эмоциональные и психофизиологические подсознательные факторы.
– Зачем?
– Чтобы сформулировать определенную систему установок. Кодирование. То есть иметь возможность подсказывать людям их поведение.
– Помнится, где-то промелькнуло, что американцы подозревали нас после войны во Вьетнаме, что мы нечто подобное делали с военнопленными. Неужели это возможно?
– Еще как! Успокоить, сдержать, сделать неподвижным, вызвать беспокойство, шок, вывести из себя, ошеломить, привести в уныние, временно ослепить, оглушить или просто заставить потерять голову от страха… всякого.
Он выглядел ужасно. Только сейчас увидела густую седину, обметанные герпесом губы. Синие глаза будто выцвели, в лице проступил костяк черепа.
– Ты сказал «всякого»? И тебя, и меня?
– Нет. Тебя, меня сейчас невозможно, потому что сначала надо стереть существующий стереотип человека и запрограммировать новый. Первое, что необходимо стереть, – память. Это главное. Помнишь, мы с тобой читали замечательный роман. Там все время автор говорил, как важна память для личности. Герой – историк.
– «Другая жизнь»?
– Да. Память – одна из основных составляющих личности. Обрати внимание: всякий антигуманный режим прежде всего стремится уничтожить память нации о прошлом. О, они это понимают своим собачьим нутром! Человек без памяти, без представления о своем времени и месте – робот, зомби. Я перечитал «Другую жизнь», и мне стало жутко, откуда он мог знать?
– Что знать?
Леня не отвечал, смотрел пустыми глазами на зеленый луг, где в полном соответствии с кадром великого фильма паслась белая лошадь.
– Что знать? – повторила она.
– Ах, да. Вот что. Цитирую: они хотят докопаться до всего и обнаружить структуру, найти средства связи, передающие ненависть, страх. И любовь. А если средства будут найдены – тогда управлять? Они – это я. Понимаешь. Я заигрался. Я слишком люблю науку и всегда считал, что этики в науке нет, как и в любви. Я полюбил тебя и нашел тысячи оправданий этой любви, своему обману, лжи, и так продолжалось пять лет. Но здесь мне не вывернуться… если… только, но об этом потом…
– Я помогу тебе.
– Не торопись. Я же сказал: слушай и думай, а я буду рассказывать тебе сказку про Америку… Там есть такая программа: «МК-ультра» – ультрамозговой контроль. При настрое станции на любого определенного человека этот человек становится управляемым роботом. Причем самое интересное в том, что объект считает поданную мыслепосылку своей. Микроволновое излучение. На станции в бокс к оператору сажают идиота. Задача: задавить мышление человека, находящегося под воздействием биополя, тупым идиотизмом, лишить человека возможности мыслить и благодаря этому управлять всеми его действиями. Операторы по большей части – наркоманы. Я знаю одного – он гений или почти гений, но колется каждые три часа. Обреченный человек.
– Значит, в Америке?
– Не перебивай. Это третье условие. В Америке, – он подчеркнул «в Америке», – есть еще одна программа – «Эдванс рисёрч проджект Эйдженси» – Треугольник Раллей. Самая мощная наука и медицина в мире. Контроль над интеллектом. Можно изменить мировоззрение. Можно стереть личность и перепрограммировать ее. Работы ведутся с 1973 года.
– Ну и пускай себе. Идем, ты озяб.
– Ага. Уже начинаешь бояться. Это хорошо. Это важно. Это говорит о том, что твоя умненькая головка вспомнила про людей, называемых экстрасенсами. Угадал?
– Угадал. Но я не боюсь.
– Погоди.
– Мне нечего бояться. Я не делала ничего такого, что нужно стереть, как ты говоришь.
– Тепло.
– Что тепло, ты уже посинел.
– Не-ет… Я не хочу синеть. Я хочу вырваться. Я не дамся.
– Тебе надо отдохнуть. Давай уедем куда-нибудь? Хочешь – в Прибалтику? У Вии есть хутор, там озеро, будем топить печь, читать книги, я буду чистить рыбу…
Через несколько лет она оказалась на этом хуторе с Кольчецом, и это были самые гнусные дни в ее жизни. А теперь молола чепуховину и судорожно прикидывала: «С кем посоветоваться? Кому показать? Ведь он так знаменит, что анонимность исключена… Есть тихая, незаметная Дина, великолепный специалист, и она не подведет, не выдаст».
– Давай пригласим сегодня мою очень близкую подругу, я сделаю пиццу, выпьем как следует, лучшая релаксация.
– Подруга – психиатр? Из твоего ведомства?
– Я боюсь за тебя.
– Правильно боишься, потому что есть еще вот такое действенное средство – виброгенератор ультразвуковых колебаний. Хорош для разгона массовых демонстраций, или – мощный импульс поляризованного света, радиоволны, инфразвук, СВЧ, лазерные лучи, компьютерные программы типа «ауток-зет» и «камак». Инфракрасные лучи – для больших масс людей. Испуг, дрожь, обморок и даже эпилепсия. О нейролептиках умолчу, это твоя стихия. Один ЛСД чего стоит. Прапамять, темное звериное…
– Хватит!
– Да, я тоже так думаю. Но вот что важно: понимаешь ли ты, что мы во власти зомби. Замкнутый круг: нами правят зомби, которые хотят продуцировать других зомби… Вглядись в экран телевизора, вслушайся, оцени походки, жесты, модуляции голоса, разве…
– Не надо, пожалуйста, я не хочу. Я… боюсь.
– За кого?
– За тебя и за себя.
– А за кого больше?
– По-разному.
– Решила, что у меня поехала крыша?
– В это невозможно поверить.
– А ты не в «это» поверь, а мне поверь.
Его резкость, агрессивность, эти неожиданные перепады настроения подтверждали диагноз. Была нужна Дина, во что бы то ни стало показать Дине.
– Ну что, поехали? – спросила спокойно.
– И это все? Все, что ты можешь…
– Ты возбужден, устал.
Сзади что-то ударилось в стену, словно камешек бросили. Ирина испуганно оглянулась.
– Идем отсюда, – резко сказал он. – Действительно, холодно и слишком много народа.
Вокруг никого не было. Ирина с ужасом подумала: «Это конец. Конец его, конец нашей любви. Конец моей последней надежды на счастье».
По дороге в Москву она с тупой настойчивостью уговаривала его позвать Дину. Несчастная идиотка. Она ничего не понимала, как не понимала долго потом о Кольчеце, что живет с психически больным человеком, параноиком. Жалкая дилетантка, трусливая улитка.
Он решительно отказался от участия Дины в ужине. Залез в горячую ванну. Намыливая мочалкой его плечи, грудь, она обнаружила, что крапивницы как не бывало.
– Вот что значит посещать святые места, – сказала она весело, – твой недуг как рукой сняло!
– Не надо! – отстранил он ее руку, скользившую вниз, – извини.
Они здорово напились, и впервые он стал неким приносящим блаженство, с мохнатой, пахнущей шампунем грудью, с мускулистыми ногами и твердыми ягодицами.
Он прожил у нее три дня. Готовил обеды, починил все замки, разболтанные дверцы шкафов и даже безнадежно текущий механизм унитаза. Она бежала с работы как угорелая, боясь, что не застанет его, что он исчезнет. Но он открывал дверь на условный звонок, распахивал полосатый махровый халат, и она утыкалась замерзшим носом в черную поросль на груди.
Странные были эти три дня. Надоедали молчаливые звонки по телефону, и время от времени в комнате раздавался звук, будто лопалась струна. Леня усмехался и запевал:
– Две гитары за стеной жалобно заныли,
с детства памятный напев,
милые, не вы ли.
– Милый друг, не ты ли, – поправляла она.
– Да какой он мне друг, – говорил одно и то же, – нет у меня друзей. Ты – мой друг, моя жена, моя сестра, моя мать. Я как Ондрий, помнишь, как он говорил…
И, не давая ей ответить, целовал, целовал, целовал… Он все время перебивал ее в эти три дня, то вот так, делая ее бессловесной, то запевая: «Нет, я не Ондрий, – я другой, еще неведомый изгнанник, как он, гонимый миром странник, но только с русскою душой».
Они напивались каждый вечер. Это были благословенные времена, когда без талонов почти на любом углу торговали спиртным.
Леня сказал:
– Ты уж извини, побалуй меня, не посылай на угол, ладно?
– Господи! Какая проблема!
Она была счастлива, что успокоился, не вспоминает больше обо всех этих жутких программах, не говорит страшных слов «стереть», «промывание мозгов»…
Только однажды ночью прошептал в самое ухо: «Никогда, никому, ни за что».
В ту ночь она сама попросила его о том, в чем отказывала, стыдясь, зря отказывала!
Его огорчение развеселило ее:
– Ну ты что! Лиха беда начало. Вот вернешься из Новосибирска, и я все долги отдам, – пообещала, уткнувшись лицом в подушку.
– Ничто не сделает бывшее не бывшим. Если бы ты могла поехать со мной в Новосибирск, тогда другое дело.
– Я не могу, ты же знаешь, что творится в клинике, никто меня не отпустит, вот если бы ты стал директором, как говорит молва…
– Говорят, ну и пусть говорят.
После Новосибирска он не позвонил. Она ждала каждый вечер, сидя у телефона и тупо глядя в экран телевизора. Потом был молчаливый звонок, а утром она узнала, что в Новосибирске у него был совершенно открытый роман с какой-то барышней-аспиранткой, а приехал домой к жене, видели их в «Березке» на Кропоткинской, она – в норковой шубе и валенках – очень шикарно. Он, как всегда, неотразим. Рассказывала Арцеулова, впившись в нее, как удав, своими стоячими змеиными глазками. Ирина, развалившись в кресле, покуривала. Арцеулова была ей не страшна. После того что пережила она у молчаливого телефона, ей ничего не было страшно.
– … а днями вылетает в Штаты, он ведь теперь директор Сибирского филиала, вы знаете об этом, Ирочка?
– Понятия не имею.
– Идеальный вариант семейной жизни. Он всегда шалил на стороне и всегда возвращался к жене. А в Новосибирске хоть гарем заводи, любая почтет за честь.
Ирина развязно потянулась, зевнула.
– Как интересно и хлопотно живут великие. То ли дело мы – простые смертные. Уговорила на вечерок зайти, и на том спасибо.
Это была не она, не ее слова, и Арцеулова, пекущая диссертации для молодых аспирантов, была ошеломлена и текстом, и манерами сдержанной и постной коллеги.
Из Штатов он не вернулся, затерялся где-то на нью-йоркской улице, можно сказать, на глазах ответственной делегации и не менее ответственных сопровождающих.
Ирина полезла на антресоли и вытащила заброшенный туда в ярости махровый халат в полоску, в кармане – скомканная бумажка, формулы и рисунок то ли летающей тарелки, то ли антенны, нависшей над городом. Город был нарисован очень здорово, с топографической точностью, а на северо-запад извивалось шоссе, заканчивающееся миниатюрным великолепным планом Саввино-Сторожевского монастыря. И отдельно – пролом в стене, за ним луг и лошадь. Первой мыслью было: «сжечь». Но не могла, не могла… Увезти к Дине и там спрятать в уборной за навесным шкафчиком с коробками стирального порошка. Шкафчик вспомнился как-то сразу. На дворе уже было темно, и она первый раз побоялась выходить из дома, хотя только начиналось «Время» душераздирающей, кувалдой бьющей по голове музыкой.
Брежнев на негнущихся ногах шел к трибуне, зал рукоплескал стоя. Панорама президиума – каменные лица, мертвые глаза.
Она сложила мятую бумажку в крошечный квадратик и засунула квадратик в дыру слива сломанной стиральной машины. Квадратик безнадежно провалился в неведомые недра. И они не нашли его, хотя были в квартире. Были! Они даже не очень скрывали это, оставив рассыпанной крупу на столе и плохо задвинув ящики письменного стола. У нее никогда не зацеплялось то, что лежало сверху, мешая выдвигать ящики. Она не любила этого и следила, чтоб сверху лежала гладкая папочка. Например, целлофановая с надписью готическим шрифтом «Рига». Папочка валялась на полу.
* * *
«Просыпаться утром с ощущением счастья – это великое достижение в жизни», – когда-то давно, девчонкой, выписала Ирина в специальную тетрадочку для цитат то ли из Макаренко, то ли из Ушинского.
Теперь, хотя и редко, но она просыпалась с «ощущением счастья». Ощущение это приходило оттого, что, в полудреме, она понимала, что рядом нет Кольчеца. Его нет! И, значит, не надо притворяться, что крепко спишь, иначе он со своим звериным чутьем павиана даже во сне догадается и, зацепив длинными тонкими лапами, перевернет на спину. Бормоча нечленораздельное, погрузит свой хобот и будет терзать, пока не добьется уговорами, тихими приказами отвратительного забытья, когда не понимаешь уже, где, с кем, для чего… Вот эта ординарная неизбежность и превращала некогда праздничное в опустошающую, отнимающую силы привычку.
Потом он спал до одиннадцати, а она с темными подглазьями, бледная, плелась сумрачным зимним переулком к троллейбусной остановке.
Как она ненавидела его в эти часы! Представляла уткнувшееся в подушку лицо с неровной кожей, слышала трещащий храп, пугающий по ночам.
Какой же силы была эта ненависть, если спустя столько лет она, проснувшись и осознав, что его нет рядом, замирала от радости, продлевая крошечный праздник. Она знала, что следом придут другое ощущение, другие мысли. Но и в тех ощущениях и мыслях было странное наслаждение. Наслаждение неудержимым падением вниз – безнадежным и отчаянным: она радовалась, что еще горит свет, что в доме тепло, что простыня и пододеяльник чистые. Скоро, вот-вот, это должно кончиться.
Ирина, как и все, почти голодала. Магазины пусты, вчера за яйцами вдоль тротуара выстроилась тысячная очередь, писали номера на ладони; в институте, в столовой, вместо обеда нечто столь странное и несъедобное, что просто перестала туда ходить. Пили в перерыве кофе, принося из дома, по очереди, в полиэтиленовых пакетиках остатки последних запасов. Неистощимыми эти запасы были, кажется, только у Саши. Он и спасал. Приносил «не в очередь» то банку роскошного гранулированного швейцарского, то харари в зернах, а то и кислый индийский – растворимый.
Страна, как огромная галактика в черную дыру, летела в пропасть. Надежда, усаживающая миллионы в кресло перед телевизором, иссякла, пришло тупое ожидание катастрофы. Катастрофа подползала с окраин, где уже воевали вовсю: убивали детей, перекрывали газопровод, обстреливали ночами и среди бела дня.
Работали вполнакала – везде, и всякий раз, минуя проходную, тащась мимо забора спецкорпуса, Ирина думала: «А что, если здесь, в самом центре Москвы, безумие, как цунами, перехлестнет через эти желтые каменные стены?»
Она видела в газете силуэты заключенных на крыше Красноярской колонии, читала о том, что у них на вооружении были заточки, канистры с бензином и баллоны с кислородом. Здесь будет пострашнее: невозможны ни переговоры, ни угроза оружием, и первыми жертвами будут они – ненавистные, в белых халатах. Все эти ухоженные дамочки, из последних сил сохраняющие в себе женскую привлекательность. И молодые циничные ребята из ординатуры, и усталые, еще верящие во что-то старики. Стариков, правда, осталось совсем немного. Здесь ждали пенсии, как ждут избавления, конца срока, и с первым звонком уходили тотчас, если до звонка не шли по ВТЭКу на инвалидность.
Ирина блаженно потянулась. Суббота, можно валяться хоть весь день. Значит, так: сейчас она почитает то, что принесла Наташа, потом сделает гимнастику (субботнюю по расширенной программе), потом позавтракает и – пешком в бассейн. По пути заглядывая в магазины. Варианта два: пустые прилавки, укрытые какой-то нарядной бумагой (оставшейся от левых заказов, что ли?), или длинные очереди.
Но надежда, конечно, на второй вариант: «выбросили» мясо по девять восемьдесят, или вермишель, или, на худой конец, сало. Талоны на водку и сахар она давно уже не отоваривала: либо эти ценные продукты отсутствовали, либо за ними убивались, занимая очередь с ночи.
Последней попыткой участия в новой жизни было посещение некоей комиссии в надежде приватизировать свое жилище. В узеньком коридорчике доходили от жары и усталости старики в потертых пальто, в ядовитого цвета мохеровых беретах. Всех их послали отстаивать и отсиживать эту безнадежную очередь дети и внуки, занятые строительством нового демократического общества.
Ирина поняла сразу: это не для нее. Требует уйму времени, нервной энергии и сил. Бог с ней, с квартирой, пока жива – не выгонят, а после смерти – какая разница, кому перейдет.
– Очень даже выгонят, – предупредила Наталья, – выгонят и сошлют в какое-нибудь Коньково-Горбунково или Сукино-Солнцево. Есть кооперативы – заплатите тысячу, они все оформят.
Потом то ли Моссовет, то ли мэр «приватизацию» отменил, отдадут бесплатно, а еще через день – снова выкуп, потом аренда, потом что-то еще…
Ирина не интересовалась, все равно Наталья скажет, куда идти и что делать.
Эта холеная красавица успевает все и везде: бег рысцой-трусцой, аэробика, бассейн, какой-то то ли шейпинг, то ли шоппинг, романы, Дом кино – и ничего не забывает. Вчера притащила вот этот пакет.
– Это вам до понедельника. Снимите копии, и шито-крыто.
– Что это?
– А то, что вы просили. Этого вашего подопытного корреспонденция.
– Они же мне сказали, что ничего нет!
– Так это вам. Вы умеете так просить, что в просьбу уже завернут отрицательный ответ.
– Что значит «просить», – обиделась Ирина, – я написала запрос, вполне официальный, обязаны были…
– Никто никому ничего не обязан, а что до вашего запроса, то даю совет: в стране волков – не щелкай клювом. Перепечатайте аккуратненько эти послания и – вперед.
– Спасибо.
– Пожалуйста. И обещайте мне, что пригласите на сеанс, интересно до боли.
– А ты что, прочитала?
– А как же!
– В клинику пишут?
– Не-а. При нем были. Достояние прошлого.
– Ну и что это?
– «Everything happens to him», что в переводе означает: «На бедного Макара все шишки валятся». Вместо «шишки» лучше поставить «письки».
Ирина подложила вторую подушку под голову, взяла первый конверт.
«Кайф! Настоящий кайф!» Если хоть что-то, хоть одна деталь, фраза, толкнет, запустит «сюжет», – можно считать: она не зря прожила жизнь. Наталье в подарок – привезенную когда-то Леней из Англии твидовую юбку, она давно на нее зарится. «Откуда это на вас юбочка от «Harrodsa»? Это ж какие тыщи стоит…»
Итак, мы начинаем! Интересно, кто это пронумеровал красным фломастером? И кто зачеркнул жирно некоторые слова? Не забыть спросить у Натальи.
Итак, номер три.
«Милый мой! Очень рада, что твоя превосходная профессиональная память, однако, не подвела и мне посчастливилось быть одним (одной) из твоих адресатов (адресаток). Представляешь, лет эдак через сотню у моей внучки (или внука) найдут «неизвестное письмо» и будут гадать, кто же это такая Таинька, которой адресовано такое замечательное, теплое письмо, кем ему приходится и с какой, собственно, стати такая «сердечная нежность»?!
Плохо одно – прочесть будет трудно, потому как уже зачитано почти до дыр, а что еще будет, если не придет другое? Надо срочно снимать копию и отдавать друзьям (скажем, Толмачевым) на хранение, чтоб не было утрачено.
Хороший мой! Спасибо большое, что уведомил о сердечной твоей нежности ко мне. Для меня это сильно важно, особенно в нынешних моих обстоятельствах. Впрочем, ты всегда у меня был умницей (за ре-е-е-дкими исключениями!), тонким и чутким, всегда все делал на удивление вовремя.
Кроме того, что ты мне вообще написал, меня в твоем письме удивила фраза относительно того, что мое участие в твоих «…обстоятельствах… полных… и…» для тебя очень важно. Честно, для меня это полная неожиданность и такой бальзам на душу! Я-то ведь полагала, что в эти «обстоятельства» для меня вход строго запрещен. Ведь ты никогда мне ничего не рассказываешь. Если бы я только имела право хоть что-то для тебя… Да я бы… но – увы!..
Дорогой мой! Я совершенно отчаянно скучаю без тебя – без твоих милых насмешливых глаз, без твоей улыбки, без твоего голоса и всего прочего остального тоже.
И все-таки очень рада твоему чудному распрекрасному настроению и тому, что так у тебя все замечательно складывается, что «для наоборота нет никакого повода». Ведь я уж не такая глупенькая, чтобы поверить, будто это просто прогулка. Для тебя это очень серьезно, я понимаю, готова ради этого терпеть и ждать целых 74 (уже 67, но все равно, сойти с ума!) дня.
Что касается Антона, то было море восторга и счастья, когда я зачитала ему письмо в части, к нему обращенной. Кстати, знаешь, что он сказал, узнав о твоем отъезде? «Как же я буду жить без него?» Кутя более сдержан в проявлении своих эмоций, но тоже, конечно, скучает, вижу по выражению хвоста. У нас все нормально, все хорошо. Начался учебный год, множество всяких дел и забот. У меня, как ты знаешь, в сентябре должен быть отпуск, но что-то никуда и ничего не хочется.
Вот такие дела…
Мой хороший, как твое здоровье? Всели в порядке? Скажи, пожалуйста, может, тебе что-то нужно или хочется и можно ли прислать (или привезти)? Сочту за счастье. А в (зачеркнуто) ты имеешь возможность съездить, скажем, на день или два?
Обнимаю и целую тебя, мое сокровище!
P.S. Письмо шло очень долго, потому что было без индекса! Понял?»
Ирина отложила листок.
Пусто. Ничего «запускающего» нет. Обычная слюнявая чепуха полуинтеллигентной одинокой бабы. Никаких иллюзий, готова на все, принимает все условия обычной городской любовной игры.
Ирина вложила листок в потертый конверт.
На обратной стороне конверта другими чернилами и другим почерком было по порядку записано:
1. Эмблема.
2. 20 рублей отдать.
3. 2 бут. Носки.
4. Почта.
Почтовый штемпель адресата смазан, не разобрать, отправлено из Ленинграда.
Поехали дальше. Это без конверта, и под номером двадцать три. Значит за пять дней, если не ошибаюсь, он получил семь писем.
Ирина развеселилась. Прошлепала на кухню, поставила чайник. Села с листочком за столик ждать, когда закипит вода.
«Ого! Это уж просто Шарко женственности!» – улыбнулась, прочитав первую фразу.
«Тысячу раз ненаглядный мой, прекрасный дусенька. Как мало нужно человеку для счастья! Если прав (а он прав, безусловно) твой любимый ФЭД, утверждая, что «счастье – это состояние души», то сегодня я счастлива!!!
Я получила 2 (два) твоих письма – одно коротенькое, а второе…
Ради этого можно было бы к тебе босиком по холодным северным ручьям, протокам и морям. Почта виновата сто раз – отправлено не в тот же день, получено – через неделю, мне вручено – через 12 дней. Ну да Бог с ней, с почтой! Я сегодня добра ко всем и всепрощающа.
Ни о чем житейском, обыденном сегодня писать не хочу – боялась в предыдущем письме и слово такое написать – «любимый», а теперь смею. Самый мой нежный, добрый. Как ты замечательно меня чувствуешь! Ни одного лишнего и ненужного слова. Письмо твое жечь, дабы согреться, не смею – во-первых, такие письма не горят, как известно; во-вторых, это будет одноразовый согрев, а мне нужно долго, до следующего письма держаться. Я его буду беречь и греться еще и еще. Одна просьба – пиши. Целую тебя, обнимаю, тоскую беспредельно.
Твоя В-я.
P.S. Денежку выслала «до востребования». В конце месяца вышлю еще, я теперь богатая – объявился щедрый заказчик на металлокерамику. Помнишь, я говорила, что привезла из Польши? Не огорчайся, на твою долю останется, хотя зубки у тебя крепкие, не забывай только, что лучшая паста – «Чебурашка», и массируй десны, как я показывала».
Чайник засвистел. Ирина, не торопясь, насыпала в джезву кофе, залила кипятком. Способ варки неправильный, но привыкла. Что-то задело в последнем письме. Отсутствие фальши и расчета – вот что. И еще… письма писали разные женщины. Уже на втором взяло сомнение, а теперь ясно. Одна Таинька, другая, видимо, Веруня, третья… Неважно. Важно то, что они абсолютно разные и едины только в любви, страсти, самопожертвовании.
Пожалуй, милее всех Веруня. Вот уж поистине крик души, и Бог не забыла написать с заглавной.
Веруня, бедная Веруня!
Краса петроградских – нет, выборгских.
Краса выборгских дочерей. Не знаешь ты, какого фуя… Ласкаешь на груди своей – неплохо. Наталье понравится. Кто же дальше? Пока что, кроме полноты чувства Веруни, ничего для дела нет. Ирина снова забралась на тахту, прихватив кружку с кофе.
Какой-то беспорядок. Номер двадцать три идет после двадцать первого. Но – неважно. Нет, все правильно, потому что это письмо написано в один день с предыдущим.
Двадцать первое сентября. И из всего этого следует, что в один день он получил три письма: двадцать один, двадцать два и двадцать три.
Забавно!
Но кто же это расстарался и замарал все упоминания имен, особых примет и мест?
Так. А вот и следующий день. Двадцать второе. И номер письма 19-IV. Не вижу системы.
«Едва успеваю заметить на бегу осеннее разноцветье. На бульварах жгут листья, дни – лучезарны.
Беготня, хлопоты, Алексей, друзья – и «день сгорел как белая страница…».
Я устала от невозможности написать тебе. Сегодня вдруг в глубокий час я осталась одна «и в этой ночи, как в желаниях, все беспредельно».
Твои строчки у меня на губах, и именно поэтому мне так трудно говорить.
Я запомнила их с листа и с одного прочтения (ошиблась лишь в одном слове).
Сознание того, что это первично и та свобода видения в осмыслении (на порядок выше обычного!), которая и есть признак таланта, его свидетельство.
В них есть то, без чего для меня немыслима поэзия. Теперь ты, верно, получил мои письма. Я не хотела, чтобы ты испытывал неудобство от их отсутствия, как не ждала, чтобы ты нарушил положенные себе обязательства (не писать, не касаться). Правда, я не верю в возможность при наличии «наклона уст» так сажать себя на цепь, ибо если оно есть, так уж есть (из дорогого письма). И сколько ни приказывай себе…»
Ирине вдруг стало скучно и противно. Быть свидетельницей чужого унижения, еле скрываемого ворохом «осенних листьев, опавшей любви», – со злобной иронией подумала она. Пробежала глазами страницу до конца. Все то же.
«Saisir par les pains – c’est l’affaire des hommes.
Это обещанная пословица.
Или тебе уже не нужно?»
«Нужно, нужно! – с раздражением подумала Ирина, – именно это и нужно от тебя. Именно за это и держат. От других – другое, вот Веруня, например, может предложить совсем другое, а ты – Архилоха и «Saisir par les…», так что правильно: «не спи, не спи – работай, не оставляй труда, не спи – борись с дремотой», говоря словами Бориса Пастернака, «или вам это не нужно?».
Веселье ушло, уступив место деловитой злобе. Ирина сделала гимнастику, облилась ледяным душем и со спортивной сумкой вышла во двор. Переулок, как всегда, пустынен, по Пироговке шастают редкие машины. Иногда в кафешке-кулинарии на углу Садового бывают картофельные и морковные котлеты. Невольная диета бедняков. А что, если после бассейна зайти в парикмахерскую на Кропоткинской, покрасить волосы в какой-нибудь немыслимый пепельно-жемчужный цвет, постричься? Рублей на пятьдесят потянет. Нет, такой траты позволить себе не может, хотя деньги с бешеной скоростью превращаются в труху.
На Остоженке «давали» замороженного хека. От вида сплющенных рыбешек, от тошнотного запаха стало мутить.
Черт с ними, перебьюсь овсянкой. Запасы велики, а вот сейчас надо быстренько в кассу: на соседний прилавок ставили лотки с какой-то бурой рваниной. Ничего, сойдет за мясо, если долго поварить.
Пока методично бороздила водную гладь бассейна: задание пятьдесят маршрутов два раза в неделю для поддержания формы, вспомнилось про Пушкина, может быть, потому, что напротив музей его имени, а может, из-за баб этих несчастных.
«Неужто между нынешними женщинами не найдется ни одной, которая захотела бы испытать на самом деле справедливость того, что твердят ей поминутно: что любовь ее была бы им дороже жизни».
Если уж тогда днем с огнем, то теперь и с собаками не сыскать. Какое испытание? Кого испытывать? Вот этих жестко обгоняющих на дорожке, так, что брызги в лицо, или таких, как ее пациент? Или новую поросль, подъезжающую к бассейну на «вольво» и «мерседесах», похоже, что они понятия не имеют о любви и их длинноногие, ухоженные подружки тоже. Откуда тебе знать? Брюзжишь по-старушечьи, нехорошо. Надо вот что: не выискивать в письмах крючки и петельки, а начать, и по порядку. Провокация последовательностью.
Когда пешком возвращалась домой из бассейна, поймала два-три взгляда. Румянец, опять же подтянутая спина, голова не понурая.
Дома поставила кастрюлю с рваниной на газ. Надо дочитать письма и выбрать нужное, не все же пускать в дело.
Нужное – перепечатать.
Какое число? Двадцать восьмое, отлично. Близится конец сентября, – и номер письма соответствует – двадцать семь. Т. е. в день по письму, не считая двадцать первого, когда пришло три.
«Солнце мое, здравствуй! Здравствуешь ли?
Так давно не писала тебе, что сбиваюсь с толку, про что сначала говорить. Сначала все-таки – скучаю, скучаю, люблю, люблю, томлюсь, так тебя не хватает, особенно ночью…
А как тебе без меня? Это во-первых. Во-вторых, холод. Везде. На улице, на работе, дома. Не топят. Сыро, постель влажная, белье влажное… Я лежала влежку 2 недели, приходил врач – ОРЗ, с этого понедельника пошла на работу, но кашляю и чихаю так же. Кома ходит в магазин, убирает, моет посуду, стирает и т. д. Я только готовлю обед. Приехала Зина… заплакала, говорит, что я очень похудела и плохо выгляжу. Как тебе там?
Завтра день рождения Комы… ездила на кладбище… чуть легче стало… звали меня, но я отказалась… кусты и цветы, делали посадки… держатся бодро… мне очень помогла – сдала в химчистку… Я все перестирала и перегладила… шлет привет… платит… печь торт и готовить… на работе… дней через 5—10 вышлю немного тебе денег, у нас что-то с этим все время туго… ничего ни у кого нет – ни ботинок, ни сапог, ни пальто, ни курток, что будет дальше, не знаю??? Золотое кольцо с бирюзой… ломбард… пальто или осеннее, или зимнее… зияя дырами… Читаю Катаева, Пастернака, так, как-то ближе к тебе. Солнце мое, что же ты молчишь и ни слова не напишешь, помнишь ли меня еще или совсем уже забыл.








