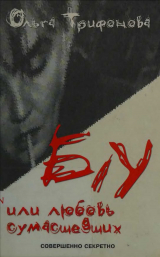
Текст книги "Б/У или любовь сумасшедших"
Автор книги: Ольга Трифонова
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Annotation
Оказывается, попасть в детективную историю – да еще какую – может и кабинетный ученый. Ирина Федоровна – психолог, занимается модной современной темой – сновидениями.
Увлекательность этого повествования не только в головокружительном сюжете. Героиня романа умна. Она обаятельна в суждениях, по-женски приметлива, одарена в любви и вообще знает толк в отношениях с мужчинами. Смотреть действительность ее глазами невероятно интересно. А жизнь, описанная в книге на редкость разнообразна. Здесь первые годы перестройки, путч, происки КГБ, путешествия по городам Америки и старой Европы. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Берлин и, конечно, Париж…
Ольга Романовна Трифонова
Часть I
Часть II
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Ольга Романовна Трифонова
Б/У или любовь сумасшедших
Часть I
Усни – и всё в загадке станет ясно. Иаков I
Ну что ж, посмотрим очередного бедолагу. Что там у него? «При падении повреждена левая височная область, возможно кровоизлияние. Под сомнением лобные доли… Как же он так грохнулся неловко? Надо вызвать Митю, какие-то помехи и на мониторе, и на электроэнцефалографе. Ну да бог с ними – рутинный случай. Сегодня пойдут послойные снимки. Господи, как надоела эта бесконечная ночь-сумерки! Так, пошли снимки, опять с помехами. Черт знает что, неужели так трудно заэкранировать? Покупают на миллионы аппаратуру, а потом приходит вечно пьяненький Митя… Сетка не мешает, конечно, картинка видна, но раздражает ужасно. Ого, пошли альфа-волны. Спи, мой бэби, мой милый, сладкий бэби, тебе я песенку спою про Африку мою. Каким-то ты проснешься? Туповатым, повторяющим одно слово по многу раз, или агрессивным, живущим в аду и превращающим в ад жизнь других? А что, если попробовать то, что запретили навсегда? Вот так тихонько, просто попробовать… Но ведь для этого нужно хоть что-нибудь… провокация… толчок… запуск. Дневник, записная книжка… Откуда у этого работяги возьмется записная книжка? А дневник и того смешней. Вот если бы там, через несколько бетонных перекрытий оказался Великий, достаточно было бы прочитать вслух, ну, например… «для счастья нужно столько же несчастья, сколько…», и тогда… Тогда сбылась бы мечта: картинка. И дальше – войти в картинку и наладить обратную связь. Мечты, мечты… Сюда привозят Шариковых, в снах за ними гонятся, они роняют бутылки, бесшумно разлетается стекло, и драгоценная влага темным пятном расплывается по асфальту. Даже по фрейдовским анфиладам комнат, пещерам и залам уже не бродят. Нет, у этого алкоголь вытеснил все. «Спи, мой бэби…» Вот привязалось… Черный Борец за мир во всем мире. Из черного круга радиоточки он лил черный вязкий вар черного голоса: «Кейси Джон навек остался скэбом, что и просим всех штрейкбрехеров иметь в виду».
Кто такие скэбы, было тайной, такой же безнадежной, как и необходимость ее подписи на белом листке Стокгольмского воззвания. Ее – дочери ссыльнопоселенцев. Черное и белое. Это – поселок Нива-2. Белые ночи, бесконечные черные зимы. Зона, бараки, землянки, коттеджи начальства. Почему запомнилось это воззвание? Гордость за то, что не обошли, приобщили к общему делу как равную? Или оттого, что сын начальника стройки позвал за третий барак? Знала от подруг, что делают за третьим бараком, знала, знала… Но отказать Кольке, у которого были самые длинные ресницы, и бутерброды, завернутые в кальку, и клетчатый костюм, Кольке, который по выходным ездил с отцом на «Победе», Кольке, фамилия которого была уже и не фамилия даже, а сочетание букв, означающее власть, неведомую жизнь?! Звуки пианино из окна с занавеской! Его мать гуляла по поселку с собакой, на голове каракулевая кубаночка, на ногах белые фетровые ботики. Приходя в школу, она прямо шла к директору, и туда, в кабинет директора, к ней вызывали училок.
Колька учился плохо, но зато знал множество разных вещей. В классе ходил слух, что он сумел переспать с учительницей истории. Тоже ссыльно-поселенкой. Беленькой, в драной котиковой шубке с прямыми плечами. Ей было, наверное, лет двадцать, жила она одна за столовкой, в землянке. И вот Миронов видел, как Колька выходил из ее землянки, и спросил, что он там делал. «Хлебал», – коротко ответил Колька. Девочки, которые ходили за третий барак, говорили, что Колька умеет это делать очень долго, так что замерзнешь, пока он закричит. А кричал он действительно громко. Один раз слышала сама. Пробегала мимо третьего, когда с матерью случилось страшное, что-то диабетное, и нужно было позвать срочно медсестру. И вот тогда услышала Колькин крик, подумала, что блатные кого-то приканчивают за бараком, и, не остановившись даже, побежала дальше. В поселке ночью кричали часто, и среди дня, и зимой, в темноте тоже.
Девчонки гордились, если выбирал Колька, хотя они всегда подчеркивали, с ним можно было здорово застудить свое, женское. Иногда на переменах Колька разлеплял бутерброд с сыром и с маслом и одаривал какую-нибудь девчонку. Но это бывало, правда, очень редко.
И не в бутербродах было дело, и не в том, что это он делал дольше всех, медлительность тепло одетого Кольки как раз обсуждалась как минус, а вот то, что в далекую Ялту, к теплому морю отдыхать ездил, – вот это, и занавески, и «Победа», и кожаное пальто его отца, и то, что отец мог любого выдернуть из зоны и поставить работать в тоннель, где тепло и горело электричество, вот это…
Нужно было схитрить. Мать зорко следила по утрам за сборами. А надевалось нечто похожее на купальники начала века, сшитое из старой байковой рубахи отца. Комбинезон причинял много неудобств. К примеру, в туалете, дрожа от холода, нужно было расстегнуть по две белых пуговицы на каждом плече, спустить комбинезон под платьем, и только тогда… Поверх комбинезона надевались длинные, до колен, тоже байковые штаны, потом шаровары (все байковое), и только уж после – перелицованное, зеленое, кашемировое платье.
Предложила однажды более простую конструкцию с пуговицами внизу, а не на плечах, но мать так и взвилась.
И вот в тот день предстояло незаметно запрятать уродливое сооружение под матрац. Сейчас не вспомнить уже, удалось или нет, потому что не знал Колька, что именно сегодня было назначено его бить. За все. За бутерброды, за костюм в клеточку, за леденеющих на тридцатиградусном морозе девчонок, за беленькую историчку, за то, что папаша выдергивал из лагерной колоды валетов в бушлатах с грязными полотенцами, обмотанными вокруг шеи в незаживающих фурункулах, за вечеринки в Доме культуры с танцами, с апельсинами в вазах на столах, насмотрелись на эти вечеринки сквозь роскошно разрисованные морозом окна.
Колька бежал по улице Строителей, и в свете редких фонарей лицо его было черным от крови. Здоровенный, поджарый пятнадцатилетний лоб бежал, не оглядываясь, и кричал: «Вы еще придете сухарика просить! Вы еще придете! «Дайте сухарика, дайте сухарика!» Фер вам сухарик!»
Мальчишки улюлюкали вслед, гнали лениво, бросали вслед камни. Торопиться некуда, дело сделано.
Спрятавшись за сараюшкой, досмотрела до конца, как загнали в парадное, он было метнулся к сугробу, умыть лицо снегом – не дали. Значит, решили забыть о папаше, а главное – о мамаше. Мамаша примчалась ко второму уроку, и всех учителей будто смерчем закрутило и бросило в кабинет директорши. Что же было потом? Мгла, забытье, потому что умерла мать. Забрали в спецдетдом. Лучше не вспоминать. А вот как встретились через много лет, как ошеломил натиском, нежностью, каким-то исступленным вниманием к каждому жесту, каждому слову – помнится. И как жили вместе, тоже помнится, и то, что поздно поняла вещь, в сущности, простую: зона, она как чума. И проволока не защищает от заразы.
Жизнь возле зоны, покорность зэка и поселенцев воспитали в нем инстинкт топтать людей. А кого он мог топтать? Только женщин. Мужики не давались, отвечали бешеной ненавистью. Но для того чтобы слаще было растоптать, сначала нужно возвысить. Ведь чем с большей высоты сбрасывают, тем больнее. Это он знал хорошо, интуицией подонка.
Господи, какими же они были подлыми, расставаясь. Какими ничтожными и мелкими. Страшно вспомнить.
Ну что ж – suum cuique[1]. Что-то потянуло на латынь. Единственное благое приобретение детдома. Бедный, полубезумный Виталий Андреевич – спасибо. Вот, благодаря латыни и поступила в университет, поразив не только нищенством одеяния.
* * *
Теперь за этой баррикадой, составленной из ящиков-приборов, ее никто не увидит. Неужели свершилось то, о чем мечтала когда-то как о недостижимом? И как обыденно просто, и как безрадостно. Душа пуста. Она теперь – полое тело, которое пересекают чужие мысли и разговоры.
Пришла Наталья. Как всегда, с опозданием и, как всегда, с рассказом о мимолетной схватке с какой-нибудь институтcкой щеголихой. На сей раз это была, кажется, секретарша директора.
– Я ей говорю: не всякая мечтает о хорошем начальнике, а она мне: «Хороший секретарь может выбирать себе начальника». А сама на работе в шортах, чтоб ноги до пупа выставить.
Саша (от компьютера):
– Ты тоже, будто на конкурс «Полиарт» вырядилась.
– А что это за «Полиарт»?
– Ну для дур. Какие-то темные кооперативы набирают вроде бы в ансамбли или в офисы «не старше двадцати пяти» и прямиком в западные бардаки переправляют. Торговцы живым товаром. Двадцатый век. Так что в такой юбчонке как раз на конкурс. Есть шансы.
– А что тебе моя юбчонка? Не личит?
– Личит, личит, и бисер, гарус, стеклярус туда же.
– Мой девиз: одевайтесь лучше, будете выглядеть здоровее. Ну что ты злишься, опять не получается? Все, что из дерева, очень ненадежно.
Это она об аппаратуре отечественной отозвалась.
– Попросила бы у Ухтомцева по старой дружбе для меня усилитель. А? Он, по-моему, до сих пор не остыл от твоих ласк.
– Мэй би. Просто я плачу, вспоминая нашу недолгую лав стори. Это было совершенно невыносимо. Совершенно. Он мог трудиться два часа без перерыва на обед, как эти штуковины на нефтяных скважинах. Вверх – вниз, вверх – вниз, да еще время засекал, я видела. Сухостой – это…
«Нет, это уже черт знает что! Не лаборатория, «На дне» какое-то…»
– …Тащилась от него домой, как змея по пачке дуста.
– Наташа! Что за речи! У тебя папа доктор наук, мама – кандидат, книжки хорошие читала небось. Лиза Калитина, Наташа Ростова, образ русской женщины…
– Я читала только «Муму», и то не помню, кто кого под поезд бросил.
Возникла из-за приборов. И когда только успевает с утра так отполироваться! Волосы сияют, губы блестят, ногти переливаются, загорелое лицо чуть лоснится, брови как приклеенные… что еще?..
– Ой, а я и не знала, что вы здесь, Ирина Федоровна, я бы с купюрами. Может, вам кофейку сварганить, а?
– Кофейку не надо, а вот позвони-ка этому белорусу-технику. Глядишь, поможет, замучали помехи.
Монитор на всякий случай выключила. «Это надо беречь от постороннего глаза, как краденого коня».
– Инициатива наказуема, вот сейчас не только позвоню, не поленюсь сбегать…
– По дороге забеги к Ухтомскому, попроси в долг МПВ, ты сегодня в форме. – Это Саша о своем.
– Фиг тебе, хочешь, чтоб золотая рыбка у тебя на посылках…
– Не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь.
Когда Наталья ушла, Ирина снова включила компьютер и замерла. Картинка! Какая-то улица. Старые заводские здания, бетонные заборы. Расстояние между ними все сужается. Видно ясно, и никаких помех. Не надо белоруса! Белорус все испортит. Сейчас бетонные плиты сомкнутся! Узкая щель, и за ней сразу комната. Грязная, голая, замазанное белым окно. На лавке, бесстыдно раскорячившись, – толстая немолодая баба. Голова запрокинута над краем лавки. Свисают жидкие волосы.
– А помыться можно? – Голос мужчины.
Чей это голос? Ирина почувствовала, как обдало жаром. Мощнейший выброс адреналина.
– Девушка, баня работает? Помыться можно?
– А все можно, – ответил хриплый протяжный голос. Ответила баба, не разжимая губ.
Огромные, похожие на дыни, груди. Закатившиеся глаза, белесые брови, рыжие пряди.
– Давай, давай… повторяй за мной, что я делаю? Отвечай! Что…
Помехи, ровное гудение, изображение перекосилось, какие-то разноцветные клинья, но она видела, узнавала в них картинку соития…
– А вот и ваш спаситель! – сказала Наталья голосом экскурсовода.
Ирина успела выключить компьютер и подняться навстречу бледнолицему Мите, глядящему блеклыми голубыми глазами с привычной тоской: «Ну что там у вас? Вы же знаете, что я работаю здесь за гроши только потому, что в соседнем корпусе лежит моя несчастная жена и никто из вас, дармоедов, не понимает, что с ней».
– Консилиум был? – спросила Ирина, усаживаясь в кресло и жестом предлагая Мите занять другое.
Митя присел на краешек.
– Был.
– Ну и что?
– Повезут к Коновалову, сказали. Ну и фамилия!
– А это нормально, – Саша выключил паяльник, потянулся сладко, – это даже хорошо, такая фамилия, потому что означает, что даже его далекие предки были эскулапами. Теория наследования гена профессии.
– Хлебом нас не корми, только дай теорию подогнать.
Саша вольготно расположился в кресле, протянул газету.
– Вот, гляньте на эту фотографию.
Половину полосы занимала фотография мужчины в черных очках, в костюме десантника, с автоматом на груди.
– Кто это?
– Наемник. Ландскнехт двадцатого века. В Америке их зовут «дикие гуси».
– Он что – американец?
– Зачем? Наш. Воевал в Афгане, во Вьетнаме, в Никарагуа и далее везде, где у нашей державы был интерес.
– Ну и что?
– Как вы полагаете, какова у него фамилия?
– По вашей теории, либо Мертвецов, либо Душегубов.
– Ну зачем же так резко. Резников. От – «резать».
– Ну, сколько других Резниковых…
– Погодите. Помните чемпиона мира по бегу Борзова, а по фехтованию – Сабельникова, а начальника одного из управлений Минздрава – Живодерова, не говоря уже о татарских корнях всех Баскаковых, Толмачевых и т. д. и т. п.
– А фамилия Раскуров что означает?
– Надо подумать. Но по первому впечатлению что-то недоброкачественное. Пьянь или шпана.
Сказал неожиданно злобно, и Ирина вспомнила, как единственный раз привела Кольчеца на какой-то служебный междусобойчик. Сто лет назад. Кольчец распустил павлиний хвост и трещал не умолкая, никому слова вставить не давал. Запомнились завистливые восторги сослуживиц и темный неподвижный взгляд Саши из угла, где молча просидел весь вечер.
– А у моей Ленки девичья фамилия Каженова, ну и что это значит? – тихо спросил Митя.
– Каженова, это… – Саша осекся, – Каженова… она белоруска?
– Не, по соседству, из Щорса, украинка. Ирина Федоровна, может, ее облучило, она ведь у родителей была, а до Чернобыля меньше сотни, может, облучение это? – тоскливо спросил Митя.
– Я говорила с Дубовым, он сказал, что по его части все нормально, – повторила Ирина уже в который раз. – Мне тоже кажется, что в нейрохирургию ее надо.
– А звали зачем?
– Да так… помехи какие-то были, сейчас нет.
– Но ведь ваш пациент в другом корпусе. Помехи вполне возможны, включили где-нибудь рентген. Да, Александр Игнатьевич?
Саша не отозвался.
Откинувшись на спинку кресла, он смотрел в пространство.
– Митя, вы вот что… у Коновалова работает моя подруга, я дам вам ее домашний телефон, поговорите с ней.
Покосившись на погруженного в размышления Сашу, она написала телефон. Митя взял бумажку, сунул в карман.
– Я пошел. Завтра зайду, ладно? А то сегодня действительно не до чего, сегодня меня к ней не пустили…
Ирина пила остывший кофе, стараясь отхлебывать и глотать бесшумно. Присутствие Саши, вот так – наедине, как всегда, тяготило ее. Как всегда, казалось, что он медлит, не решается произнести что-то непоправимо тяжелое.
– Что вы ему голову морочите какой-то подругой, – тихо сказал Саша, – какая подруга, при чем здесь подруга? Каженова – это от «скаженной», то есть сумасшедшей по-украински.
«Сам ты сумасшедший», – хотелось сказать Ирине, но промолчала.
Наталья распахнула дверь.
– Господа! Потрясающая новость! Две потрясающие новости! Первая – менее потрясающая, прямо из недр дирекции. Вы, Ирина Федоровна, и вы, Александр Игнатьевич, через три дня отбываете в Питер на международный симпозиум, тема… не имеет значения, я ее не поняла, да и вы, наверное, не поймете. Проживание в гостинице «Ленинградская», проезд в СВ, теперь дело за погодой. Как я вам завидую! Шведский стол, Большой драматический, прогулки вдоль Невы, кофе на Литейном – да, ленинградская болезнь, не забывайте о ней.
– Что это за ленинградская болезнь?
– Их несколько, Ирина Федоровна. Некоторые вам не грозят, а вот водичку из крана пить низзя. Последний раз я чуть не загнулась. Один мэн на «тойоте»…
– Ну ладно, давай вторую новость.
– Вторая… держитесь крепче.
– Держусь.
– Я всех нас записала в турпоездку в Ю-эс-эй.
– Ты что, с ума сошла? Кто тебя просил? – холодно поинтересовался Саша.
– Не хочешь?
– Не хочу.
– Вот это да! А я-то старалась… Выходит, зря… Ну тогда я тебя вычеркиваю.
– Я сам себя вычеркну.
Саша резко поднялся.
– Крэзи, – крикнула ему вслед Наташа, – путевка со скидкой, научный обмен! Но мы с вами едем, Ирочка, да? Едем! – Она обняла Ирину, овеяв сложным ароматом дезодоранта, шампуня, кремов и духов «Пуассон».
– Это же дорого, наверное.
– Неважно. Возьмем в долг. Такие поездки окупаются.
– Как?
– А вот этот вопрос я беру на себя. Разве вы забыли, что Америка – страна проживания многих моих друзей и… Леонида Осиповича.
– Откуда знаешь?
– Ирина Федоровна, да очнитесь вы, наконец. В стране перестройка, гласность, демократия, все пишут друг другу и ездят туда-сюда, сюда-туда. У трех вокзалов появились малолетние проститутки, в гостинице «Ленинградская» открыто казино, брачные объявления печатают газеты, в подземном переходе на Пушкинской продают порнолитературу, средства массовой печати пропагандируют оральный секс, а вы всё – белый верх, черный низ, умри, но не дай поцелуя без любви, четвертый сон Веры Павловны, помните? Сон-то сбылся! Свободные люди свободно любят друг друга, свобода сексуальным меньшинствам! Дадите завтра ключик?
– Ты же только «Муму» читала… А твоя гарсоньерка?
– Я же говорю, квартиры теперь сдаются только за валюту. Помогите перезимовать. Через месяц-два у меня будет своя хатка на Аэропорте.
– Тебе ключи на когда?
– Ну, думаю, с четырех до семи. В восемь у меня свидание с герром Франком, помните, такой длинный из Мюнхена, занимается медицинской генетикой. Кстати, он тоже едет в Питер. Там и увидитесь.
– А ты почему не едешь?
– А у меня родители строгие, они меня с чужим дядей не отпустят. Вот съезжу в Америку, потом в Тбилиси, потом… ауф-видерзеен – и в Мюнхен.
– В Тбилиси зачем?
– Хочу сделать герру Франку подарок, а запечатывают лучше всего в этой неспокойной нынче республике.
– Наташа…
– Ну ладно, не сердитесь, Вера Павловна, давайте я для вас что-нибудь хорошее сделаю.
– В четвертом есть у тебя кто-нибудь?
– Есть.
– Меня интересует один больной. Все, что известно о нем. Все, все, все…
– Этот тот, который сейчас на проводе?
– Да.
– Я пошла?
– Прямо сейчас?
– А когда же? Давайте номер истории болезни.
* * *
Ошеломило упоминание имени Лени. Что это означало? Она знала об их отношениях? Или она сама спала с Леней?
И потом, эта турпоездка. Ни к чему она. Начнут копаться в прошлом. Всплывет та история, никуда не пустят, одни хлопоты.
Увидеть Леню. Наталья наверняка знает, как его найти. Сказала это открытым текстом.
Увидеть Леню через тысячу световых лет. Они оба стали другими людьми. Увидеть другого Леню! Кажется, это единственный человек в мире, которого она не может представить другим.
Вошел мрачный Саша. Молча уселся у своей панели. Ирина включила монитор, зарядила программу. Пора заняться послойными снимками.
Принтер отпечатал: «Emotions. Words».
Теперь можно просто разглядывать экран. Умница «англичанин», сам все сделает.
Компьютер дал первый слой. Большое красное пространство, фиолетовое пятно.
Связи отсутствуют. Дальше…
Леня рассказывал, что очень хотел подойти к ней, в первый же день, но что подойти к ней и заговорить было очень трудно.
– Ты была какой-то деревянной, а мне так хотелось зарыться, как говорил поэт, «в теплое, женское». Я стоял перед пропастью, и меня неудержимо тянуло в нее, остановить могла только любовь. Да где ее взять? Я смотрел на тебя со стороны: из окна, смотрел, как ты гуляла в расшитой дубленке с какой-то теткой, и вот эта гуцульская дубленка, твое нежнозагорелое на зимнем солнце ясное лицо притягивали меня.
Понадобилось срочно поехать в Москву. Но до шоссе от дома отдыха километра четыре лесом и расписание автобусов, как всегда, запутанно и ненадежно.
Решила попытать удачи на хоздворе, где держали свои авто зажиточные отдыхающие: а вдруг кто-нибудь, на ночь глядя, тоже решил смотаться домой или еще куда-нибудь? Под навесом маячили две фигуры, рычал мотор, горела тусклая лампочка. Свершался обряд «прикуривания». Прикуривающим был лощеный хлыщ – то ли международник, то ли внешторговец, «дававшим прикурить» – тот самый красавец, что своей таинственностью и печальным одиночеством привлекал внимание дам дома отдыха. Самый неподходящий вариант. Ирина всю жизнь сторонилась вот таких, одетых в фирму, курящих «Мальборо», а печальный красавец и вовсе раскатывал на иномарке. Черный лоснящийся «мерседес» – символ благополучия и мощнейших связей.
Красавец с какой-то неожиданной решительностью сам спросил, не нужно ли ей в Москву.
О чем говорили семьдесят километров пути, уже не вспомнить, а вот как около ее подъезда вдруг спросил: «Я подожду, и мы поедем обратно?» – это будет помнить всегда. И как сказала неожиданно где-то в середине обратного пути: «И взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень…» Вот и весь разговор за полтора часа. И то, что было дальше, помнила всегда. Все их встречи, все разговоры, все грязные холодные кафешки, где они скрывались от случайных свидетелей их тайного романа. Даже теперь, спустя… сколько же… почти двадцать лет, иногда вдруг вспыхивали мучительно ярко то солнечный день и какой-то замусоренный пляжик на канале, то аллея Ботанического сада на ВДНХ – их любимого места встреч.
С ним она могла говорить об Антоне, с ним, впервые после смерти Антона, почувствовала, что будто встали вокруг нее защищающие от всех ветров стены. Они говорили обо всем: о болезнях его жены, об учебе его детей, о жизни его и ее знакомых, о книгах, о том, что происходит в стране, и никогда – о его работе.
Она догадывалась, что он занимается то ли биологией, то ли медициной. Работает в каком-то закрытом институте. Догадывалась и по профессиональному интересу к ее заботам по службе, и по осведомленности в последних достижениях естественных наук.
Это он посоветовал ей заняться проблемой сновидений, объяснил, с чего начать и как организовать эксперимент, это он был лучшим советчиком, и лучшим болельщиком, и лучшим ее мужчиной. То, что происходило между ними в постели, было больше страсти, больше наслаждения, больше забытья. Да и не было забытья, как с Кольчецом, когда уже не понять, чьи руки, чьи губы, чей голос, потому что главное и накрывающее, как огромная волна, происходило с ней. Она всегда ощущала, понимала, не забывала, что рядом Леня. Это на его плече засыпала и просыпалась, это его глаза смотрели на нее неотрывно, это на его груди, плечах, ногах увидела однажды огромные розовые волдыри.
Это случилось после того, как встретились неожиданно на симпозиуме. Его объявили профессором университета, и краткое сообщение о новых частицах было полно ссылок на какие-то неведомые журналы и источники. В перерыве он был окружен подобострастно оживленными коллегами. Ирину поразило, что среди окружавших были академики.
Наталья, только что появившаяся в лаборатории, юная дипломница, знающая все обо всех, назвала его «длинным дядей» и высказала предположение, что именно он в ближайшее время займет пост директора их института.
– Времена меняются, и одиозные мудаки вроде нашего шефа должны уйти, они свое дело сделали – мясники примитивные, а на смену им должны прийти вот такие элегантные, лощеные тонкачи вроде Леонида Осиповича. Другой класс – работа под куполом без лонжи.
Разговор был сугубо приватный: сидели втроем на кухне у Ростислава. Странный был этот Ростислав: холостяк, владелец несметных богатств – он собирал старые книги, лубок и гравюры.
– На оклад завлаба? – спросила однажды как бы между прочим Ирина.
– Коллекционирование – это загадка для непосвященных, – пояснила Наталья, – и разгадывать ее дело безнадежное. Это как играть на скачках: взлеты, падения, удачи, разочарования.
В лаборатории Ростислав говорил только о деле и по делу, но и на своей территории был тоже немногословен.
Праздновали его день рождения. Стол поразил обилием икры, каких-то заморских консервированных деликатесов и старинным корниловским фарфором. Ростислав был учеником Натальиного папаши, и, похоже, этому обстоятельству она была обязана своим распределением в лабораторию.
Под Натальины чрезмерно смелые разглагольствования Ростислав наливал себе рюмку за рюмкой и, глядя куда-то поверх голов нарядных гостей-сослуживиц, осушал рюмки. Не пьянел, только стекленел как-то. Да он вообще был какой-то стеклянный – полый – бесполый.
– А почему этот Леонид Осипович – длинный? – спросила Ирина.
– Милая Ирина Федоровна, – протяжно пропела Наталья, – неужели вам не надоело п…еть в институте? Зачем здесь-то при своих?
Ирина поняла, что она тоже пьяна и что пора, кажется, оставить ее вдвоем с Ростиславом, потому что он влюблен в эту длинноногую, всегда одетую по последней моде, разухабистую умницу – смертельно. Все это понялось как-то разом, едино, «в комплексе», как сказал бы шеф, и еще Ирина поняла, что непонятным, таинственным образом Наталья знает о ее долгом романе.
А очень скоро после этого междусобойчика Ростислав наложил на себя руки. Точнее, покончил с собой, выпив какие-то таблетки. Все свои богатства он завещал своему учителю – читай, Наталье.
Наталья взяла месяц за свой счет, впервые выглядела испуганной и затравленной.
В последний день перед отпуском столкнулись в туалете.
Наталья как-то криво улыбнулась ярко нарисованным крупным ртом и вдруг обняла Ирину, будто вцепилась.
– Я не могу, не могу, – шептала она, – я не хочу! Я говорила ему, – не хочу ничего знать! Даже в его последний день говорила и спаслась, а он… погиб… погиб… и я опять не хочу ничего знать!
– Тише, тише, – шептала Ирина, – тише, моя девочка, не терзай себя, ты была бы с ним несчастна, нет ничего страшнее жизни с алкоголиком…
– Ирина Федоровна, вы дура или притворяетесь? – глухо спросила Наталья, не отрывая лица от плеча Ирины.
Ошарашенная Ирина молчала, и тогда Наталья, отстранившись от нее и поправляя перед зеркалом с профессиональной точностью грим, холодно сказала:
– Есть много вещей в этом мире, мой друг Горацио, пострашнее алкоголизма.
Кажется, довольно скоро после этой сцены в туалете Ирина и увидела волдыри на груди Лени.
– Погоди, – она поднялась с подушки, села, – это же крапивница, классическая крапивница в очень жестокой форме. Что ты ел?
– Все, что обычно, ничего нового.
– А это давно?
– Третий или четвертый день.
– Ты нервничал? Что-нибудь дома?
– Дома все нормально. Я не нервничал. Иди ко мне. Не надо поликлиники, хорошо? Запиши меня на прием на вторник, нет, лучше на субботу.
На дворе была среда.
В субботу он позвонил непривычно рано, сказал, что будет минут через десять-пятнадцать. Спросил, не купить ли что по дороге.
Она еще не ходила в магазин и потому что-то заказала, сама же решила быстренько сбегать на угол в кулинарию.
Кулинария не подвела, и через десять минут с двумя маринованными цыплятами в пакете она влетела в подъезд. Кнопка лифта горела, и она помчалась на третий пешком. Надрывный кашель доносился с площадки третьего. Кого-то терзало удушье.
Она не сразу узнала Леню в человеке, привалившемся к стене. Он был в каком-то новом, приталенном и удлиненном пальто, в клетчатой английской кепке, которую давно не надевал. Но дело было не в пальто, и не в кепке пижонской. Леня так кашлять не мог. Она быстро открыла дверь, помогла ему войти, усадила на стул в прихожей.
– Чепуха какая-то, – бормотал он в перерывах между приступами, – я же нигде не мог простудиться.
Ирина вернулась в прихожую в накрахмаленном «парадном» халате.
– Раздевайтесь, больной… Так… А теперь скажите «а-а-а».
Вся слизистая была поражена, а волдыри на теле потемнели и расползлись.
– Доктор, мой приятель говорил, что когда у него кашель, он идет к любимой женщине и все проходит. Я спросил ее адрес, а потом вспомнил, что у меня есть своя любимая. Острый случай, имею право.
– Случай действительно острый. У тебя отек Квинке.
– Отека Квинке нет. Просто очень сильная аллергия.
– На что?
– Вот это хороший вопрос. На жизнь.
Она вкатила ему сильную дозу супрастина, он лежал, глядя в потолок. Она присела на кровать.
– Слушай, ты, конечно, слышал, что при такой сильной аллергии полагается очистить желудок. У меня все готово. Повернись на бок, я подстелю клеенку, и ты даже не заметишь…
– Ты действительно хочешь это сделать?
– Что значит хочешь? Нужно. Повернись, пожалуйста.
– Ты действительно…
– Больной…
– Это лучше сделать в ванной.
Он встал и голый прошел через комнату. В ванной он включил воду на полную мощность.
– Ты действительно меня любишь?
– Да ни одной минуты. Пожалуйста, вернись в постель. – Она потянулась выключить воду, но он задержал ее руку. Глаза у него уже были чуть замутнены супрастином. Он притянул ее к себе и прошептал на ухо:
– Ты знаешь, из меня хотят сделать что-то вроде доктора Камерона.
– А кто это такой? – в ужасе спросила Ирина.
Она так много видела помешанных и так хорошо знала неожиданность этой беды, что в отчаянии затихла в его руках.
– Вспомни. Скандал в Канаде. Процесс.
– Да, да… но ведь это было давно, лет десять назад, и я была уверена, что это наши журналисты, ну пропаганда придумала все эти ужасы. Неужели…
– Я хочу спать. Потом. Потом…
Потом, утром следующего дня, когда думала, что бред прошел, растворился во сне, Леня вдруг сказал:
– Поедем куда-нибудь подальше, на свежий воздух, погуляем.
– А тебе не надо позвонить домой? Наверное, волнуются…
– У меня нет больше дома. Я ушел.
– Как это? – глупо спросила Ирина. – Как это ушел? А дети?
– Дети? Какие они дети – взрослые мужики, и все, что можно было получить от меня, они получили, на десять лет вперед хватит.
– Не понимаю…
– Потом, потом.
В Саввино-Сторожевском монастыре они долго ходили молча вдоль облезлых древних стен. Ирина ждала. И вот в глухом, замусоренном углу, возле проема, сквозь который открывался запечатленный Тарковским пейзаж поймы, он сказал:








