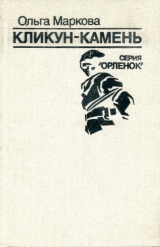
Текст книги "Кликун-Камень"
Автор книги: Ольга Маркова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
XIX
Начиная с первого мая шестнадцатого года уральские большевики жили особенно напряженно. Появился опыт, забастовки становились настойчивыми и продуманными.
Пропагандисты Екатеринбургской организации не сидели на месте: поехал один в Ревду – вспыхивала забастовка в Ревде; второй поехал в Миньярский завод – забастовка в Миньяре. Рабочие понимали смысл своего протеста – не дать выполнить хозяевам военные заказы, сорвать работу транспорта, обслуживающего нужды войны.
Малышев с Вайнером принимали у Давыдова связных из Кургана, из Верхней Туры, без конца печатали на гектографе листовки. На всех мелькали слова:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь! РСДРП. Екатеринбургский комитет».
«…Уже более двух лет, как льется потоком человеческая кровь… Миллионы разоренных жизней, калек и сирот – результат этой ненужной для народа бойни».
…Вошли Кобяков и Вессонов. Последний возбужденно сообщил:
– Слышь, братцы, внимание нам оказывают: в комитеты промышленные зовут…
Иван Михайлович отложил валик, встревоженный тем, что Вессонов с Кобяковым вместе.
– А ты обрадовался, Степан?
– А как же? Впервые… не погнушались…
– Не погнушались, говоришь? Этот военно-промышленный комитет обслуживает войну! Участвовать в нем – значит изменить делу социализма!
Вессонов впился взглядом в лицо Кобякова. Потом согласно кивнул Малышеву:
– Я понял, Михайлыч, все… И кое-что еще…
Давыдов вставил:
– У нас есть партийная директива: бойкот этих комитетов. Мы будем принимать участие в выборах выборщиков, чтобы легально разоблачать эти комитеты.
– А по-моему, – участвовать в них! – вступил в разговор Кобяков. – Рабочие группы в них будут организующим центром!
Давыдов сидел неподвижно, уткнувшись подбородком в грудь, сложив руки на коленях. Говорил медленно, от гнева перехватило дыхание:
– Это на предательство похоже.
– Будем на них опираться и возродим рабочее движение. Смотри-ка, начиная с войны, оно глохнет. Нет, я, например, войду в рабочую группу, – убежденно продолжал Кобяков.
Насмешливая улыбка скользнула по лицу Малышева, застыла в глазах.
– Это похоже на измену, Николай прав.
Кобяков ушел, хлопнув дверью.
Вайнер сердито проворчал:
– Считает себя умнее всех!
– Как все тупые и ограниченные люди, – вставил Давыдов.
– Надо очистить нам организацию от всякой швали!
– А мне вы дайте дело, да потруднее. Справлюсь я… – неожиданно заявил Вессонов, вскинул глаза на товарищей.
– Дадим, – ответили те.
Дома Иван рассказал Наташе о Кобякове – с насмешкой, о Вессонове – с гордостью. Они молчали. Нужно вывести, наконец, жену из этого состояния. Иван вполголоса запел:
Тяжело, братцы-ребята,
Тяжело на свете жить,
Зато можно ведь, ребята,
В вине горе утопить.
В утешенье нам дано
Монопольское вино.
Наташа спросила скупо:
– Откуда это?
– Пьяный пел.
Наташа видела, что муж после болезни все еще не оправился, бледен и худ.
– Посиди дома хоть вечер…
– К солдатам на плац надо, – сказал он, одеваясь. – Посмотрю… как там сегодня…
– Отдохнуть тебе надо. Взгляни на себя, серый весь.
Эта забота была неожиданна и приятна.
– Да что ты, я здоров, смотри! – Он схватил ее, закружил. – Видишь?
– А может, я с тобой пойду?
– Нет, Натаха, это сложно…
Он шел по улице и думал о том, что сегодня Наташа хорошая, прежняя, хоть какая-то тревога и живет в ней.
Моросил мелкий дождь, совсем осенний. Иван Михайлович удивился: «Разве уже прошла весна? А может, и лето прошло?» – И оттого, что жизнь такая стремительная, бурная ему стало весело.
На плацу был перерыв между занятиями. Солдаты не первый раз видели Малышева и сразу же окружили его, наперебой начали рассказывать:
– Утром здесь кто-то к столбу прибил фанерный щит, а на нем написано: «Долой самодержавие! Долой войну! Да здравствует революция!»
– Неужто? – удивился Малышев.
К солдатам бежал командир. Они оттеснили Ивана Михайловича к лесу, плотной стеной оградили его.
– Уходи, мы его задержим!
Снег дружно обложил город сугробами, облепил окна. Снова удивился Иван тому, что вот и зима подкралась незаметно.
«Изволите исподтишка нападать, сударыня? – шептал он, радуясь морозу, как радовался каждый год и теплу, и звонкой весенней капели. – Втихаря? А нам не страшно!» – Он сдвинул шапку на затылок, расстегнул пальто и бодро вытаскивал из суметов ноги.
«Мы вот завтра организационное совещание проведем… Уже приехали товарищи из районов. Обсудим итоги Циммервальдской и Кинтальской конференций. Изберем временный комитет по подготовке нашей местной конференции… Зима ли, осень ли, у нас все идет своим чередом! Трудно, но зато нам все ясно. Мы свою линию знаем!»
Ничто не напоминало так Фоминку, как зима: заносы, хруст снега под ногами, мороз – дыхание захватывает, ряженые, тройки на масленой. «А что, если и сейчас? Дать всем отдохнуть хоть час… снять напряжение, а? Если бы в лес! Встретить Новый год. Трудно достать лошадей? Да неужели наши орлы лошадей не найдут? Найдут…» – Решение окрепло: под Новый год по лесным дорогам жандармов не будет!
Малышев посмеялся над собой: осталось еще в нем ребячество, еще может вести разговор с зимой, как когда-то вел его с давно умершей Надеждой Половцевой, мечтать.
Встречные оглядывались на него с улыбкой. Вот и Вычугов широко улыбнулся ему.
– Слушай, друг Костя, организуй для нас завтра, под Новый год, пары три лошадей!..
– Для чего, Иван Михайлович? Не масленая ведь…
– Выедем к Деду Морозу. Новый год встретим…
Простое русское лицо Кости вспыхнуло от готовности помочь.
– Будет сделано, Иван Михайлович. Только, чур, я на одну пару – вместо кучера.
– Идет. Лошади чтобы – огонь, кошевки ковровы…
Подмигнув друг другу, «заговорщики» разошлись.
…Как раздобыл лошадей Костя, Малышев так и не узнал. Но лошади были и купеческие, и ямщицкие.
…Бубенчики на лошадях весело звенели. Одна пара за другой мчались по блестящей дороге.
Морозная ночь сияла, зажигалась звездами. Вокруг полного месяца кружилась пелена.
Иван ехал в первой кошеве.
Наташа ехала в последней. Сама правила.
Приникнуть бы сейчас к нему и молчать под серебряный звон бубенчиков, под быстрый скрип полозьев. Ехать и ехать, глядеть на звездное небо, на звездный снег.
Ели нахлобучили белые шапки, опустили отяжелевшие под снегом лапы, стояли завороженные. На фоне снегов видно, как из первой кошевы вывалился человек, прыгнул на лету во вторую, через какое-то время – в третью. Уши от шапки болтались, пальто распахнуто.
«Что они за игру затеяли?» – Наташа подалась вперед, ждала.
Снова из кошевы выскочил человек в распахнутом пальто.
«Да ведь это Ванюша!» – Наташе стало вдруг жарко. Скинув тулуп, она вытянула шею, чтобы не пропустить ни одного движения того, кто прыгал впереди из кошевы в кошеву.
«Это ведь он меня разыскивает», – догадалась Наташа. Радость залила ее. Хотелось закричать: «Я здесь!» или выпрыгнуть из кошевы и бежать навстречу и кричать: «Я с тобой, милый!»
Лес был так хорош, что хотелось ехать в самую его нескончаемую ледяную глубину. Вдвоем.
«Вот сейчас Ванюша запрыгнет в мою кошеву, скажет: «Где ты здесь у меня?» Завернет в свой тулуп, и мы помчимся в блестящую сугробную сосновую ночь!»
Иван вскочил в ее кошеву, как она хотела. Закутал ее в тулуп, как она хотела, и сказал, как хотела она:
– Ну-ка, где ты у меня?
От него несло морозом, свежестью.
И он сказал еще:
– Ты знаешь, мы сейчас обо всем договорились окончательно: конференцию проводим пятнадцатого января семнадцатого года! Семнадцатый! Что-то он нам принесет! Ах, Натаха, очень важная то будет конференция! Наконец создадим мы областной партийный комитет.
Наташа покорно вздохнула.
Скрипели полозья. Звенели бубенчики. Лес сверкал и манил, манил.
…До конференции всего сутки. Двадцать четыре часа. В сотый раз Малышев с товарищами пересмотрели вопросы повестки. Он чувствовал особый прилив сил и был уверен, что с ними ничего дурного не случится. Им не хотелось расставаться. Возбужденно размахивал руками Лепа и говорил:
– А мы тебя, Иван, домой проводим. Может, еще что не предусмотрели, надо обдумать.
Вот он всегда так, хороший Лепа: всегда нужно ему тысячу раз все пересмотреть, предупредить события. Иван подумал: «А это черта отменная. Мне обязательно надо ее усвоить…»
Катя Кочкина шла рядом с Мокеевым и чему-то тихонько смеялась.
Ливадных обернулся к Ивану:
– Хороша у тебя квартира… Флигелек в глубине двора. Удобно…
– Тс-с…
«Да, легче из моей квартиры уходить».
Наташа встретила их с бледной улыбкой, молча указала вокруг. Квартира была перевернута, вспорот матрац, пучками валялось мочало. Книг на окне не было.
– Шарили? А ты вперед не пускай их… стань у дверей и помелом, – рассмеялся Иван.
Из-за ширмы, отделяющей кухонку, вышли двое полицейских.
– Ах, вот в чем дело! – воскликнул Малышев.
Его спокойствие привело Наташу в себя. Она спешно начала собирать вещи Ивана – смену белья, полотенце, носки – в вещевой мешок. Он ловил ее взгляд, чтобы узнать, спасен ли шрифт. Она поняла, бросилась к квашне, которая закисала на плите, помешала мутовкой, выразительно глядя на мужа. Ему стало весело.
«Успела, спрятала шрифт в тесто… Умница…» Вслух он сказал спокойно:
– Бритву не укладывай. Бритву отберут: как бы Малышев себе глотку не перерезал.
– Не разговаривать! – прикрикнул один из жандармов.
Иван добавил, улыбаясь:
– Положи Евангелие… – и жандармы успокоились.
Наташа тоже чуть заметно улыбнулась: знали бы эти ищейки, какое это Евангелие: вперемежку с главами Евангелия в книгу вплетены страницы из Ленина.
– До свидания, «незаконная».
Товарищи топтались на месте. Мрачковский Сергей все подвигался к выходу. Но около двери стал полицейский, широко расставя ноги.
В длинном зимнем пальто – на карауле воротника и на шапке не растаял еще снег – Иван казался Наташе таким худым и бледным, что она всхлипнула. Он строго посмотрел на нее.
Семерых большевиков вели к тюрьме. Завывал ветер, мел поземкой, сшибал с ног. Мощные вихри завертелись вокруг арестованных.
Малышеву казалось, что и снежная ночь, и свист метели, и жандармы – все это бред, некстати, не вовремя этот арест.
Упала Катя Кочкина. Малышев помог ей подняться. Через протяжный гулкий голос метели едва слышались его слова:
– Потерпи, Катя… скоро уж, скоро. Похоже, нас предали. – И опять всплыли в памяти давно слышанные слова, и он сказал: – Тюрьма – это временное препятствие для революционеров!.. «Дядя Миша! Мудрый дядя Миша! Как многим я обязан тебе».
Лепа хмуро бросил:
– Вот тебе и «хороша квартира, Иван!»
– Да уж!
Поземка рыскала, вертела снега, била по коленям. Ветер запутывал юбки в ногах женщин, пронизывал до костей.
Сквозь метель едва различались огни в окнах домов.
Оторваться сейчас от работы! Тяжелее этого, кажется, ничего не было в мире.
Вот она – тюрьма, каменный двухэтажный корпус.
Здесь арестованных разделили.
Женщин увели в небольшое деревянное здание рядом, обнесенное высокой стеной.
В одиночке горела керосиновая лампа, пахло сыростью и мочалом. Новая рогожа лежала на топчане вместо матраца. Запах мочала опять напомнил Фоминку, детей, белоголовую Симу Кочеву, Дашутку-сироту: «Выросли, наверное, дети. Интересно, какими они стали?»
Скоро запах мочала смешался с обычным тюремным запахом грязи.
Начальник отделения, костлявый человек с плоским затылком, чаще других требовал к себе Малышева: уж очень заметный молодой человек, беспокойный, все время поет. Песни скромные, без вызова: «Ревела буря, дождь шумел…»
Можно было запретить петь. Но пусть уж лучше поет, чем бастует.
Начальник почти каждый день спрашивал, где скрывается Толмачев. Иван ликовал: значит, Толмачев на воле. Не так давно он был в Екатеринбурге. Заметив особый интерес к нему полиции, товарищи потребовали от него уехать, скрыться.
Значит, ему это удалось.
Начальник с любезной улыбкой обещал Ивану Малышеву похлопотать о сокращении срока, если он скажет, откуда в тюрьму проникают политические новости.
Тот слушал его с вежливым вниманием, пожимал плечами:
– Сам не понимаю… – а возвращаясь в камеру, нетерпеливо ждал, когда же принесут передачу.
Связь с волей была хорошая, хотя передачи тщательно просматривали. В чайнике железным прутом проводили по дну, взбалтывали молоко.
Малышев стучал в стенку соседям:
– Начальник отделения свободу сулит за предательство, купить хочет. Свобода сама к нам придет! Сообщите женщинам…
Из одиночки опять несся его легкий голос:
С рассветом глас раздастся мой,
На славу и на смерть зовущий.
XX
Свобода пришла.
Второго марта всю тюрьму всколыхнула весть: пало самодержавие.
С улицы нарастал гул голосов, долетали победные крики, обрывки песен.
Надзиратели открывали камеры политзаключенных. Начальника отделения била икота. Ворот кителя расстегнут, лицо вытянулось.
– По ннеккоторым обст-тояттельствам ввыпускаем вас нна волю…
Иван не мог пропустить случая посмеяться. Лукаво спросил:
– Очевидно, вы нашли кого-то, кто вам сказал, как проникают в тюрьму политические новости?
Начальник отделения побледнел. Говорить он не мог, зубы отбивали дробь, икота усиливалась.
А к тюрьме подступали демонстранты. У каждого на груди красный бант, повязка через плечо, красные ленты пересекали шапки. Арестованных встретили победными голосами. Крики радости, отчаянные аплодисменты, топот ног – все слилось в один сплошной радостный гул. Многие в толпе крестились, обнимали друг друга; некоторые стояли словно в оцепенении.
– Ваня! Сергей!
– Наш Миша! Сергей! Катя!
– Здравствуй, Иван Михайлович!
Их окружили друзья. Тесным кружком повели впереди колонны на митинг в Народный театр.
По улицам суетливо бежали люди, доносились приглушенные голоса.
Театр был переполнен. Заняты были все проходы. Казалось, балконы сейчас рухнут, провалятся.
Главный бухгалтер фирмы Агафуровых Евдокимов кричал со сцены:
– Господа! Нельзя сомневаться в искренности Временного правительства! Оно революционно. Войну надо поддерживать до победного конца! Будем ждать, когда правительство разрешит все вопросы революции… Нельзя преждевременно требовать введения восьмичасового рабочего дня и повышения зарплаты!
Его слова перекрыл оглушительный свист.
Рабочие на руках снесли на сцену Малышева.
– Иван Михайлович, говори!
– Рассказывай, Иван!
Волна тепла охватила сердце, стеснила грудь.
– Вы слышите, на чью мельницу льет воду Евдокимов? Только большевики несут правду народу.
Кобяков что-то кричал, то и дело вскакивая с места, но его усаживали.
Слова его тонули в общем шуме:
– Предатели! Изменники!
– Война им нужна! Пусть сами и воюют! – раздавались в ответ голоса.
Иван говорил:
– Интересно получилось: большевики руководили борьбой с самодержавием, умирали в боях, переполняли тюрьмы и ссылки, а меньшевики и эсеры захватили депутатские места. Они хотят выгрести жар чужими руками! Кричат, что восьмичасовой рабочий день вводить преждевременно, им же надо обеспечить войну! Умирайте, рабочие и крестьяне, лейте кровь, трудитесь на войну здесь по семнадцать часов. Это оборонческо-соглашательская тактика. Мы будем бороться за демократический мир против империалистической войны.
Наташа то и дело вытирала глаза и неотрывно глядела на мужа.
Что-то опять пытался возразить Ивану Кобяков, но от него просто отмахнулись:
– Эй ты, «основа прогресса», заткнись!
Выскочил на сцену Степан Вессонов и крикнул:
– А я вот думаю, товарищи, они, эти… – Вессонов кивнул в сторону Евдокимова и Кобякова, – они ведь будут людям мозги засорять. Их ведь не проконтролируешь. Нам надо создать временное бюро, наше, большевистское, чтобы оно направления давало, кому говорить на собраниях и митингах.
– Правильно-о-о!
– Верно, Вессонов!
Тот, радуясь, что догадался о создании бюро, продолжал, рисуя картину позора меньшевиков и эсеров.
– Как придут к рабочему люду, так их и спросят: «А направление от большевиков у вас есть? Ах, нету?.. Ну и… вали, ребята!» Уйдут все до одного. Пусть друг перед другом губами-то шлепают! – Вессонов дважды хлопнул впустую губами под оглушительный хохот собрания.
Временный комитет был создан на другой день на открытом партийном собрании, и председателем его был избран Иван Малышев.
Через неделю, шестого марта, Парамонов, Малышев и Мрачковский с группой вооруженных солдат направились в канцелярию жандармского ротмистра.
Из трубы на улицу вылетали вместе с дымом хлопья сожженных бумаг. Начальник отделения в своем кабинете сжигал в пылавшей голландской печи секретные архивы; бумага, как живая, корчилась в пламени.
В соседней комнате солдаты из тюремной охраны чистили и смазывали винтовки.
Анатолий Парамонов первый вбежал туда с маузером в руке:
– Что вы делаете?
Охранники вразнобой ответили:
– Ружья чистим!
– Давно вас ждали! Хотим оружие сдать в полном порядке.
Парамонов разоружил охрану.
Красная лента через плечо опушенного полушубка, решительный вид этого красивого парня – все привело начальника в смятение.
– Списки провокаторов сжигаешь? – спросил Парамонов.
Начальник протянул ему несколько листов бумаги. Бумага в его руках мелко дрожала.
– Сядь, не мельтеши! – приказал Парамонов, указав маузером на стул, и уткнулся в листы глазами.
Большое тело начальника отделения обмякло на стуле, толстая шея ушла глубоко в плечи. Неожиданно Парамонов рассмеялся:
– Тут вам было еще одно предписание: арестовать Вайнера, арестовать Давыдова и Парамонова. Вы почему не исполнили этого приказа? – спросил он.
– Нне хоттел оголять ппартию…
Малышев и Парамонов дружно рассмеялись.
– Скажите, какая деликатность!
– Может, не успели?
– Мможет…
– Или через слежку хотели узнать, с кем мы связаны? Так?
– Ттак…
Парамонов снова рассмеялся:
– Да не дрожи ты!
– Тогда не машите этим… он может и выстрелить.
– М-может, – не без лукавства протянул Парамонов. Жандармов отправили в тюрьму. Архивы опечатали.
Возвращались домой, весело переговариваясь:
– Он партию нашу не хотел оголять!
– Ты, Толя, здорово его маузером-то пристращал!
– Да я и не махал им. Начальнику просто со страху показалось.
У хлебной лавки толпился народ. Мобилизации выхватывали с заводов людей. Угля и руды недоставало. Домны стояли. Выплавка чугуна сократилась. Запустение и упадок. Посевы крестьяне уменьшили. А хлеб нужен каждый день. Каждый день. Один Нижний Тагил требовал ежемесячно муки полтораста вагонов, а получал только шестьдесят. Цены на муку увеличились в пять раз.
Веселость комитетчиков упала.
В толпе похаживал городовой.
– Господа, спокойнее, а то отпускать не будем! Ни муки, ни сахара! Пейте чай тогда с сахарином или, как пролетарии говорят, «с удовольствием»!
Парамонов, оглядываясь на городового, сказал:
– Завтра же надо заменить этих архангелов своей милицией из добровольцев!
На ходу в переговорах намечались большие планы.
– Политическую власть за собой надо укрепить. Не стройте иллюзий: буржуазия без боя не сдаст своих позиций. Нам придется пролить немало крови, прежде чем мы укрепим за собой политическую власть!
Партийная организация крепла, люди росли, внутренне обогащались, быстрее находили нужные доводы в теоретических дискуссиях с эсерами и меньшевиками, легко «выбивали их из седла», как говорил Лепа.
Николай Крестинский, Лев Сосновский, Павел Быков только что вернулись с Всероссийского совещания большевиков и теперь вели большую агитационную работу. На первой Уральской конференции избрали областной комитет. Особенно обострилась борьба за Советы после Уральского съезда Советов, где меньшевики и эсеры призывали к поддержке Временного правительства.
Апрель солнечный, сияющий. Дороги размокли.
– Скоро мы с тобой, Натаха, ни одного хорошего вечера не пропустим. Гулять будем, в театры ходить, в кино, – помечтал как-то Малышев.
– До женитьбы с тобой хоть гулять ходили. Женился – переменился…
– Трудно выбрать время… Сейчас горячая пора…
Наташа влюбленно глядела на мужа: не жалуется он, нет. Счастлив, горд, собран и переполнен радостью.
Иван пригрозил:
– И будет еще горячее. Знаешь, Наташа, кто приезжает? Свердлов! «Андрей». Он поведет областную конференцию. Мы уже инструкторов послали в города для выборов делегатов. Первая свободная конференция уральских большевиков!
…Иван был полон радости от встреч со Свердловым.
Голос Свердлова густой, сильный. В Екатеринбурге его знали все. Еще в революцию пятого года он создавал и укреплял большевистскую организацию. Знали и любили.
Приезд Свердлова был очень кстати: на многих заводах не восстановлены еще разгромленные при царе большевистские организации. Есть организации, объединенные с меньшевиками, наблюдаются колебания.
Около здания, где проходила конференция, сгрудился народ. Взволнованный, Иван вошел в зал.
Вот они, делегаты. Испытанные, закаленные люди. Они поведут теперь самые тяжелые и ответственные дела! Но даже среди них попадаются маловеры.
Огорчительно, что Мрачковский не хотел размежевания с меньшевиками. «А нам нужно, нужно с ними размежеваться!»
Малышев задыхался: тяжело, когда изменяют свои. Нет горшей обиды.
Мрачковский кончил говорить, сел рядом и посмотрел на Ивана. Тот не выдержал и бросил ему в лицо:
– Закачался, Сергей?! Не выйдет!
– Может, я и не прав, – растерянно отозвался тот.
Молча посмотрели друг на друга, чувствуя, что они на волосок от полного разрыва.
Выскочил на трибуну тагильский меньшевик, закричал: «Нам надо поддерживать Временное правительство постольку, поскольку оно выступало против старого режима!»
– Никаких «постольку-поскольку!» – категорически произнес в ответ Свердлов. – Разве Временное правительство разрешит задачи, которые стоят перед русской революцией? Не можем мы верить Временному правительству! Революция пойдет вперед, и задача наша – отдать власть пролетариату и крестьянству! Мы пока не зовем к свержению правительства, но поддерживать его не можем.
В один из перерывов Малышев повел Свердлова в общежитие делегатов. Якова Михайловича все интересовало: как делегаты жили во время реакции? кто был в тюрьме, в ссылке? как сейчас работается?
Конференция, встречи с Андреем придавали Ивану сил.
– Мы – уральцы… Мы теперь крепче, сплоченнее… Нас больше! Недавно нас было сорок. А теперь в партии шестнадцать тысяч человек! И каждый – боец!
Рабочие тоже выросли, легче разбирались в сложных вопросах и все настороженнее относились к призывам эсеров и меньшевиков.
Власть в Совете рабочих депутатов сосредоточилась в руках большевиков.
Оживленно и неспокойно в доме Поклевского, в комнатах Совета и комитета.
– Теперь первая задача у нас – организовать Советы в Сысерти, в Полевском, в Уфалее…
– И обеспечить большевистское руководство!
– Всюду создать рабочую милицию.
Эсеры и меньшевики тоже не дремали. Где могли, захватывали Советы.
– В Перми – двоевластие!
Большевистских депутатов отсылали на фронт – шла борьба за них.
Буржуазия в Екатеринбурге пыталась разогнать Совет, клеветала на него. В мае на заседание Совета эсеры привели несколько воинских частей и потребовали его роспуска. Пять часов шли споры. Большевики вынуждены были отступить перед силой.
Чем напряженнее жилось, тем спокойнее и сосредоточеннее становился Иван Михайлович. От него веяло силой и убежденностью.
– Борьба не закончена… Жестокая она будет… но ведь все равно мы свой социалистический строй водворим на земле, – говорил он.
За эту спокойную уверенность и любили его товарищи.
Депутаты-большевики разошлись по фабрикам и заводам. Борьба с двоевластием не прекращалась. Необходимость завоевать массы определила новую задачу – создавать профсоюзы. Голощекин, Вайнер и Малышев взяли на себя эту работу.
Но и это не прошло без борьбы, без ежедневных столкновений с эсерами, которые призывали к нейтральности профсоюзов, против рабочего контроля на заводах.
Разъездные инструктора создавали всюду большевистские организации и Советы.
Совет демократизовал милицию, отбил право на аресты по политическим вопросам, создал следственную комиссию, чтобы пресекать контрреволюционную работу, ввел восьмичасовой рабочий день и рабочий контроль. Вот этому буржуазия особенно сопротивлялась, а эсеры и «меки», как в народе звали меньшевиков, помогали ей.
При Екатеринбургском Совете создали Конфликтную комиссию. Ею руководил Вайнер.
– Веди, Леонид, – сказал ему Павел Быков, энергичный, сурового вида гигант. – Вот увидишь, к тебе с конфликтами рабочие из других городов пойдут…
Это пророчество председателя исполкома скоро оправдалось. Он вообще удивлял всех даром провидения. Когда назначали большевика Войкова руководить продовольственным комитетом, Быков сказал:
– Веселая тебе, друг, работка досталась, с кулаками в деревнях повоюешь… – и эти слова также оказались пророческими: кулаки припрятали хлеб, и рабочим районам он почти перестал поступать. Войков организовал обмен изделий заводов в деревнях на продукты питания, чем избавил народ от голода.
Малышев все замечал, каждой черте в характере своих товарищей радостно удивлялся. Он и сам пытался предрекать события, как Быков. Сыромолотову, комиссару отдела финансов исполкома, Иван сказал:
– Собирать тебе, Федич, по рублику, по копеечке всю твою жизнь!
Черная кожаная куртка на Федиче всегда расстегнута, с широкого лица не сходила улыбка. Остряк, поэт, он тут же нашелся:
– Ничего. Каждую копейку теперь рублевым гвоздем прибьем!
Когда Голощекин возглавил комиссию по реорганизации народной милиции, Малышев снова «предрек»:
– Ох не легко тебе окажется, Филипп! Хулиганство сейчас расти будет: так слабосильные новую власть проверяют…
Голощекин – высокий плотный красавец – подхватил шутку:
– У нас и на многосильных сила найдется.
Они внимательно и любовно посмотрели друг на друга.
Им всегда было интересно вместе, всегда было о чем думать, обсуждать общие дела. Часто, не договорив, они сопровождали кого-нибудь домой, в спорах и мечтаниях не замечая дороги. И на этот раз с Иваном к его дому шли товарищи.
– Сейчас мы обмозгуем, куда еще послать своих комиссаров… – Малышев счастливо рассмеялся: – Натаха меня ждет, наверное, вот как!
Наташа ждала. На столе кипел самовар, в комнате все блестело.
Молча обнялись Малышевы и долго стояли без слов, окруженные друзьями.
Скинув пальто, Иван сел на кровать. Такого никогда не было, чтобы он одетый сел на кровать. Улыбаясь, посмотрел на жену, на друзей, склонил голову к подушке и мгновенно уснул.
…Очнулся он, когда в комнате уже никого не было. Одна Наташа дремала на стуле. Но сразу же подняла голову, как только муж шелохнулся.
– Все уже ушли? – тихо спросил он.
Наташа улыбнулась.
– Милый, уже шесть часов утра…
Ивана словно окатили кипятком:
– Как? Я уснул?
Наташа кивнула.
– Я развалился на кровати, а ты просидела всю ночь, боялась меня потревожить? Я обещал тебе быть вместе в этот вечер?
– Да.
– И я уснул!
– Мы были вместе, Ваня.
– Я – негодяй… Я даже не смею просить у тебя прощения. А сейчас мне опять нужно бежать. Сегодня городская конференция большевиков.
– Ты хоть ешь где-нибудь? – поинтересовалась Наташа.
– А как же! В харчовках, на Покровском[7]7
Улица Малышева.
[Закрыть] около комитета, где попало.
– Это около моста, в подвале? Напротив дома Поклевского?
– Да.
– Проверю я, как там тебя кормят.
Наташа разогрела чай. Иван ходил за ней от стола к кухне, виноватый, пришибленный.
Наконец она не выдержала, рассмеялась:
– Вот что, Иван: ты никогда ни на минуту не смей думать, что мы не вместе. Где бы ты ни был – мы вместе. Ты понял, соловьиная твоя душа? Мы вместе. Вот сейчас поведешь городскую конференцию. Будешь создавать городской Совет. Но мы вместе. Хотя… И запомни, я в эти дни так много думала, так изучила тебя, весь твой путь прошла; я горда и счастлива, хоть и… Ты понял.
– Да, «незаконная». А что это за такие уклонки: «хоть и»? В чем дело?
– После. Обо всем после…
– Ну, хорошо. Но ты тоже учти, что ты будешь первой законной советской женой! Поняла?
Наташа, всхлипывая от смеха, с непонятной горячностью сказала:
– Оба поняли. А теперь ешь и беги. Не опоздай. А то меньшевики отовсюду вас вытеснят. Нельзя опаздывать.
Хорошая Наташа сегодня, совсем прежняя. Замкнутость ее проходит. Но что-то мучает ее. Что? И взгляд ее бывает часто недоверчивый. Что произошло? Скажет ли? Должна сказать.








