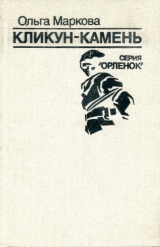
Текст книги "Кликун-Камень"
Автор книги: Ольга Маркова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
XV
В огромном зале страхового общества «Россия» каждый день группами сидели, стояли люди, выясняли какие-то дела. Что особенного в том, если конторщик фирмы братьев Агафуровых Малышев несколько минут постоит рядом со служащим этого общества Леонидом Вайнером или Николаем Давыдовым, машинистом верх-исетской «кукушки»? Бывало, Малышев и Вайнер заглядывали домой к Давыдову. Что в этом особенного? Никто ведь не знал, что на квартире Давыдова они целыми ночами печатали листовки.
Река Исеть и два пруда будто притягивали дома, усеявшие их берега. Большой пустырь отделял город от рабочего поселка Верх-Исетского завода. Четыре церкви блестят маковками. Прокопченные крыши домов высятся, как частокол. За каждым домом – огород.
По вечерам, когда город погружался во тьму, зажигались фонари у заводоуправления, у магазинов.
Верх-Исетский завод как бы втиснулся в берег широкого пруда.
С пригорков виднелись его трубы. Дым, выбуривая из них, таял, расползался, прикрывая небо и землю зыбкой пеленой.
За поселком – торфяники, дальше – увалы, покрытые лесом, – все тут знал Иван Михайлович. Уже и лица встречных были ему знакомы.
Центром подпольной работы большевиков было правление заводской больничной кассы в двухэтажном доме верх-исетских рабочих-большевиков братьев Ливадных по Матренинской улице.
В конце рабочего дня на втором этаже этого дома всегда было шумно.
Под видом литературного кружка Малышев вел занятия подпольного кружка большевиков.
Когда не было занятий, члены комитета все равно каждый вечер приходили сюда. Дом братьев Ливадных для всех стал родным. Вон они – Ермаков, Давыдов, Лепа, слесарь Рогозинников, котельщик Мокеев, Парамонов – секретарь кассы, Мрачковский, Ливадных, Похалуев. Почти все пережили тюрьмы и ссылки. И теперь, если кто-то не приходил в кассу, все волновались. «Не взят ли?»
По утрам Иван, входя в кассу, прежде всего видел глаза Наташи.
Кассирша Наташа Богоявленская – девушка с тугой светлой косой, румяна, улыбчива. Зубы у нее с мелкими зазубринками. Ей можно дать лет пятнадцать, не более.
Отзывчивость этого высокого, спокойного внешне парня привлекала девушку: он всем старался помочь, приносил откуда-то книги для каждого, спрашивал о работе, о семье.
Ей хотелось смотреть на него, говорить с ним. Вот и сейчас она спросила:
– А когда и зачем эти больничные кассы появились, Иван Михайлович?
Иван, подмигнув товарищам, объяснил девушке:
– Это еще осенью двенадцатого года придумали большевики, слыхали про них? Так вот, большевики начали страховую кампанию. Царь испугался, издал закон. С тех пор и создаются на крупных предприятиях больничные кассы для оказания помощи рабочим в случае увечья или болезни. Увечья – на всю жизнь, а помощь на неделю.
– Наши председатели научились для помощи рабочим у заводчиков копейку срывать.
Оба председателя были здесь же. Николай Давыдов, которого когда-то избрали рабочие, не был утвержден губернатором. Его заменили большевиком Михаилом Похалуевым, который во всем советовался с Давыдовым. Рабочие звали того и другого «наши председатели» и были довольны: с их желанием считались, их доверия не обманули.
Костя Вычугов, как всегда, привел в кассу свою невесту Любу Терину, румяную, бойкую на язык девушку, и они, сидя в углу, громко смеялись чему-то.
Кто-то сказал девушке:
– Ты, Люба, от смеха захвораешь, а пособия-то, слышь, малы. Ой, молчу! Смотри, как рассердилась, – из глаз искры!
– Не обожгись! – бросила Люба.
Пока здесь сидела кассирша, занятия не начинали: кто знает, что она за пичуга!
Ее оглядывали порой почти враждебно. А Наташе не хотелось уходить домой, и она без конца проверяла больничные листы, выдачу денежного пособия.
Однако в этот день кассиршу вызвал к себе управляющий горным округом.
Такого еще не бывало. Она испуганно перекрестилась, уходя:
– Господи боже, помоги мне!
Все обеспокоенно переглянулись: «Чего там наскажет эта девчонка?»
Пришел из Уктуса Сергей Мрачковский – один из лучших партийных пропагандистов. Гладко подстриженный, с залысннками. Уши его смешно торчали, серые глаза горячо поблескивали.
На этот раз он привел Игоря Кобякова. Смех и улыбки у всех исчезли. Товарищи переглянулись.
Кобякова не любили. Он развязно начал:
– Зря мы стараемся, ребята… – И это «мы» покоробило Ивана. Кобяков продолжал: – Рабочих не к чему вовлекать в политику, потому как революцию за них прекрасно сделает буржуазия. А мы тут копошимся, думаем, что наш заговор лежит в основе прогресса.
– Помолчи-ка, «основа прогресса!» – проворчал Мрачковский.
С блестевшим от пота лицом и прилипшими ко лбу жидкими волосами, Кобяков говорил не очень последовательно, не обращая внимания на слова Мрачковского:
– В деревне проще. Кулак и бедняк всегда поладят. Кулак же вышел из бедняков! Бедняку прибавить радения, и он через год-два вылезет в зажиточные.
– Интересно, для чего управляющий вызвал Наташу? – спросил Давыдов.
Все с той же непоследовательностью Кобяков обратился к нему:
– Что-то бледен ты, друг, сегодня. Много работаешь, так нельзя!
Его неискреннее участие покоробило всех. Иван насмешливо удивился:
– И что это, Игорь, руки у тебя трясутся? Пьешь, что ли?
Белые трясущиеся руки Кобякова ломали карандаш.
– А что, разве я не прав? Где у нас база для демократической республики? Вы кричите: землю отобрать и отдать крестьянам? Мыслимо ли? Надо добиваться легальной рабочей партии, а не дробить силы на работу в легальных больничных кассах или в профсоюзе.
Иронически поднял густые брови Николай Давыдов.
– Слушайте, здесь больничная касса, а не Государственная дума. Куда вы пришли? И о чем говорите? Сейчас здесь начнет работу литературный кружок, – Давыдов с упреком перевел взгляд на Мрачковского: «Зачем привел этого болтуна!»
– Не бряцай ты эсеровскими-то бубенчиками, Кобяков! – строго сказал Иван. – Выхватил чужие мысли и жуешь их.
– А что, я не прав? – Кобяков смотрел на него наглым, вызывающим взглядом.
Вернулась Наташа, запыхавшаяся от быстрой ходьбы, подавленная. Сказала расслабленно:
– Господи, помоги!
Иван подошел к ней:
– В чем дело, девочка? Ну, не плачь, расскажи. Растрата?
Всхлипывая, Наташа гневно посмотрела на него:
– Что вы, бог с вами, какая у меня растрата? Просто господин управляющий так смотрел, так смотрел! Я, говорит, хочу иметь в кассе своего человека. И я, говорит, вижу, что такой человек есть. Это я, значит. И еще спрашивал – о чем разговаривают на литературном кружке…
– И что же ты сказала?
– А что я могу сказать? – почти раздраженно спросила она. – Читают стишки: «Каменщик, каменщик в фартуке белом…», говорят, какая рифма да размеры. Я же не остаюсь на кружке. А то, что Иван Михайлович мне о кассе больничной говорил, я господину управляющему не сообщала, потому что… ведь большевики кассу требуют, а хозяева ее не любят…
– Верно, Наташа, – улыбнулся Петр Ермаков. Ему лет тридцать пять. Среднего роста, плечист. Черные усики украшали мужественное выразительное лицо. Говорил быстро, обрывал фразу как бы неожиданно. Немного шепелявил.
– Ты, Петро, на митингах чаще выступай, может, шепелявость рассосется, – посоветовал Михаил Похалуев, чтобы переменить неприятный разговор.
– Шепелявость у меня от страха перед женой, – отшучивался Ермаков. – Не женитесь, ребята. Ревнуют бабы, окаянные. Задержишься с вами… а жена – ревнует! Иди доказывай, что не у милашки был… – голос его негромкий, со смешинкой.
– А ты ее в литературный кружок вербуй, – подсказал Кобяков. Все замолчали. – Что вы на меня уставились? – со смехом спросил он еще. – Верно говорю: завербовать всех женщин в литературный кружок – веселее будет!
Ермаков отозвался:
– Ну да, моя жена вам такие рифмы выдаст, что хоть святых выноси!
О жене Ермаков всегда говорил с улыбкой, как говорят о ребенке.
Ермаков – член Екатеринбургского комитета, один из участников в боевых дружинах в пятом году.
Каждый раз при виде его Малышев вспоминал Киприяна. Везет ему на Ермаковых: два революционера Ермаковы – его друзья. Был бы здесь Киприян!
– И вовсе ваша жена не такая, Петр Захарович, – вступилась кассирша. – Я ее знаю. Она – тихая.
– Все вы тихие, – добродушно ворчал Ермаков.
Малышев подошел к столу Наташи и сказал ласково:
– Устала? Уже поздно, шла бы домой…
– Я провожу вас, Наташа, – вызвался Кобяков.
– Я бы посидела еще… Мне интересно, когда вы говорите, Иван Михайлович, – ее глаза, большие, серые, не отрывались от Малышева.
– Скажи, ты где училась? Где раньше работала?
– Училась в прогимназии… У нас большая семья. Я – девятая… с пятнадцати лет работала, вышивке учила…
– Вышивке? – заинтересовался Иван.
Наташа красива. Прямой тонкий нос, твердая складка губ говорили о внутренней силе. Дуги бровей стояли высоко, отчего взгляд казался удивленным. «А что я, собственно, знаю о ней? Верещит под боком пичуга, а мы и внимания на нее не обращаем».
– Потом кассиром-продавцом в акционерном обществе «Зингер», – продолжала Наташа с гордостью, – а теперь уже кассиром и помощником секретаря.
– Сколько же тебе лет?
– О, мне уже много. Семнадцать.
– Да, это много… – с шутливым страхом согласился он. И уже строго сказал: – Ну, вот что, Наташа, иди, девочка, домой, небось мама тебя с лучиной разыскивает.
Наташа нехотя поднялась, с обидой поглядела на него.
– Бог вас накажет за это… Я ведь тоже на заводе работаю и должна просвещаться! – вырвалось у нее с задором.
Следом за девушкой вышел Кобяков.
Давыдов озабоченно произнес:
– Видим девчонку каждый день, а не можем потолковать с нею всерьез. У нее к каждому слову – бог. Господин управляющий, смотри-ка, захотел иметь в кассе «своего человека»! Ты, Иван, позанимался бы с девочкой отдельно для качала, а то уведут ее в сторону.
Иван кивнул, соглашаясь, но почему-то вспыхнул весь и долго не мог оправиться от охватившего его волнения. Товарищи понимающе переглянулись.
– Что на свете делается, Михайлович, знаешь ли?
– Вы слышали? Мобилизованные рабочие Лысьвы потребовали у хозяев завода выдачи денег. А те вызвали полицию. Несколько человек убито, – начал Иван, одолевая непонятное ему самому смущение.
– Как же так?
– За что?
– Ну как за что? Берут тебя в армию, а ты не требуй своей зарплаты. Просили рабочие деньги за две недели вперед для своих семей. По ним стрелять начали из окон. Рабочие вооружились кольями, камнями, охотничьи ружья в ход пошли, ну, и осадили заводоуправление. Свыше ста человек предали военно-окружному суду. Пять человек повесили. Девять – к бессрочной каторге приговорили, тридцать пять – от шести до двадцати лет, многих в ссылку… пожизненно.
В кассу пришел Анатолий Парамонов, секретарь больничной кассы, которого посылали в село Ольховка, Шадринского уезда, начал рассказывать:
– Ох, что там было, в Ольховке… мобилизованные разнесли волостное правление, избили писаря и старшину, кричат, негодуют: «В страду на войну гоните! А земли не даете! Бей, ребята, по окнам!» Все окна выхлестали. «Опять, – говорят, – царь обманывает В русско-японскую войну обманул! Не пойдем кровь проливать за толстопузых, пока земли не дадут».
Пышная небольшая бородка красиво обрамляла лицо Парамонова, округляла его. Внешне спокойный, он весь был напряжен. Глаза его пытливо вглядывались в товарищей, словно от каждого он ждал необычных слов и поступков.
Пока Парамонов был в отъезде, администрация завода предложила правлению кассы снять его с работы секретаря, с тем чтобы в двадцать четыре часа он сдал дела.
Похалуев защищал его, но управляющий заводом упрямо и зло мотая головой, твердил одно:
– Гнать! Вы знаете, кого мы пригрели в кассе?! Ваш Парамонов, оказывается, перед войной организовал в Каслях забастовку! А вы не удосужились его проверить! Гнать! Гнать!
Вот об этом именно сейчас, сидя в углу комнаты, Похалуев шепотом и сообщал Парамонову. Иван, наблюдая за ними, сказал:
– А вы знаете, дорогие, что и в моем богомольном Верхотурье тоже произошло вооруженное столкновение мобилизованных с полицией! Уж если такие углы, как Верхотурье, начинают задумываться, то конец царизма виден! Смотрите – в Надеждинске, Каслях, Шадринске! Наши оттуда приезжают, интересные вещи рассказывают.
Парамонов угрюмо сказал:
– Я знал, что меня найдут – и теперь вот повестка: воевать пойду… Царя защищать.
Его окружили участливо.
Давыдов внимательно разглядел повестку и произнес:
– Большевику и на войне дело найдется, – и тут же обратился к Малышеву: – Бросай-ка, Иван Михайлович свой магазин и переходи работать в кассу, вон вокруг тебя вся молодежь крутится. Кричим, что надо использовать каждую легальную организацию, так надо использовать. Пора уже превратить больничную кассу в место явок, собраний большевиков, для агитационной работы.
На другой же день Малышев ушел из магазина Агафурова и поступил в больничную кассу секретарем.
Наташа, узнав об этом, просияла, хоть и избегала смотреть на него.
– Сердишься, что с занятий тебя выпроводил? Напрасно. Теперь мы с тобой вместе работать будем, а может и в литературный кружок тебя примем. Давай-ка пересмотрим книгу записей о помощи увечным и больным. Теперь мы будем решительно вмешиваться в конфликты между администрацией и членами профсоюза. Поняла?
Словно подтверждая его слова, в комнату вошел рабочий. Изможденное лицо, одна рука болталась, как плеть. Он сразу заговорил, глядя на Малышева.
– Вот значит как, еще в прошлом годе руку мне в прокатке отдавило. Ребята говорили, дескать, раз на работе случилось. Помощь обещали. А управление отказало. Будто я это по собственной вине. А где уж по собственной-то… – в печальных глазах его были боль и гнев.
– Они все увечья неосторожностью объясняют. Садись, товарищ, рассказывай все.
От слова «товарищ» рабочий покраснел, взглянул на Ивана, на кассиршу, сел, успокоенный и смягченный.
– Вессонов моя фамилия… Степан.
– Вот так, товарищ Вессонов, завод искалечит и выбросит человека за ненадобностью и защищать его некому: профсоюзы сведены на нет. Больничная касса почти не помогала: все решали в ней сами хозяева. Огородик то имеется?
– Как не имеется! Я вот с рукой-то никуда не годен. Все лежит на бабе, – рабочий выругался, оглянулся на Наташу и добавил: – Ребятишки мал мала меньше. Баба то почернела вся, как головешка.
Малышев попросил его написать заявление о помощи.
– Не могу. Рука перышко не держит. Уж ты, Иван Михайлович, сам, или вот барышня пусть напишет.
– В профсоюзе не состоишь?
– Как не состою!.. Толк-то какой! – с горькой усмешкой отозвался прокатчик.
Пока Наташа писала заявление, Малышев вполголоса говорил:
– Получает человек восемнадцать рублей в месяц, работает по тридцать часов, по-человечески его никто не назовет, штрафами пугают. О технике безопасности никто не думает! А все потому, что мы не протестуем по-настоящему!
– Так ведь как протестовать-то?
– Бакинские рабочие нашли, как… Да и по всей России прокатились забастовки. Тебе почему живется трудно? И всем почему трудно? В мае у нас, на Урале, тридцать тысяч рабочих бастовало. Тридцать тысяч! А тебя в этой общей пролетарской борьбе не было.
– Куда уж мне! – отмахнулся Вессонов. – Рука навек сознание помутила. – Он выругался снова.
– Рука борьбе не помеха. На нашем Верх-Исетском заводе самые передовые рабочие.
– С рукой все… – прокатчик с ненавистью оглядел свою повисшую руку.
– Впервые наши рабочие требовали и условия труда улучшить, и расценки пересмотреть. Мастеров, которые особо зверствовали, требовали снять. И митинг провели.
– Слыхал, баба рассказывала. И гудок чуть не целый день шумел, слышал. Хворал я… – оправдывался прокатчик.
Когда он ушел, Малышев неожиданно спросил Наташу:
– Ты Евангелие читала?
Девушка впилась в него глазами, подозревая насмешку. Но лицо его было серьезно, даже печально. И она кивнула.
– Воскресенье ты как проводишь?
– Ну, с утра – к обедне. А после – дома…
– Приходи сюда в воскресенье. Мы вместе почитаем Евангелие…
Наташа жила в Верх-Исетском поселке. Отец ее – ремесленник, часовщик. Семья – религиозна. В церковь ходили все вместе. Иван понимал, что девушке трудно вырваться.
Однако она согласилась:
– Я скажу, что пойду в другую церковь с подружкой.
– А разве врать господь разрешает? Ведь даже помыслы тайные известны ему, даже волосы на твоей голове сочтены господом, – осмотрев внимательно Наташины косы, вздохнул: – Ох, и трудно было господу твои волосы сосчитать…
Нет, он не смеялся. От него исходила добрая сила. Сколько ни смотрела на него девушка, ни в глазах его, чуть зеленоватых и всегда веселых, ни на полных губах не было и тени усмешки.
– Хорошо, я спрошусь у мамы… Я и сама врать не люблю…
Малышев не спал ночь, изучал Евангелие.
«Неужели я не смогу сломить веру этой девочки? – думал он. – Надо показать всю ложь церкви, все зло»
XVI
Наташа прибежала в воскресенье в кассу, как только затрезвонили к обедне церкви Верх-Исетска.
Торжественно развернув книгу, Иван Михайлович уселся за стол рядом с девушкой.
– Читай сама, мне ты не поверишь.
Наташа перекрестилась, поймав его улыбку, недоверчиво сжалась.
– Ну что ж, начинай… Постарайся вдуматься в то, что читаешь. Нам нужно все понять, чтобы никакой тайны не осталось, тогда нам ни бог ни черт не страшны! Ведь люди боятся только того, чего не знают.
– От Луки. Глава двадцать вторая, – благоговейно начала Наташа. Голос ее, ровный, глуховатый, казалось, шел издалека, дрожал: – Весь народ приходил слушать Иисуса в храме… И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа.
Малышев, прервав чтение, уточнил:
– Значит, на стороне Иисуса был народ, а остальные хотели его гибели? Так?
Наташа, кивнув, продолжала:
– «Появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иудой, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его… Вся толпа схватила Иисуса и потащила к первосвященникам»..
Иван снова уточнил:
– Значит – сам народ его схватил?! А теперь прочитай вот здесь, у Пилата…
– «Весь народ стал кричать: «Смерть ему! Распни его!»
Иван в растерянности развел руками.
– Как же так? Накануне народ приходил в храм послушать Христа, а первосвященники с Иудой искали случая втихомолку, не при народе схватить его. А тут вдруг весь народ требует его казни?!
Тонкое лицо Наташи было сосредоточенно и строго.
Иван сдержанно комментировал. Его убежденность покоряла. Когда он говорил о противоречиях в Евангелии, Наташа читала эти места снова. Убедившись, огорченно клонила голову, будто ее глубоко и безнадежно обманули:
– Верно ведь!
Взгляд Ивана Михайловича, задумчивый и пытливый, волновал.
– А вот здесь Лука пишет, как Христос внушал своим ученикам послушание и сравнивал их с рабами. Он и мысли не допускал о том, что раб может не повиноваться! Слушай, что он говорил: «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет: «Пойди скорее садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам?» Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все поведенное вам, говорите: «Мы – рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать»… – Иван спросил, заглядывая в глаза девушки: – Это что же такое? Значит, Евангелие утешает народ, убеждает не волноваться, когда его грабят! Терпи! Терпи, когда тебя бьют! Не противься этому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую! Вот слушай, что пишет Матфей в главе пятой: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Почему? Кому это нужно? Не тем ли, кто эксплуатирует народ?
– Довольно, Иван Михайлович, не надо! – взмолилась Наташа. Плечи ее судорожно подергивались.
Малышев смолк. Чисто учительская привычка: пусть подумает сама. Он закрыл книгу.
Молчаливая, притихшая, Наташа поспешила уйти.
Иван долго сидел в бездействии. Нужно было писать докладную записку о деятельности больничной кассы завода, о помощи, которую получают рабочие, но мыслей не было. Никогда не случалось, чтобы он не мог заставить себя работать. Перед ним стояла Наташа, влажные губы ее вздрагивали. Он сегодня разрушил в ней целый мир, посеял сомнение. Что-то взойдет на месте утраченных иллюзий?
Целую неделю Наташа была подавлена, часто забывалась, сложив на столе руки, вперив в окно пустой взгляд.
Иван пожаловался товарищам:
– Потеряла веру, потеряла себя.
Как могли, все старались вывести девушку из этого состояния.
– Ходил я на вокзал… Ох, и беженцев там! С детьми женщины неделями сидят на узлах. А барыни ходят между этих узлов и людей, брезгливо платья приподнимают и суют беженцам по копейке… – рассказывал Похалуев, поглаживая косматую черную бороду и поглядывая на Наташу.
– Это они называют «благотворительностью». Нет, нам нужно вырвать беженцев из рук буржуазных дамочек, – произнес Иван, тоже кося глаза на Наташу.
Она по-прежнему молча смотрела в окно пустыми глазами.
Разговор прервала Люба Терина, одетая в подвенечное платье. Она вбежала в комнату, рухнула на табурет, сорвала с головы свадебный восковой венок и зарыдала.
– Что случилось?
Люба всхлипнула:
– Где мой Костя?
Иван ответил:
– Он уехал в Лысьву… Мы тут собрали денег… он их увез.
Люба почти с ненавистью взглянула на него.
– Вот вернется, я ему покажу «Лысьву»! Договорились. Я его с подружками в церкви Михаила святого жду. Его нет. Батюшка волнуется. Мне стыдоба! А его все нет. Батюшка уж приказал выйти, хотел церковь закрыть. А он, мой-то, явился, продышаться не может. Ну и ладно бы! Батюшка начал нас венчать. Так мой-то прервал службу… попросил: «Ты, отец Павел, покороче. Некогда, говорит, мне. Важное дело доверено». Да раз пять так-то. Батюшка еще «многие лета» не провозгласил, а мой-то уж был таков! От подружек стыдоба, от родни – еще больше. Я убежала. Ведь только кольцами обменялись! Ну скажите мне – вышла я замуж или нет?
– Ну-ка, плесните на нее водой, чтобы остыла!
Кружковцы еле сдерживали смех. Сначала хохотнул в кулак один, затем другой. И вот смех, оглушительный, как рокот, раздался из всех углов.
Наташа как бы очнулась, окинула всех гневным взглядом.
– И не стыдно смеяться! Это же горе навеки! Пойдем домой, Люба, я тебя провожу…
– Куда я пойду: жених из-под венца убежал! – Люба снова забилась в плаче, уронив растрепанную голову на стол.
Иван Михайлович ласково склонился над ней:
– Завтра Костя вернется. Не знал я, что у него сегодня такой день! Иди, Люба, к нему домой, Наташа проводит.
Наташа, уходя, не выдержала, рассмеялась сама:
– В воскресенье, Люба, приходи сюда поутру. Иван Михайлович обедню здесь не хуже любого священника отслужит. Он мне уж все грехи замолил.
…Однако заниматься в следующее воскресенье Наташа не захотела. Небрежно отодвинула Евангелие.
– Пойдемте лучше гулять, больше будет пользы!
Голубой газовый шарф подчеркивал голубизну ее глаз. Иван внимательно посмотрел на ее лицо, на пышные волосы, на ласковые задорные губы, с радостью и гордостью подумал: «Неужели это я… неужели мне довелось сделать другого человека счастливым».
Осень стояла сухая, мягкая.
В переулках ребятишки играли в бабки. На завалинах сидели старики, по площади у заводского магазина, обнявшись, шли под гармошку мобилизованные, пьяно горланили песни, орали угрозы немцам, с которыми завтра их погонят воевать.
Было бесконечно жаль парней: они идут воевать, не зная за что.
Миновали пустырь, отделявший поселок от города, пересекли плотину.
Вода в пруду сверкала, как огонь. Дремали извозчики, сидя на козлах своих экипажей.
На скамейке на Козьем бульваре[2]2
Ныне сквер по ул. К. Либкнехта.
[Закрыть], огражденном штакетником, сидели две гимназистки с невинными глазами.
Одна, следя за Малышевым, говорила томно:
– Запомни же наконец: белый цвет означает невинность, малиновый – поцелуй.
Иван и Наташа дружно рассмеялись.
– Серый – глупость, – подсказал Иван мимоходом.
Наташа засмеялась громче. Он отметил, что она стала проще, веселее.
– У нас в прогимназии так играли. Еще играли с мальчиками в фанты. Целовались – это как штраф. Ради штрафов и играли.
– И ты?
– Нет, я не любила так играть и… целоваться.
Иван перехватил ее лукавый взгляд и почувствовал, что они чем-то связаны друг с другом.
Человек в солдатской шинели ковылял на костылях, медленно и трудно.
Малышев, замедлив шаги, тихо спросил:
– Отвоевался, товарищ?
Инвалид злобно выругался.
Иван встревоженно взглянул на девушку и удивился: она не покраснела, не отпрянула.
Инвалид, заикаясь, бессвязно рассказывал:
– Зимусь эшелон мертвяков замороженных отправили с фронта… Головами и вниз, и вверх в теплушках поставили, чтобы больше ушло. Жили – не люди, умерли – не покойники. А я за что воевал – не знаю. Не знаю – и все. Я вот в деревню должен свои костыли везти… А как там жить? Меня ждут, работничка. А я – нероботь!..
Постукивая костылями, солдат пошел дальше.
– Давай считать, сколько калек нам встретится, – предложил Малышев. Девушка кивнула.
Инвалидов было особенно много у харчовок. Встретился молодой парень с пустым рукавом. А вот опять костыли.
Наташа считала.
– Пятый, шестой.
Иных Малышев останавливал, говорил с ними о войне. И опять не удивлялась Наташа, слыша его вопросы:
– Кому же нужна эта война? Богу? – И не бежала от ответной брани.
– Как на них слово «товарищ» действует, заметил? Магическое слово, – сказала она.
Иван следил за ее губами, видел настороженно сдвинутые брови. Слушал, с трудом веря тому, что она говорила, жмурился, словно поток света и тепла исходил от нее.
За двадцать минут они насчитали восемь инвалидов. Оба помрачнели, отводили глаза, точно в чем-то были виноваты друг перед другом. Молча повернули обратно.
Уктусская улица[3]3
Ныне ул. 8 Марта.
[Закрыть] с торговыми рядами, толчком, зеленым рынком пустынна в этот час. А на площади даже и по воскресным вечерам обучали новобранцев.
Иван как бы для себя отметил:
– Вместо винтовок – палки в руках. Стрельбе обучают солдат на палках. Довоевались. Оружия-то нет… – и замолчал, о чем-то думая.
Стемнело.
Дворники начали зажигать редкие фонари. Луна ныряла меж тучами.
– Мы все переделаем, – глухо произнес еще Иван.
– Я знаю, – отозвалась девушка.
«Что она может знать? Сидит в кассе, помалкивает. Кое-что она, наверное, и слышала от нас. Но занимаемся мы там по вечерам, когда ее нет…»
Наташа с лукавым сокрушением прошептала:
– Так мы Евангелие сегодня и не читали! Но будь спокоен: я за неделю его так вызубрила! Мать даже радовалась: как же, дочь целые ночи со святым писанием не расстается! Знала бы она! Я столько противоречий нашла! – девушка взглянула на Ивана: – Это ты мне помог.
– А ты мне хочешь помочь?
– В чем? – с радостной готовностью воскликнула она.
– Вот эту записку надо отнести Давыдову. Сейчас же…
– Отнесу.
– Но если попадешься в руки полицейских, ты записку съешь.
– Как – съешь?
– Как едят?
– Да если и не съем, пусть мне каленые иглы под ногти вкалывают, я ни за что тебя не выдам!
– Ну уж, сразу и «каленые иглы»! Я тебе верю, Наташа.
– И я тебе, знаешь, как верю?! И вижу, что бы ты ни делал, все ты делаешь не для себя, а для всех.
В записке стояли ничего не значащие слова: «Буду у тебя завтра». Ни обращения, ни подписи. Это была условленная с Давыдовым проверка девушки.
Уходя, Иван твердил себе, точно оправдываясь:
– Так надо… Так надо.
На следующий день Иван, узнав, что Наташа выполнила поручение, передал ей пачку книг, завернутых в газету.
– Сохрани у себя: ваш дом вне подозрений. Если хочешь, посмотри, почитай…
Теперь он все приносил и приносил ей книги.
– Спрячь.
– А почитать?
– Можешь.
С каждым днем он давал ей поручения посерьезнее: раздавать брошюры по списку в цехах или незаметно передавать листовки надежным людям.
– Только меньше улыбайся, а то у тебя зубы приметные. Не зубы, а кремлевская стена. А нам особых примет иметь нельзя.
Листовки появлялись всюду: в инструментальных ящиках рабочих, на письменном столе управляющего, в конторках бухгалтеров.
Видеть Наташу каждый день, разговаривать с ней стало для Ивана потребностью. Он пугался своего чувства: «Я обо всем забыл. Я же не могу… пока общая наша задача не выполнена!»
Никогда, казалось, он так много не пел. И даже не вслух, а про себя. Шел на собрание, на кружок, на работу, возвращался домой, а в нем все бродили какие-то напевы.
Наташа предложила снова встретиться.
– Наташа, дорогая, некогда, завтра! – удрученно ответил он.
Она обиделась:
– Все некогда и некогда!
«Я стал для нее необходимым! – с радостью отметил Иван. – Как и она для меня».
Но не мог же он ей сказать, что работает среди солдат, что возглавляет большевистскую организацию города.
Уже смелее он вводил ее в круг своих интересов. Случалось, что и во время работы говорил о том, что его занимало. Она удивлялась, как он мог читать, конспектировать среди шума, в присутствии посторонних.
Раз у Наташи вырвалось:
– Ну и мне ты давай какую-нибудь работу. Я хочу с тобой!
Он, обрадованный, рассмеялся:
– Ты уже работаешь. Разве ты не замечаешь, что ты давно работаешь?
Иван думал: «Я не должен жениться. Я не имею права жениться. Я должен жить для дела».
Иногда целыми днями они не разговаривали. Она приходила и уходила. Еще не затихали ее шаги, а волнение снова охватывало Ивана. Порой же, не выдержав, они бросались друг к другу. Понемногу он рассказал Наташе всю свою жизнь, тюрьмы, ссылку, встречи с товарищами.
– Я себе не принадлежу. Меня любить страшно.
Наташа слушала с улыбкой, ничего не подтверждая и не отрицая; но вот по лицу ее скользнуло гордое, смелое выражение:
– А мне не страшно любить! Это ты, а не я, боишься любить. Боишься, что испортишь кому-то жизнь.
Только у Вайнеров Малышев обретал покой. Дружелюбие этой семьи привлекало многих.
Вайнер готовил в городе пропагандистов. Он всегда сообщал что-нибудь интересное:
– В нашу группу прибыло еще несколько человек: журналист Лев Сосновский, Завьялова Клава. Она заведует биржей труда. Такая статная и строгая. Женщин у нас много: Ольга Мрачковская, моя Елена. Да всех и не перечислить. И все семейные. Один ты болтаешься холостой. «Ходит Ваня холостой».
– Перестань дурачиться, – отмахивался Малышев: – Я не имею права жениться.
– Что-о? Это почему? Ты слышишь, Елена, что он говорит!
Леонид сильно закашлялся. Его частый сухой кашель напомнил Ивану Евмения Кочева, Фоминку. Они с Еленой тревожно переглянулись.
– Простыл, вспышка опять, а не лечится! – пожаловалась она. – Мне надо только им заниматься, – она сделала ударение на слове «только», – насильно кормить, выводить гулять…
Вайнер возразил:
– И без меня дел много! – и в свою очередь пожаловался на жену: – Волосы сняла свои… Ах, какая была у нее коса! Обрезала! Говорит, некогда следить за ней!








