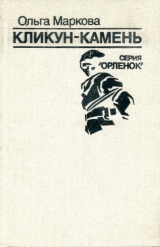
Текст книги "Кликун-Камень"
Автор книги: Ольга Маркова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Видимо, никому не пришло в голову так объяснить положение. Успокоенные, бойцы замолчали.
Станицы следовали одна за другой. В каждой красногвардейцы-большевики рассыпались по улочкам, входили в дома, агитировали, проводили митинги, помогли выбрать поселковые Советы из казачьей бедноты.
XXVIII
Как только показывались первые дома очередной станицы, кто-нибудь просил:
– Грянуть бы, товарищ комиссар!
– Гряньте…
– Без вашего голоса не начать…
И все ждали: вскинет комиссар голову, посмотрит на небо и заведет, высоко и чисто.
Вот и сейчас Иван Михайлович затянул:
На зеленом на лужке,
На широком поле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле.
И уже по всем улицам, по всем подворьям разнеслось многоголосо:
При знакомом табуне
Конь гулял на воле.
В станице бойцы прежде всего снимали с заборов объявления Дутова. Под хохот читали:
«Круг объявляется на военном положении. Ожидается большевистский отряд для усмирения казачества».
Дутов пускался на все, чтобы только посеять недоверие к красным. Так он издал приказ о роспуске солдат с явным расчетом ослабить силы красных, внести смуту в умы, расколоть фронт.
Комиссары на митингах разъясняли:
– Дутов объявлен изменником, его приказы исполнению не подлежат. Исполняйте приказы только Совета Народных Комиссаров!
Дутов, обеспокоенный настроением станиц, подбрасывал листовки:
«Мы вначале – казаки, а потом – русские. Нам надо устроить свою казачью федеративную республику. Идти не с партиями, так как мы, казаки, есть особая ветвь великорусского племени и должны считать себя особой нацией».
Обманутое беднейшее казачество пугливо молчало.
Бойцы писали мелом на заборах, на воротах: «Родной Урал будет красным!» К дулам ружей привязывали красные флажки.
Небо сурово и мутно. Тонкий месяц бледнел на востоке. Черные голые ветки раскачивались. Такой ночью шли по станице Степной, заглядывая в дома, разоружая жителей.
Утром на площади, перед церковью, Миша Луконин развернул гармошку. Началась пляска с гиканием, с посвистом. В окнах зашевелились занавески.
У одного из домов свалены бревна. Из-за них нет-нет и высовывалась голова какой-нибудь девушки и тут же скрывалась. А веселье продолжалось. Саша Медведев устал от пляса, снял папаху, пятерней причесал кудлатую голову.
Неожиданно из-за бревен вышла молодая красивая казачка, бледная от решимости, подошла к Саше и начала шарить пальцами в его волосах.
Из-за бревен торчал теперь добрый десяток голов.
Красногвардейцы прекратили пляску, гармошка стихла.
Саша не мог вырваться из рук девушки, так крепко держала та его голову. Наконец она спросила срывающимся голосом:
– А рога куда девал? Нам говорили верные люди, что вы с рогами…
Саша отбросил ее руки от себя, сконфузился. Красногвардейцы весело захохотали.
Девушка побежала, но Ермаков, смеясь, остановил ее.
– Давай-ка, красавица, зови сюда всех из-за бревен-то!
Скоро красногвардейцы плясали уже вместе с молодыми станичницами.
Смех над «Сашиными рогами» не прекращался. Иван думал: «Темнота! Зло-то какое!»
Какая-то молодка рассказывала у колодца бабам:
– Гли-ка, большевики-то люди как люди! А нам говорили, что у них – рога и хвосты.
В Степной задержались на сутки. Митинги возникали стихийно, на каждом шагу дружинников окружали станичники и начинали разговор. Жаловались: хулиганили дутовцы, портили девок, угоняли скот, отнимали хлеб.
Под штаб отвели целую половину большого дома Две женщины домывали пол, увидя входящих командиров, опустили подолы, степенно поздоровались и быстро скрылись. Тотчас же в штаб привели дружинников Щукина и Тетерина. Они напились у вдовы. Сама вдова, молодая разбитная бабенка, шла следом и быстро говорила:
– Пришли ето они ко мне, первым делом самогонки попросили. Выдала я им самогонку, выпили, приставать ко мне начали, да так-то напористо, что уж впору и свалить им меня. Я, конечно, обороняюсь. Все рожи им расцарапала, а уж силы-то мои убывают. Мальчонку моего избили. А тут соседка зашла. Оставили они меня, принялись окна бить. Все до капельки выхлестали.
Щукин рвал шапку нетрезвыми руками. Тетерин – в папахе, низко надвинутой на лоб. Рыхлое лицо его тряслось. Он бормотал, дыша перегаром и тоской:
– Неужто… расстреляют?
Их увели.
Дружинники на улице кричали, окружив дебоширов:
– Да ведь вы – наши! Всю жизнь хлеб без приварка ели!
– Варнаки! Не головой, а шапками думали!
– От вас уж сейчас смердит!
– Настегались! Заду не поднимают!
Малышев до боли стиснул запекшийся рот, обвиняя себя: «Прозевал… Прозевал!»
А ребята все зубоскалили над дебоширами.
– Топить в реке вас не будем, воду-то скотина пьет.
– Придется ведь их расстреливать…
– Молчи, борона худая. Разве свои своих бьют?
– А обязательство?
– Како еще обязательство! Ох, сердце зябнет!
В расстрел никто не верил. Савва Белых подошел к дебоширам, пошутил простодушно:
– Еще дышите? Пришел мерку снять для ваших гробов.
А члены Военного совета отряда и трибунала и командиры дружин уже собирались, нахмуренные, удрученные.
Малышев огорченно думал, глядя на них: «Вот они понесут через всю жизнь расстрел своих товарищей» Мрачковский – хоть и бледен, а как-то необычно надменен и сух. Ермаков Петр глядел на всех ясными глазами. Этот выполнит все, что нужно для революции. Но и он бледен. У Медведева Саши брови подняты в горестном недоумении.
В глубине комнаты стояли обвиняемые. И у них такие же молодые и бледные лица, так же лихорадочно горели глаза. Допросили патруль. Вдова смирненько сидела в углу. Члены совета говорили один за другим:
– Опозорили отряд, опозорили пролетарскую революцию. Расстрелять.
– Играют на руку врагу, дают пищу для пересудов. Теперь пойдут о нас разные слухи. Расстрелять.
– Губят Советскую власть. Им не место в наших рядах. Расстрелять.
Иван высказал свое мнение первым, первым произнес это слово: расстрелять.
Он ненавидел этих нашкодивших ребят, ненавидел эту разбитную бабу, ненавидел себя. Хотелось умереть, чтобы только всего этого не случилось. Он знал, что малейшая уступка, замена смерти любым другим наказанием расшатает отряд. Нельзя. Нельзя. Цель одна – революция. Суд продолжался.
– Ребенка-то за что избили? Расстрел.
Бабенка отчаянным голосом закричала:
– Это что вы удумали: расстрелять да расстрелять! Шуточки! – два таких гриба с корнем вырвать! Ни за что парней обвиноватили!
– Каждый из них – человек. Даже тогда, когда выпьет, он должен быть человеком, каждый час, каждую минуту, – ответил ей Малышев.
Однако вдова билась и выкрикивала: – Да у нас каженный праздник стекла бьют! А самогонку – недомерки – и те хлещут! А я… Над вдовой каждый мужик – барин! Проща-аю! Не убивайте парней.
Визжащую, ее вывели из штаба.
Где-то ветер с маху хлопал дверью. И чудилось Малышеву, что и хлопки эти тоже утверждали.
– Расстрелять! Расстрелять!
Тетерин судорожно, громко задышал. И словно удивился:
– Неужели так? Да ведь наша власть-то! Что хочу, то и делаю!
«Расстрелять!» Слово облетело отряд в минуту.
Какой-то парень немедленно вылил за углом в пожухлый снег самогонку, только что выменянную на шарф.
Притих отряд. Никто не разговаривал, не глядел в глаза другому. Все чувствовали какую-то свою вину.
Малышев привык брать людей такими, какие они есть, – где свет, где тень. И этих ребят можно было сделать настоящими. Они просто еще не умели предвидеть последствий своих поступков.
Прозрачная ночь кончалась, а ему приходится быть жестоким. Может быть, сейчас у него уже появился ребенок, а ему приходится быть жестоким У него есть Наташа, женщина с ясными глазами и ясным сердцем, а ему приходится быть жестоким!
Всю ночь Иван ходил по штабу и шептал искусанными губами: «Говорили, что каждый должен быть человеком. Каждый и будет человеком все больше. Это зависит от нас, от нашей партии… Только высокая культура и революционная идейность вытеснят невежество проклятую водку. Нужны книги, клубы, театры. Нужна возвышающая музыка… А сейчас – расстрелять. Так нужно».
Он всегда был чужд паники и истерики. И это его настроение было не паникой, нет Это был стыд за людей, за себя.
«И кончим мы Дутова. И еще наскакивать на нас будут – кончим. Силы у нас есть. У нас нет культуры. Народ доведен до отупения.. «Да ведь наша власть! Что хочу, то и делаю!» Нет! Наша власть – это не анархия! Революция будет продолжаться! Революция продлится долго!»
Стояла утомительная синь и тишина, старая исковерканная луна обморочным светом заливала окна, поблескивали холодно звезды.
Прогремел в отдалении залп.
В окно глядел унылый пейзаж: овраги, холмы, степь. Редкие белые березы, как в кружеве, неподвижны, будто боялись шевельнуть веткой. Снег уже чуть-чуть стал розоветь.
На фоне серого неба, скрипя полозьями, брела гнедая лошадь, запряженная в сани-розвальни. На сене – труп человека, молодого красавца. Серая мерлушковая шапка откатилась на крыло розвальней.
Бойцы окружили сани. Человека сразу же опознали: Ильиных, член Троицкого Совета, который проводил митинг.
Руки и ноги его переломлены, голова пробита.
Все сняли шапки.
Иван Михайлович оглядел окружавших его людей тяжелым взглядом, спросил глухо:
– Вы понимаете, что мы не можем быть добрыми ни к врагу, ни к себе?
– Понимаем!
– Есть еще желающие уехать домой?
– Не-ет!
– Не поедем! Мстить!
– Мстить!
XXIX
Отряды двигались пожухлыми снегами. Их встречали тревожные слухи:
– Телефонные провода дутовцы оборвали… напали…
– Поезд с хлебом… собрали для питерских рабочих… разорили.
– У Дутова собраны большие силы… Не одолеть их.
В одной из станиц бородатый крестьянин в рваном полушубке все лез к Малышеву и кричал:
– Значит, по-твоему, бедняки, вроде меня, устроят всем мир. А как это сделать, скажи мне, мил-человек? Ведь уж сколь раз такой мир хотели сделать!
– Каждая попытка учит!
– Верно! Так пока научит – все мы кровью изойдем!
Неожиданно с колокольни раздалась пулеметная очередь.
Из переулков выскочили верховые казаки.
Красногвардейцы открыли огонь. Их снаряды рвались в гуще белоказачьей конницы. Верх-исетцы закричали «ура».
Цокали по стенам домов пули. Звенели окна.
Красногвардейцы зарывались в снег. Ленька Пузанов, лежа, судорожно вцепился пальцами в спусковой крючок. Он был разочарован, что стрельба утихает: дутовцы, оставив на снегу убитых, скрылись.
Билась раненая лошадь.
– Они нарочно выматывают наши силы, время и патроны у нас съедают, – переговаривались дружинники. Иные задорно кивали друг другу, упоенные победой.
Малышев понимал, что эта короткая схватка – не бой, но и он поддался общему настроению.
Теперь все чаще вспыхивали короткие бои с отдельными группами дутовцев. Бои самые неожиданные. Казалось, за домами, за косяками леса – всюду враг. Стреляли с колоколен, с чердаков, из-за сугробов. А боеприпасов в отряде оставалось все меньше, все более мрачнели лица бойцов. Люди рвались в бой. А крупных боев Дутов не принимал.
Разведка донесла, что связь между Челябинском и Троицком прервана. Красные оказались в окружении. Отряд повернул обратно к Троицку. Пулеметы везли на лыжах по блестящему полю. Слышались редкие выстрелы.
Мартовские ветры коварны. То нанесут весеннее тепло, снег начинает жухнуть и оседать, то ударят заморозками, метелями.
Темнело. Впереди – мост через Черную речку, за ним крутой берег, под которым – дутовцы.
Красногвардейцы цепью спустились к мосту, прижимаясь к сугробам от пуль: спешили отрезать врагам путь. Ермаков кричал:
– Держитесь, братцы!
И снова пальба без разбору с той и другой стороны. Визжали и матерились бойцы. Лошади кусались и по-человечьи стонали, храпели и метались.
Верх-исетские парни бежали впереди, увлекая на врагов остальных.
Пронесли убитую сестру. В лице ее недоумение, глубоко врезались складки рта.
Убили командира сотни Колмогорова, ранили его помощника.
– Окружили нас! Окружили! – несся юношеский голос, дрожа от животного страха. Несколько человек повернули назад.
– Замри, не сей труса…
Шура Лошагина, отбрасывая за спину санитарную сумку, звонко крикнула:
– Сотня, за мной! – и ринулась вперед, увлекая за собой бойцов. Парни, которые только что в панике отступили, вернулись в строй.
Уже три часа длился бой.
Река беззащитна, открыта. По льду бежали бойцы, чтобы скрыться от огня под крутизной. Чернели на снегу убитые люди и лошади. Трупы быстро заносило снегом. Малышев впереди кричал:
– За мной! Вперед!
Ветер хлестал, сваливал с ног, ослеплял. А люди, пробираясь вперед, гнали дутовцев из-под каменного берега. Те бежали, бросая оружие. Грохотали гранаты. Пулеметы били, не переставая. Враг отступал.
Везли на лошадях, несли на шинелях, на носилках из винтовок раненых и убитых. Девушки ползали по снегу, тянули раненых волоком, перевязывали.
Малышеву казалось все, что смутно видит он сквозь сетку чистого снега, обрывки сна. Они наплывали и уносились Пронесли раненого Петра Ермакова, забинтованного, как куклу, убитую Светлану. Михаил брел рядом, спрашивал ее:
– Как же так?.. А может, ты мне что-то сказала перед смертью? – он ловил снег и тер холодеющее дорогое лицо. Голова Светланы болталась из стороны в сторону. В глазницах накапливался снег.
А метель все усиливалась. Уже не видны лица, только смутно темнели лошади да раздавался крик.
– Э-гей! Дорогу не терять!
Глаза болели от напряжения. Слышался женский плач: медсестра оплакивала друга.
Малышева отыскал среди бредущих людей связной.
– Товарищ старший комиссар, прибыл эшелон мадьяр под командованием Блюхера. Ждут вас в Троицке.
– Будем! – ответил Малышев и, склонившись над Ермаковым, стал поить его из фляги водой.
– Как, друг?
Петр Захарович сказал, скрежеща зубами от боли:
– О жениных руках тоскую, а все-таки ей не говорите что я ранен, зачем ее расстраивать?.. И не вздумай меня в Екатеринбург отправлять, понял? Хочу здесь ждать кончину Дутова. Иди, Иван, говорят, подмога нам. Иди встречай!
Ермакова окружили верх-исетские ребята. А может быть то не они? Уж очень взрослы и серьезны стали!
В Троицке ждали письма от родных. Почти все они писались на шершавой бумаге разорванных кульков, на старых измятых квитанциях. Бумаги нормальной не было. К некоторым бойцам приехали матери, жены.
Люба Вычугова все в том же клетчатом сером платке. Она нашла Костю и, заглядывая ему в лицо, допытывалась:
– А я к тебе приехала, скажи, хорошо?
– Смотри-ка, ведь это ты? – удивился тот. – Баба моя приехала!..
– Ну, бери нагайку да угощай! – этот чей-то совет вызвал общее веселье. Но снова помрачнели бойцы, услышав:
– Мне пишут, что денег на меня не дают.
– Домой придется ехать!
– Публика вы, будто на прогулку вышли. Публика, а не бойцы! – бросил Малышев. – Неужели у кого хватит совести уехать?!
– Да нет… чего уж там… с заработком только уладить надо…
– Уладим!
Малышев прошел дальше. Где-то начали песню.
Вздумал Турка воевать
Да на Рассеюшку пойти…
Иван увидел вдруг Сыромолотова, побежал, дурачась, схватил его в широкие объятия.
– Хорошо, Федич, что приехал, друг!
– Тихо ты, комиссар!
Вместе они пошли по городу.
У домов и хибар с золотушными заборами сидели старые казашки в грязных повязках; скакали верховые казахи в бараньих остроконечных шапках. Пронзительно ревели верблюды.
Многие из бойцов впервые видели эти двугорбые чудища с добродушными глазами и подняли улюлюканье и удивились тому, что верблюды не шелохнулись, не испугались, только, как бы соревнуясь, начали реветь громче.
Сыромолотов приехал, чтобы отозвать в Екатеринбург часть членов Союза молодежи: город оголен, не хватает своих людей.
Иван рассказывал:
– Обстановка, значит, такая: штаб Дутова в Верхне-Уральске. Вокруг Троицка казачьи станицы. Земельные наделы на казачью душу большие. Поселения редкие. Много украинцев. Они арендовали у казаков землю.
– Знаю: есть станицы и за Дутова, – вставил Сыромолотов. – Я уже написал воззвание к казакам. Разъясняю, что готовит им Дутов и что такое Советская власть.
Федич привез Малышеву письмо от матери. Строчки прыгали, долго не осмысливались слова.
Один боец, стоя у завалины, с завистью следил за ним. «Наверное, письма не получил…» – отметил Малышев и спрятал конверт в карман.
– У части семейных большая тяга домой, – рассеянно продолжал он. – Большое разложение внесли полученные с мест письма и приехавшие жены… С такой армией нельзя вести правильной войны, можно проделывать только военные гастроли.
Сыромолотов насмешливо протянул:
– Да уж дочитай ты письмо-то, вижу ведь, маешься!
В каждом обозе кто-то полушепотом читал письмо окружившим его товарищам.
Слышались голоса:
– Ломай конверт-то скорей!
– …Курносый ты придурок! Куда тебя занесло? – Это говорила мать Леньки Пузанова, сидя рядом с сыном на завалинке.
Да, и к Леньке приехала мать.
Он глядел на нее беззащитными глазами, уши его еще больше торчали, оттянутые шапкой.
– Отощал я.
Женщина, нервно мигая, говорила:
– Да вот поешь, привезла я тебе… – Она скорбно смотрела, как сын уплетал какие-то лепешки. – Глянется тебе здесь? В бою-то не осрамился?
Ленька оглянулся.
– Нет!
– Под пулю-то не лезь. В своем ведь уме-то.
– А что, пусть другие лезут? Я стрелять знаешь как научился?
– Страшно, небось?
– А я смерти не боюсь и угроз не боюсь…
– Не кожилься зря… Нахватался слов-то всяких. Наверное, и матерные слова знаешь?
Глаза Леньки воровато метнулись в сторону.
– Я домой не вернусь.
– Это как так?
– Я воевать хочу. Я боюсь, как бы война не кончилась!
В штабной квартире в углу спал Савва Белых. Около него лежала сабля. Серая кошка обнюхивала ее.
Малышев начал читать письмо. Пишет мать. Она уже живет у них. Помогает, нянчит внучку. Значит, родилась дочь. Нина…
– Здравствуй, крошка моя!
Иван снова повторил про себя:
«Здравствуй, крошка! Здравствуй, Нина! Я спокоен и за тебя, и за жену, если с вами мама. Наверное, совсем старенькая стала».
– …Дружно вы с дутовцами живете: вы стреляете, они шею подставляют! – смеялся Блюхер, войдя в штаб. – Я, комиссар, баньку заказал тут вот рядом, помоюсь пойду, а там мы с тобой над картой посидим, наметим свой бросок.
Малышев много слышал об этом отважном человеке, но не знал, что он так прост.
– Ты, комиссар, когда-нибудь спишь? – спросил Блюхер.
– Как уснешь? То донесения, то телеграммы… Раненых надо навестить, – охотно ответил Малышев.
– Слышал, слышал… Двадцать два часа на ногах, со всеми шутишь, а сам вон – зубы да нос…
Иван, смеясь, сообщил:
– А у меня дочь родилась, пока я воюю!
– Да что ты? – удивился Блюхер.
– Ниной звать.
– А у меня сынок растет…
Вошел в вагон Сыромолотов, протянул Ивану листок бумаги:
– Утверждаешь, комиссар?
То были стихи. Малышев вслух прочел:
У Черной речки ухают снаряды,
Белеет поле… В поле бой идет…
Друзья мои – рабочие отряды —
Выносят бой у дутовской засады.
Синеет день. Стрекочет пулемет.
Оставив дом, семью, работу,
Товарищ-коммунист с винтовкою в руках
Наносит черному змеиному оплоту
Ударом за удар, врага сломив во прах!
О, наш удар могуч! И власть труда безмерна.
В рабочем сердце кровь здорова и сильна.
Пускай юлят враги бесчестно, лицемерно…
Пускай! Мы бьем и целим верно:
С горячим сердцем мысль крепка и холодна.
У Черной речки ухают снаряды.
Белеет поле… В поле бой идет…
Друзья мои – рабочие отряды —
Выносят бой у дутовской засады…
Идет Заря – труда могучего восход!
– Молодец, Федич…
– Ай же, какой подарок бойцам! – воскликнул Блюхер. – Надо это стихотворение… до каждого довести, пусть знают…
Несколько дней Блюхер с комиссарами отрядов сидел над планом разгрома Дутова.
Красногвардейцы делали вылазки на станицы. Каждый день пригоняли табуны лошадей, обозы с оружием, пленных. Учились верховой езде, смеялись, шумели:
– Эта лошадка тебя не вынесет, мала.
– А мою-то, мою посмотри!
Лошадей чистили, вплетали в гривы красные ленты.
В штаб почти вполз Ленька, побледневший, потный и счастливый.
– Все равно научусь верхом ездить! – пробормотал он, свалился у двери и мгновенно, сломленный усталостью, уснул.
Блюхер громко хохотал:
– Видать, попробовал верхом ездить!
Дележ лошадей на улице продолжался.
– Товарищи командиры, – кричали красногвардейцы, – принимайте подарок!
Блюхер и Малышев вышли из штаба. Дружинники подвели к ним группу лошадей:
– Выбирайте!
Лошади были гладкие, выхоленные, с лоснящимися боками.
Савва Белых, забирая у товарищей повод, сказал:
– Вот этого коня возьми, Иван Михайлович.
Рыжий конь пугливо вздрагивал, вытягивая голову, упирался.
Малышев поймал на себе ореховый глаз рыжей лошади. Дом. Верхотурье. Отец. Купание в реке и веселые брызги. Детство. Только ноги у домашнего коня были мохнатые, а у этого тонкие, нервные.
– Вот его…
Савва разочарованно развел руками.
– А умеешь ли ездить, Иван Михайлович?
Тот немедленно вскочил на коня и полетел по сумеречной улице.
Конь был послушен ему, резв. Дома казались под снегом сахарными, крыши и дороги сверкали. Не хотелось думать о войне. Детство. Иногда отец позволял поездить на Рыжике. Как и тогда, теперь казалось, что конь отделяется от него, убегает, а он остается на месте, точно плывет, борясь с волной.
…Весна помогала. По утрам дорога еще потрескивала после заморозка. У бойцов улучшилось настроение, чаще звучали песни. Степь, голая еще, покрытая невысокими холмами, иссечена мелкими речками. Под ногами ломалась и сухо шумела прошлогодняя трава.
Савва принес флягу березового сока. Комиссар пил щурясь от удовольствия:
– Ну, я как живой воды напился. Только вы глубоких надрезов не делайте, а то березы погибнут!
– Мы еще березовки и Петру Захарычу отнесем.
– Обязательно!
Разбитые казаки сдавали оружие, патроны, выдавали своих главарей. Дутов осторожно уводил свою банду дальше. Однако короткие стычки все-таки были: под станицей Бриены у Дутова отрезали и разбили хвост арьергарда и вновь преследовали его. Улицы станиц оглашались бабьим воем.
Отряды красногвардейцев разошлись, чтобы преследовать дутовцев по всей степи.
Верхне-Уральск освободил Блюхер и гнал Дутова в глубь степей, приказав комиссарам с дружинами вернуться в Екатеринбург.
…Перрон и вокзальная площадь Екатеринбурга забиты народом.
Первые трофеи: пулеметы, сабли, револьверы, винтовки, воинское снаряжение, сбрую – все вынесли, а главное – лошадей, целый табун лошадей торжественно провели мимо работников Уралсовета: принимайте, хозяева!
…В руках встречающих приспущены флаги. Кумачом обиты гробы. Беспокойной группой люди сбились на платформе.
Женщина, увешенная детьми, как гроздьями, пробиралась вперед. Надломлен шаг. Глаза горят мукой.
Поймавшись за край гроба, шла старуха с распахнутым в немом крике ртом.
Обняв жену, солдат рассказывал о своих подвигах:
– От моего железа трое пали.
Сердце Ивана Михайловича ныло от жалости и от неистовой судорожной ненависти к врагу: «Что было бы со мной, если бы я не поехал?!»
Мелькнул Вайнер, сжатый толпой. Красный от натуги, он махнул другу рукой, что-то крича.
Пробраться к нему было невозможно.
В толпе сверкнули родные, теплом обдавшие глаза Наташи.
Убитых несли на руках через весь город. Пели революционные песни. Склоненные знамена. Венки, венки. Трещали выстрелы над свежими могилами.
Скорбное молчание наступило после речей. Долгое молчание, словно у каждого стоящего здесь погиб сын.
По пути к дому Малышев увидел спящего у забора Кобякова. Белые руки неуклюже и беспомощно раскинуты. Люди с равнодушным пренебрежением проходили мимо.
Около Кобякова на сухой земле понуро сидела Аглая Петровна. Иван узнал фоминскую учительницу, хоть из-под шляпки на висках выглядывала уже седина и у губ лежали скорбные складки.
«Эва! Нашли друг друга!» – подумал Иван и остановился. Женщина не подняла головы.
Иван присел рядом на сухую землю, потряс Кобякова за плечо. Тот замычал:
– Оставь, Аглая… к черту. Победители… явились… Сожрут…
С непреодолимым отвращением Малышев оставил пьяницу с его подругой и ушел, не оглядываясь. А в голове все носились невеселые мысли: «Нашли друг друга! Собирается воронье».
…Первой открыла Ивану двери квартиры мать. Он не видел ее несколько лет. Она стала совсем старенькой, ссохшейся. Без слез припала к сыну и вздохнула. Жена похудела, кожа на щеках пожелтела, но худоба не портила лица, светившегося каким-то внутренним светом. На вытянутых руках поднесла ему дочь.
– Твоя Нина.
Молча он приподнял пеленку. Девочке уже полтора месяца, а лицо, все еще сморщенное, глаза глядят бессмысленно.
– А голос у нее есть?
– Подожди, услышишь, – пригрозила Наташа.
Осторожно взял он дорогой сверток и пошел по комнате.
«Если бы знала, девочка моя, что я видел, что я делал… Придется мне все рассказать тебе… Придется рассказать и о том, как я подписал смертный приговор двум нашим ребятам… И это было самое страшное в моей жизни. Но иначе нельзя, пойми… Матери и бабушке мы с тобой об этом не скажем. Мы одни с тобой будем это знать. Ты да я».
Наташа с тревогой наблюдала за мужем.
– Как хорошо, что ты… – она не договорила.
Он гневно обернулся:
– Что я жив?
Наташа смешалась, не поняв его гнева, смолкла, посмотрела на свекровь. «Тяжело ему», – словно ответила глазами та.
Наташа подумала: «Без беды и герой на рождается!»
И будто подтверждая это, Иван Михайлович сказал:
– Ах, как люди-то чеканятся, мама, Натаха, когда трудно…
Наташа поглядела на мужа виновато. Он ответил ей вымученной улыбкой.
– Говори.
Жарко дыша ему в лицо, Наташа сообщила:
– Моя мама выкрала дочку… окрестила в церкви.
И случилось то, что должно было случиться, чего так ждала она. На минуту мелькнуло прежнее: чуткие глаза, улыбчивые губы. Ну да! Он решил, что ей нужна его помощь. Теперь он снова почувствовал себя дома: он нужен и здесь. Подошел, положил ей на плечо твердую руку.
– То-то у тебя щеки выалели.
Заплакал ребенок.
– Расхвалил-таки! – Наташа взяла дочку из рук мужа, села, открыла грудь.
Иван все продолжал ходить вокруг стола. Ребенок насосался, потяжелел.
Малышев остановился, огляделся вокруг и сказал прежним, родным голосом:
– А ведь я дома! – и рассмеялся.
– Ты, наверное, и петь разучился!
Он сел рядом.
– Мы еще с тобой, Натаха-птаха, попоем. Песен так много хороших. Всю жизнь петь будем! – голос его задрожал он нежности. Помолчав, Иван добавил: – Петь и воевать.
– Но ведь кончилось же все! – вставила Анна Андреевна.
– Считайте, только началось! Но и потом… Когда кончится кровопролитие, нам, большевикам, придется долго воевать. Всю жизнь.
– Не понимаю.
– Поймешь. Ах, столько зла на земле. И самое главное, знаете, какое? Не враги открытые, нет. С ними мы-таки справимся. Самое страшное зло – отсталость, темнота.








