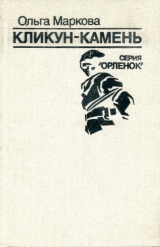
Текст книги "Кликун-Камень"
Автор книги: Ольга Маркова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Две девушки в углу продолжали прерванный кадрилью разговор:
– Как заполыхает, как заполыхает, сразу с десяток изб занялось. Батюшка, говорят, с иконами на огонь пошел.
– А я слышала, что их обокрали. Весь непочат урожай взяли, до зернышка.
Малышев, стараясь понять, о чем говорят на посиделках, подвинулся ближе:
– А вы не слыхали, на Кушве большое крушение поезда было?
– Ой, нет, не слыхали!
– Расскажи, учитель.
Иван начал плести, сколько убитых и раненых, сколько вагонов сгорело от столкновения. Он понял: здесь говорят только о необычном.
– Много людей погибло. И дети, и женщины. Ну да русский народ к этому привык. Еще в пятом году… Разве кто-нибудь людей жалеет?…
– А что в пятом году? Расскажи, учитель.
Целый час в напряженной тишине звучал его голос да слышались вздохи девчат.
Ивана провожали до дома под гармошку. В морозном воздухе далеко неслись девичьи песни.
Все легче становилось Малышеву работать в кружке. Выбрали уполномоченных для связи, пропагандистов. Часто одновременно шли занятия – открытое чтение в школе, разбор программы социал-демократической рабочей партии на квартире кого-нибудь из кружковцев.
Иногда разучивали вполголоса революционные песни.
…Вечер длинный, ночь тягучая. За окнами мороз. Печь в избе Кочевых дымила, от этого и от огня трехлинейной лампы тусклый чад поднимался к потолку.
Иван охрип, язык его онемел – столько приходилось читать вслух! Но читать Ленина он хотел сам. Слово, одно слово могут украсть, прочесть не так, и не все поймут ленинские большие мысли.
«Рабочие говорят: довольно уже гнули спины мы, миллионы рабочего народа! довольно мы работали на богачей, оставаясь сами нищими! довольно мы позволяем себя грабить! мы хотим соединиться в союзы, соединить всех рабочих в один большой рабочий союз (рабочую партию) и сообща добиваться лучшей жизни. Мы хотим добиться нового, лучшего устройства общества: в этом новом, лучшем обществе не должно быть ни богатых, ни бедных, все должны принимать участие в работе. Не кучка богатеев, а все трудящиеся должны пользоваться плодами общей работы… Это новое, лучшее общество называется социалистическим обществом. Учение о нем называется социализмом. Союзы рабочих для борьбы за это лучшее устройство общества называются партиями социал-демократов… И наши рабочие вместе с социалистами из образованных людей тоже устроили такую партию: Российскую социал-демократическую рабочую партию».
Евмений взволнованно воскликнул, ударив себя по колену:
– Наша партия!
С улицы послышались звуки гармошки: Немцов предупреждал об опасности.
Один за другим кружковцы тихо выходили из избы, исчезали через огород в переулок, в снежный замет.
Немцов ожидал Малышева на углу.
– Филат Реутов в окно заглядывал. Вот попадется мне, я ему покажу! А потом… уеду отсюда. Уеду на Север… Поищу, где чужую бабу забыть можно. На людей посмотрю.
Малышев рассмеялся:
– Здорово! Здесь тебе не люди?.. А на чужих баб заглядывать – у тебя видно в крови…
– Нет, Иван… Одну, но такую, как Стеша, хочу найти…
– Ну, пока найдешь, успеешь съездить в Махнево. Отвезти нужно один пакет… Предупреждаю: дело серьезное. Накроют, посидишь за решеткой.
– Не пугай. Хоть каждый день буду возить… Знаю, для чего.
Увидев вышедших из-за угла людей, они враз слаженно запели.
Вслед им раздался визгливый мужской голос:
– Политиканы идут!
VIII
Масленицу в Фоминке справляли широко. В каждом доме стряпали пельмени, пекли блины, пили брагу. Молодежь строила горки-катушки. С утра до вечера катались на санках. Люди позажиточней запрягали лошадей в расписные кошевки, подвешивали под дугу бубенчики и катались – на зависть другим.
По вечерам пьяные парни у катушки дрались, рвали друг другу губы. Слышались визг, треск выламываемых заборов.
Иван на кружке, хитровато прищурясь, сказал:
– И нам бы покататься…
– У Лавриенко нашего – лошадь. У Краюхина – лошадь. У Лаптева… – подсчитал Павел.
– Немцов школьную запряжет. Вот и две кошевы.
– В гривы ленты вплетем!
– Девок, парней от катушки по очереди катать будем…
– Ты, Емка, – холостой, Немцов – холостой…
– И ты, учитель, холостой! Не вздумайте «Чем Русь славна» петь. Писарь с Удавом до сих пор ищут, кто на святках это пел, – смеясь, предостерегала Стеша.
Немцов смотрел на нее исподлобья.
– А может, ты со мной поедешь? – спросил он ее.
Женщина вздохнула:
– А меня ты тоже агитировать хочешь? Я только место в кошевке зря займу.
– Я скажу тебе: Стеша, дорогая, сердце ты мое вынула! – Немцов подвинулся к ней ближе.
– Смотри, я обратно его задвину…
Набрав полную кошеву девушек и парней, Иван важно уселся на передке, лихо присвистнул на лошадей.
Девушки взвизгивали от быстрой езды. Иван гнал к реке по искристой дороге, время от времени оглядывался на седоков. Все разрумянились. Девичьи лица, обрамленные цветными полушалками, были хороши и свежи.
Иван крикнул париям на катушке:
– Что же вы девушек на санках катаете? Или на лошадь не заработали? Заняли бы у Удава лошадку.
Ребята засмеялись, отмахиваясь:
– Даст он… Мы ему уже несколько лет за хлеб должны.
Детей у катушек стало больше, взрослых меньше: все катались на лошадях. Драки прекратились.
…Снег начал незаметно темнеть. Дороги днем оттаивали, с крыш падали звонкие капли. Ветер посвежел, насыщенный запахом мокрого снега, прошлогодней травы, неуловимо возбуждающим и тревожным.
За учителем установилась слежка. Ухищрения Филата Реутова всех смешили.
Прятать мешочки с литературой в снег уже было опасно: вытают, выдадут. Женщины долго советовались о месте для них, наконец радостно сообщили Ивану:
– Нашли, нашли, где хранить литературу. Не догадаться ни в жизнь! Сегодня, как стемнеет, мы спустим мешок в отдушины фундамента магазина. Когда надо – вытянем. Немцов с гармошкой караулить будет…
Хозяйка выставила в этот день зимние рамы. Ночная свежесть проникла в избу.
Учитель сидел у окна, прислушивался, не раздастся ли гармошка: это будет сигналом – все благополучно.
В небе мигали звезды. За рекой, в прозрачно-мутноватом лунном свете дымилась и темнела спящая тайга. В тишине громко стучали часы. Хотелось вырвать из них звук, чтоб он не мешал.
Хозяйка в кухне говорила протяжно:
– Проходи, Филатушка, проходи!
«Филатушка?!» Уж не тот ли, с висячим носом, шпик проклятый?»
– Пройду! – писклявым голосом отозвался тот. – Тоскливо вечерами-то. А квартирант-то дома ли?
– Дома. Уснул, наверное.
– И чего он в свободное время делает?
– Все читает да пишет.
И вот запела упоенно гармошка.
Иван чуть не рассмеялся от счастья. Реутов говорил:
– Это конюх школьный Немцов завел опять. Голова большая, а безмозглая.
А гармонь, надрываясь, пела. Ивану хотелось плакать, смеяться.
«Удалось! Удалось!» И было досадно слушать, как Реутов говорил громко, почти кричал:
– Как разведет голубы-то меха, себя забудешь! Гуляет, не женится. А уж перестарок. Появились, Таисья Васильевна, такие охальники: листки и подметные письма пишут, что царя им не надо! Да я бы сам таких раздавил.
Иван понимал, что кричит Реутов, стараясь разбудить его, но упорно притворялся спящим.
Курчавились озимые. Из-за пашен всплывало солнце. Небо было видно все, словно покрывало только этот один кусок земли. Сквозь посевы еще два дня назад виднелась серая земля, а сейчас вся пашня оделась в густую поросль.
В огородах копошились женщины, копали гряды. Слышались голоса:
– С лука сеять не начинают. Посей-ка его первым – весь год будет горький!
Малышев радовался приближавшимся каникулам: обязательно нужно съездить в Верхотурье, связаться с товарищами, запастись литературой.
Внимание, с каким слушали его крестьяне, обязывало знать много и глубоко.
Все больше приходило на занятия людей.
Малышев и братья Кочевы расширяли свое влияние.
Через Тагил строился мост, далеко неслись звуки пил, словно в траве стрекотал кузнечик.
Мужики, завидя учителя, бросали пилы и топоры. Школьные читки, посиделки и слухи о том, что он «политикан», сделали его известным в Фоминке.
Сидя на бревне, Иван рассказывал о пермяках, о их революционной борьбе:
– Не только рабочие проснулись. Знаете, что рабочий – брат крестьянину. Их одинаково давят.
– Постой-ка, Иван Михайлович, помолчи… – распорядился в этот раз мужик с пегой бородой и огляделся, выдернул взглядом из толпы молодого парня: – Ты, Егорша, посмотри за дорогой. Покарауль. Я потом все тебе расскажу.
Парень скрылся, мужики плотнее придвинулись к Малышеву.
– Ну, говори… Все говори.
Тот рассказал о том, как крестьяне некоторых районов Урала начали захватывать помещичьи земли, леса, луга.
– В районе Каслинского завода башкиры захватили заводской лес. В Монастырской волости, Верхотурского уезда, крестьяне объявили, что земли, которыми они пользуются, принадлежат им, а не горнозаводчику, и отказались платить арендную плату.
Иван достал из кармана старый номер «Искры», бережно развернул на коленях, прочитал:
– «Администрация дачи графа Строганова начала борьбу с порубками в лесах. Крестьяне громадной толпой двинулись, лесную стражу разогнали. В результате восемнадцать человек сидит в Перми, остальные по уездным тюрьмам…»
Малышев пытливо оглядывал толпу:
– Все уже понимают, что если у них отобрать землю, леса и небо, то жить нельзя. А у нас здесь Кислов задавил людей… а Филат Реутов шпионит… Сколько вы им должны?
– Да что там! Работаем от зари дотемна за долги!
– Начнем и мы. Большой путь с первого шага начинается, – заговорили мужики.
…Первое мая. С верховины текли ручьи, умывая землю. Речки вздулись, тайга струила хмельной запах. Летели косяками птицы.
Дети кричали:
– Весть несут! Весть несут!
Костлявые коровы бродили по дорогам.
По реке Тагилу шли лодки одна за другой, переполненные людьми. Кое-кто крадучись пробирался берегом, углубляясь в лес.
Было приятно Ивану и жутко от сознания, что делаешь что-то опасное и вместе с тем хорошее.
Пикеты – неожиданно возникающие из кустов парни – у каждого спрашивали пароль. На поляне, у костра, слышались голоса:
– Вот он, Иван-то Малышев!
– Это он…
– Совсем молодехонек!
– Ему верьте!
Эти слова обязывали. Сердце переполняла надежда.
Вскинув голову, Иван произнес:
– Товарищи!
На поляне стало тихо, точно и люди, и высокие кедры сдвинулись ближе, образуя плотный круг.
– Цель у нас с вами высокая, благородная… И чтобы ее достичь, надо понять, что силой мы будем тогда, когда объединимся!
В глазах людей он видел: его понимали, ловили и разделяли его мысли.
Сорвав с себя красную косынку, Стеша взмахнула ею и затянула:
Смело, товарищи, в ногу!
Кочев Евмений выкинул красное полотнище, и оно зашелестело над головами. В голове Малышева забилась радостная мысль: «Начали! Начали!»
Люди пели:
Все, чем держались их троны,
Дело рабочей руки!
На каникулы Иван уехал домой.
Молча смотрел он на мать, обняв ее за плечи. Ссутулилась, подряхлела Анна Андреевна. Губы ее высохли, собрались оборочкой. Теперь ее лицо напоминало Кирилла Петровича. У того тоже рот был собран в мелкие складки, как будто бледно-розовый цветок гвоздики.
В день приезда Иван направился по любимым местам – к Туре, к Кликун-Камню. Но что-то беспокоило его. Раза два оглянувшись по сторонам, он заметил притаившегося за углом высокого человека в соломенной шляпе.
«Понятно… Маевку в Фоминке помнят».
Верхотурье менялось. Ощущение, что дома врастали в землю, а улицы становились уже и короче, каждый раз в последние годы огорчало Малышева.
В гору поднималась девушка. Ведра, полные воды, на коромысле клонили ее к земле. Красивое чернобровое лицо искажено напряжением, покрыто потом.
– Помочь вам?
Чернобровая метнула на Ивана злой взгляд и прошла мимо. Но к ней немедленно подскочил человек в соломенной шляпе:
– Что он тебе сказал?
«Тоже! Такого верзилу следить за мной заставили: его за версту видно! – Иван ворчал на себя: – А я-то – хорош! Хотел помочь девушке! Да ее родители изобьют: на людях с парнем остановилась. Неволя, неволя и порабощение на каждом шагу. Порабощение и ханжество! И долго, очень долго от этого человеку не освободиться! Даже когда мы свергнем царя, полное освобождение людей придет не сразу. Начнется другая борьба. Борьба за человека, за его выпрямление, за освобождение от вековых привычек, от предрассудков. И кто знает, не будет ли та борьба труднее этой?!»
К Кликун-Камню Малышев не пошел, чтобы не показывать верзиле место собраний. Повернул к дому. Шпик, прикрываясь шляпой, следовал за ним по пятам.
У Маши заплаканы глаза. Иван увлек ее в огород.
– Что с тобой, сестра?
– Ничего, – сквозь сжатые зубы произнесла она. А глаза медленно наполнялись слезами.
– Нет, ты мне скажешь, дорогая.
Маша покачала головой. Все они такие, Малышевы: бодры, веселы, откровенны, только в горе замыкаются, уходят в себя, чтобы не ранить никого.
Встревожила Ивана Михайловича и мать. Она что-то знала, ее глаза испуганно следили за дочерью.
– Что с сестрой, мама?
Анна Андреевна вздохнула:
– Да ничего…
– Нет, мама, ты знаешь… скажи…
Мать всхлипнула:
– Не хотела я тебя тревожить, Ваньша.
Внутренне сжавшись весь, он уже не просил, а требовал:
– Говори.
– Полюбился ей парень один, наш, верхотурский. Да и она ему, видать, тоже. Давно это тянется. Осенью еще в прошлом году его женить хотели. Полгода отказывался, Машу называл: с ней, дескать, хоть сейчас в церковь. А старики – против. Присмотрели, вишь, ему богатенькую. А недавно вот и женили. Прибегал к нам он, в ногах у Маши валялся, а она, знаешь ведь, со смехом этак ему и сказала: «Поднимись, я ведь тоже другого полюбила!» Поднялся он и ушел. А она – реветь. Спрашиваю: «Для чего наврала?» – «Чтоб, говорит, ему легче переживать было». А сама вон – окаменела. На улицу не выходит. Все в огороде. И вышивание бросила.
Чтобы отвлечь сестру от горя, Иван попросил ее переписать отдельные ленинские брошюры, программу РСДРП. Программа была у Ивана, переписанная его рукой, но ее он подарил отцу.
Часто Иван говорил с Машей по азбуке глухонемых, напоминая первую фразу, сказанную ею знаками:
– А небо-то какое красивое!
Внимание и забота брата успокаивали. И все-таки однажды Маша заявила с обидным спокойствием:
– Поеду обратно, в школу. С глухонемой позанимаюсь.
Ее не удерживали, понимая, что здесь ей тяжелее.
Вскоре уехал и Иван.
Снова знакомой дорогой везет его степенная лошадка. Только встретил его теперь другой конюх: Немцов выполнил свое намерение и уехал в Березовск.
Новый конюх, седобородый старик, всю дорогу зевал, крестил рот и молчал, время от времени бросая косые взгляды на чемоданы, которые еле взвалил на телегу.
– Это верно, что ты политикан? – неожиданно спросил он.
– А что это значит?
Старик долго молчал, затем так же хмуро пояснил:
– Ну-у, значит, против царя и бога и совести.
– Нет, не верно. Против совести я не иду.
Иван Михайлович думал о том, что Машу незаслуженно обидела жизнь, что хорошо бы им работать вместе, что отец седеет, мать сутулится… оба глядят печально и скорбно. И жаль, что не будет в кружке веселых прибауток Немцова, не будет гармошки, не будет рядом товарища по борьбе.
По мере приближения к Фоминке Малышев успокаивался. Все радовало его. В молодых побегах хмеля плясала мошка. Еще недавно безжизненные сучки деревьев цвели зеленью, почки налились, как любопытные глазки.
Сердце всколыхнулось при виде первых домов Фоминки. У околицы, напротив дома Кочевых, Иван попросил возницу остановить лошадь и подождать.
Братья выскочили навстречу, вмиг перенесли чемоданы во двор.
Пока они выгружали книги, Иван громко говорил им, как бы сопротивляясь:
– Да куда вы чемоданы поперли? Я хочу хозяюшку мою скорей повидать… Отдайте мои чемоданы. Я после к вам зайду.
Пустые чемоданы Кочевы опять поставили на телегу.
Кучер равнодушно смотрел на их возню.
Хозяйка не ждала Ивана:
– А я думала, что успею до тебя и огород убрать.
– Вот я и приехал, чтобы вам помочь.
Конюх схватился за багаж и только тут с подозрением посмотрел на учителя: чемодан легко взлетел в его руке.
Толкнув чемоданы под кровать, Иван сказал:
– Таисья Васильевна, я убежал. Приду к обеду.
Широкой размашистой походкой Малышев направился к Кочевым: нужно проверить, как они распорядились литературой.
Когда он вернулся к обеду, все в доме было перерыто, навстречу ему жандармы выносили связки записей и дневников. Его заставили подписать протокол.
Хозяйка, злобно глядя на квартиранта, кричала.
– Змею какую пригрела! Опозорил дом!
– Да, попался теперь на голый крючок, – вторил ей Филат Реутов, который топтался посреди избы, торжествующе потирая руки.
«Вот так… поздравляю тебя с хорошей погодой!…» – мысленно сказал себе Иван и горько усмехнулся.
IX
В Верхотурье мимо родительского дома к тюрьме Иван прошел ночью.
«Хоть бы в окно постучать…»
Окна были темны.
«Рано отец лег спать. Интересно, прочитал ли программу?…» – Иван представил, как отец достает рукопись из-за икон, как развертывает ее, досадует, не все понимая…
Встали в памяти давно отзвучавшие слова отца: «Фармазоном не вырасти…» Самые неожиданные мысли приходили Ивану в голову. «Слышны ли мои шаги у Камня-Кликуна?.. За маевку со мной расплачиваются или кто донес? Нужно как-то сообщить о своем аресте семье. – Мучила неуверенность: – Что могут в охранке знать? – Перед ним промелькнули лица фоминских кружовцкев. – Верю. Никто не предаст. Жаль, не дали поработать! И все-таки в Фоминке теперь уже есть свои пропагандисты… В Махнево десяток…»
В тюрьме его вежливо расспросили об имени и занятиях, отвели в одиночку.
В камере на столе, привинченном к полу, лежало Евангелие.
Иван небрежно полистал страницы, усмехаясь про себя: на курсах их заставляли заучивать целые главы Евангелия. Тогда он ничего в нем не понимал, в голове от «святой» книги стояла страшная путаница. И сейчас Иван, перелистывая страницу за страницей, читал, стараясь вдуматься в смысл. И снова усмехнулся невесело: «Читаю Евангелие. Просвещаюсь! А на воле идет борьба! Там нужны люди!»
Но «просвещался» он недолго. Через несколько дней его снова куда-то повели по родным улицам. «Вон на горке наш дом! Хоть бы кого-нибудь увидеть из своих. В семье могут потерять меня…»
Тяжела покорность. Тяжело отдаваться чужой воле.
Соседка от своей калитки увидела, бросилась к дому Малышевых. Выскочила простоволосая мать, кинулась к сыну, но рыжий лупоглазый конвойный отбросил ее в сторону.
– Не плачь, мама! Все будет хорошо! Передай отцу, пусть чаще на божницу взглядывает!
Анна Андреевна отозвалась:
– Бога тоже потревожили!
Иван понял: был обыск, программу партии в тайнике за иконами нашли. Он похолодел: неужели и отец арестован?!
Рыжий конвойный ткнул прикладом в плечо.
– Рукам волю не давай! – крикнул Иван.
Конвойные, переглянувшись, мстительно улыбнулись.
– В Николаевских ротах покричишь не так!
Николаевские роты! Шлиссельбург в Нижней Туре!
Его втолкнули в теплушку. Проскрипел засов.
Иван забился в угол вагона, томимый тяжелыми предчувствиями. Вспомнилась Пермь, избиение. «Тогда мне было труднее… Тогда я не знал, за что меня взяли. А теперь я знаю, – думал он. – И там, в Перми, мне сказали, что я – сила! Сейчас мне не должно быть страшно!»
От станции Выя поезд, пройдя верст двенадцать, свернул к казенному Нижне-Туринскому заводу.
Тюрьма помещалась в зданиях бывшего николаевского орудийного завода. «Почему тюрьма носит название Николаевских рот? По названию орудийного завода или… Известно только, что эти роты – жестокое, кровавое дело».
Тюремные корпуса обнесены тыном из бревен, заостренных вверху, стоявших вплотную один к другому Рядом с воротами несколько деревянных домов для конвоя и надзирателей. От тюремных бараков веяла холодная угроза. Лес. Тишина.
Тяжелые ворота надсадно заскрипели, пропустили арестованного и сомкнулись. Тишина точно специально была придумана, чтобы внушить заключенным страх.
По лесенке вниз выстроились надзиратели. Все в одинаковой форме. Синий яркий кант на брюках, синий шнур, свисающий от кобуры револьвера, все на одно лицо. Ударами кулаков они начали перебрасывать Малышева друг к другу. Встречными ударами не давали упасть.
Пахнуло холодом и тлением. Стены – голый камень, покрытый плесенью.
Мелькнул перед глазами ушат, наполненный водой с пучками розог.
Его били нагайками, ключами от камер. Он подавлял крик, кусал губы, стонал. Казалось, сотни ног терзали его тело. Иван закрывал лицо руками. Били по рукам.
Очнулся ночью на сыром земляном полу. Тело горело и, казалось, не принадлежало ему. Пересохло во рту.
Какая-то неясная мысль тревожила сердце. Он не мог уловить ее и все шептал:
– Все равно мне не страшно! В Перми было страшно… а здесь – нет… Я знаю своих врагов…
Мысли все теснее переплетались в сознании: «Забьют? Жалко, что я так мало сделал. Что я сделал? Надо, чтобы и смерть моя стала сигналом протеста! Привязать себя к койке полотенцем, облить керосином из лампы… Обмануть надзирателей… Сжечь себя, да ведь здесь и лампы нет… Выжить! Выжить! Бороться с ними!»
На другой день Иван встретил своих мучителей без страха, только ненависть к ним до боли теснила сердце.
Вновь его оставили без сознания. Когда очнулся в темноте, спросил:
– Значит, я еще жив? – и не обрадовался этому и не опечалился. Ему было все равно: он был уверен, что его убьют, и готовился к смерти.
И опять нахлынули воспоминания о Перми. Первый арест. Слезы стыда. Иван удивился тому, что теперь не стыдно. А может быть, все это сон?
Карцер – аршин в ширину, полтора в длину. Выпрямиться нельзя, вытянуть ноги или сесть – тоже. Поджав ноги, Иван полусидел. Голова его сваливалась. Он понимал, что сюда его привезли не для того, чтобы он жил. А время бесконечно протяжно. Казалось, ничего нет на свете, кроме времени.
Он силился вспомнить что-нибудь хорошее и не мог, словно сгорели чувства, воля думать и жить. Перед глазами мелькали лица родных – матери, отца, сестры. Он шептал разбитыми губами:
– Мне легче, меня убьют… – и стонал: – Мама, перенеси!
От мертвой тишины звенело в ушах. Тишина давила. Сколько это может продолжаться? Что-то должно произойти! Что-то должно произойти! Скорей бы!
Он хотел умереть. Откуда-то выплыли слова: «Тюрьма, милок, это временное препятствие для нас, революционеров!» Ах, дядя Миша, родной! Ты меня жить зовешь! Ждать зовешь и выдержать зовешь! Я нужен! Нужен!»
Это был толчок для воли. Он должен выдержать. Он выдержит!
…Его снова куда-то потащили. Обласкала волна свежего воздуха. Солнечное небо шаталось над ним.
Очнулся он не в карцере на этот раз, а в общей камере. Какие-то люди хлопотали над ним, поили водой, прикладывали к ранам примочки.
Пахло гнилью, зловонием.
– Кто ты? – спросили его.
– Учитель.
– За что тебя?
– Не помню…
Иван закрыл глаза. Люди перестали допытываться.
– Молчун… – услышал он шепот.
– Пить…
Над ним склонилось заросшее лицо с лукавыми и теплыми глазами. Иван напился и отвернулся.
Люди собрались кучкой у зарешеченного окна и читали. Иван подремывал под монотонный, приглушенный голос чтеца и вдруг вздрогнул, разобрав знакомые слова. Ленин! Они читали Ленина!
Они заспорили о чем-то, Иван не слушал, весь поглощенный радостью: в камере читали Ленина.
– А вас били? – неожиданно спросил Иван. – И разве разрешают здесь читать Ленина?
– Очнулся! – заключенные окружили его. Их было человек пять.
– А ты откуда знаешь Ленина, такой молодой?
Маленький бледнолицый арестант с шумом закрыл книгу, показал обложку: на зеленом коленкоровом переплете стояло: Евангелие. Они переплели книжку Ленина в обложку Евангелия!
…Несколько дней близости с этими людьми преобразили Ивана. Однажды, все еще лежа на нарах, разнеженный общим вниманием, он тихонько запел:
Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно…
Товарищи, присев около него, подтянули припев.
И то, что он поет, что голос звучит бодро, наполнило его радостью.
В двери громко открылся глазок. Раздался грубый голос надзирателя:
– Прекратить пение!
Все посмотрели на глазок и почему-то рассмеялись, будто им никто не мог помешать петь. Но пение прекратили.
– Почему эта тюрьма называется «Николаевскими ротами»?
– Это еще Николаю Первому показалось мало обычных острогов. Он расширил устав тюрьмы, часть тюрем военизировал, для отдельных тюрем создал арестантские роты. Начальство – офицеры. Они и ведут «воспитание» заключенных. Избиения – обязательная мера. Арестанту пощады нет. Даже боевые патроны есть у караульных.
– А мне говорили еще в Перми, что можно прокурора вызвать… – задумчиво сказал Иван.
– Прокурорский надзор – далеко, не вызовешь. И не пытайся, друг, они отчитываются только перед комендантом крепости, а тот все их дела одобряет. Даже начальник тюрьмы на вызов не приходит. Только озлобишь еще больше этих… А зачем терять силы?
Время не торопится. Но товарищам некогда. То и дело вспыхивают споры:
– Ты изучал «Историю культуры» Липперта?
– Да, и Маркса – «Труд и капитал».
– Рассказывай. Кто еще что изучал?
– У меня – Базаров и Скворцов «Краткий курс экономической науки».
Иван забыл о боли, радуясь, что попал сюда: «Да это же школа!» С веселой жадностью он включился в занятия.
– Здесь и Яков Михайлович… «Андрей» сидел.
– Уважаемая тюрьма… А какое у тебя, соловей, партийное имя?
От ласкового слова «соловей», как иногда звал его отец, стеснило дыхание.
– Так какое же партийное имя?
Иван быстро ответил: «Миша»… и подумал: «Дядя Миша, дорогой мой крестный! Вот только товарищи из Фоминки и знать не будут, что это – я. Как-то они там? Удалось ли спасти хоть часть литературы?»
Он и не знал, что у братьев Кочевых и у Стеши в день его ареста был обыск. Только литература покойно висела в мешочках в подвале казенного магазина.
Не знал Иван Михайлович и того, что фоминцы собрали около сотни рублей, запекли в хлеб и поехали в Верхотурье, чтобы передать ему. Но в тюрьме его уже не было. Иван об этом и не узнал бы, если бы не вопрос следователя:
– Сколько в Фоминке людей состоит в вашем кружке?
– В каком кружке?
– Забыл? А в том, который деньги для тебя собрал.
– Не получал я никаких денег, – с искренним недоумением возражал Иван. А самому от радости хотелось запеть:
«Живы друзья! На свободе! Помнят… Ах, зеленая моя Фоминка!»
– Кому же принадлежала программа РСДРП, которую на божнице у отца в доме нашли?
– Мне. Я ее для обертки тетрадей купил, подешевле…
…В ноябре Ивана выслали в родной город под особый надзор полиции.
Свобода. Глазам открылось огромное, безоблачное небо, морозный день и высокие сосны, оцепеневшие от стужи и окутанные инеем.
Иван увидел эту красоту, но она его не согрела и не порадовала.
Бежали к монастырю верхотурцы.
Иван останавливал знакомых, желая узнать, что произошло, но те отворачивались от него, как от прокаженного, обходили стороной.
Какая-то приезжая богомолка сказала:
– Святому монастырю портрет наследника престола Алексея Николаевича прислали. В раме… С императорской короной на голове.
Иван побрел дальше, к реке. На заводях лед прозрачный, сквозь него видны камни, медленное движение рыб.
За Иваном неотступно вышагивал человек с тростью.
«Важная я теперь персона, – усмехнулся тот. – Даже портрет наследника не бежит смотреть, меня сторожит!»
Маша тоже была без работы: неблагонадежную в школу не допускали. Стражники наведывались и домой к Малышевым.
Отец невесело смеялся:
– Не дадут на нас ветерку дунуть… Берегут! Вот и наша фамилия в чести…
Маша суетливо бросалась на помощь отцу, когда тот возвращался с работы.
– Ты, Марья, не егозись. Иван да и ты много мне денег присылали… Отложили мы с матерью… Хватит пока… – говорил отец.
Иван вздыхал: мало приходилось ему присылать в дом денег: все тратил на выписку литературы для крестьян.
Мимо дома, как и прежде, проходили освобожденные из тюрьмы. Только отец теперь не покупал для них одежды:
– В доме свой арестант… Не знаю, чем накормить, во что одеть.
Это не обижало, отцу необходимо над кем-то подшучивать. Удивляло, что он стал теперь любопытен к богомольцам, пускал их в дом и все расспрашивал:
– Надеешься вымолить?
– Чего?
– Да царствие-то небесное… На земле его не добиться, так, может, там…
Снег быстро занес улицы, залепил окна. Талые, мягкие хлопья снега, похожие на перья, все падали, падали.
– Пурга лошаденку у меня к земле пригибает, – жаловался отец, возвращаясь с работы.
Ивану было стыдно: молодой, здоровый парень сидит дома, а пожилой, усталый человек вынужден работать за двоих.
Он писал друзьям в Фоминку:
«На отца смотреть больно: надо же прокормить такого лба, как я!»
Писал он им и другое:
«Веры в царя нет ни у кого. Правители напуганы революцией пятого года. Новому закону министра Столыпина верить нельзя. Растолкуйте крестьянам: кулаки выходят на хутора и захватывают лучшие земли, да им же еще и ссуды огромные крестьянский банк дает».
Кочевы отвечали:
«Мы поняли тебя, Иван. К нам приехали три семьи переселенцев. У них исподней рубахи нет, так их разорили. Земля их ушла под кулаков».
Письма перевозила Маша.
А большевиков становилось все меньше. Слабенькие отходили, сильные сидели в тюрьмах.








