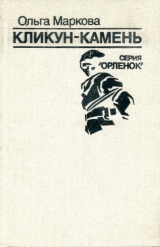
Текст книги "Кликун-Камень"
Автор книги: Ольга Маркова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Иван долго лежал в постели, вперив глаза в потолок. Образ черноволосой Наденьки плыл перед ним. Отеческая забота Кирилла Петровича о ней волновала. «Хороший он… Надо мне непременно с ней познакомиться, она старше и поможет во всем разобраться. Но как могла она смириться со своим пьяницей?»
III
Кама вскрылась и смятенно хлестала желтыми волнами, прибивая к берегам щепу, какие-то доски, целые бревна. Майское небо лило на землю тепло. С зазеленевших улиц не хотелось уходить. Даже Кирилл Петрович чаще покидал дом, тщательнее брил дряблые щеки и одевался. Весна!
Раз, уходя из дома, учитель важно предупредил:
– Иду к одному коллеге. Будем знакомиться с уставом союза учителей… Мечтаем создать свой союз в Перми. Вернусь часа через два.
Через два часа Кирилл Петрович не вернулся. Не вернулся он и утром на другой день.
В тревоге Иван направился в училище. Однако уроков не было. Учащиеся бродили по классам, не понимая, в чем дело. Никто из учителей не показывался.
Кто-то рассказал, что накануне учителя просили губернатора разрешить им собрание. Тот отказал. Здание, где собирались учителя, оцепила полиция. Только утром они могли выйти и пробиться к дому губернатора. К ним присоединилась большая группа рабочих.
Иван бросился на улицу.
Учителя ходили по городу, распевая торжественно и слаженно:
Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!
Они несли плакаты: «Долой самодержавие!»
Кирилл Петрович шел в первых рядах, без головного убора, седые кудри развевались, пиджак был распахнут. Увидев Ивана, он крикнул возбужденно:
– С победой, мальчик!
Видимо, губернатор разрешил им собраться!
Только ночью, идя с Кириллом Петровичем к дому, Иван узнал, что собрание так и не разрешили и что учителя протестовали не все.
– Вот когда все поднимутся… все вместе, тогда всего добьются! – задумчиво произнес Иван и добавил: – Борьба за общее счастье – вот что главное в жизни.
– Что ты? О чем?
Иван радостно глядел на учителя, улыбался и молчал.
Дома, стоя у стены, Кирилл Петрович начал читать стихи, покачиваясь, разрубая руками воздух. Голос гудел сильно и резко. Комнату, казалось, заполнили некрасовские мужики с котомками, пустившиеся на поиски счастливого человека, строившие железную дорогу:
Да не робей, за отчизну любезную
Вынес достаточно русский народ…
. . . . . . . . . . . . . . .
Вынесет все – и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Год назад эти стихи казались Ивану простыми. Теперь же в них была для него сила, помогающая борьбе.
– Поэзия! – учитель неловко улыбнулся: – Поэзия – это любовь к страдающему, обиженному человеку… – Кирилл Петрович пробежал по комнате, напевая:
Вихри враждебные веют над нами…
На другой день, вернувшись с курсов, Иван увидел учителя сидевшим у окна в пальто, в шапке, в калошах на старых ботинках…
– Ждете Наденьку? – спросил Иван.
– Жду ареста, – строго и гордо ответил тот. – Ночью полиция начала выдергивать людей, которые участвовали в учительском протесте… Я готов, раз я участвовал, я готов… – внезапно голос Кирилла Петровича пал до шепота: – Но если без меня придет Наденька, ты, молодой человек, успокой ее. Скажи, что я пострадал за правое дело… – глаза его увлажнились.
– Да, может, вас не арестуют! – попробовал успокоить его Иван.
Кирилл Петрович подскочил:
– То есть как не арестуют?! Должны!
Его не арестовали. Напрасно ожидая, он оброс седой щетиной и был, кажется, обижен, что его участия в демонстрации никто не принял всерьез.
Шел шестой год. Учительские курсы должны уже были бы закрыться, но из-за волнений в городе занятия то и дело прерывались.
От Юрия Иван узнал, что члены комитета партии большевиков Андрей Юрш, Александр Борчанинов прошли по цехам Мотовилихи, призывая рабочих бросить работу.
– Хоть бы в лицо их увидеть, спросить, что надо делать. Мы с тобой только пишем прокламации! – ворчал Иван, идя с Юрием Чекиным. – Я во сне даже пишу: «Вместо игрушечной конституции потребуем демократическую республику, которая обеспечила бы рабочему классу свободную борьбу за его мировую конечную цель – за социализм!» Давай поищем Александра Борчанинова. Может, и мы нужны будем, Юрка?
Как всегда, бродя по берегу Камы, они зашли далеко, где не слышно городского шума. Юрий спросил:
– Слыхал об Александре Лбове? Рабочий с Мотовилихи. Убежал от преследований в лес, сколачивает партизанский отряд. Не очень он грамотный. Только сельскую школу окончил. Отец его сотским был, – Юрий подтолкнул друга локтем. – Могу доверить тебе: хочу махнуть ко Лбову.
Сосны в зыбком тумане, казалось, оторвались от земли и плыли по воздуху. Голубое солнце поднималось над притихшей землей. Хотелось глубоко вдыхать прозрачный воздух, смотреть и на сосны, и на солнце, запоминать. Взглянув на друга, Иван испугался: так побледнел тот. Он сказал:
– Знаю я от Кирилла Петровича о Лбове. Говорят, что какие-то анархисты, бандиты, что ли, подались к нему. А он всех берет. Грабить начали. И ты, значит, тоже будешь грабить?
– Нет, я буду агитировать. Махнем вместе, а?
Иван твердо возразил:
– Не-ет, я должен вначале многое понять…
На углу Иван опять встретил белошвеек. Хохотушка была ярко накрашена, с насурьмленными бровями. Она глядела на Ивана не с обычным лукавым озорством, а зазывая. И не смеялась.
Она сказала:
– Пойдем, паренек, со мной…
Теперь подруга подтолкнула ее локтем:
– Оставь, Лизка, он ведь еще маленький…
– Ну что ж, в постели у меня подрастет…
Иван не понял всего, о чем она говорит, но в ужасе от ее бесстыдного взгляда отпрянул.
Мотовилиху закрыли. Партийный комитет требовал уплатить уволенным рабочим двухнедельный заработок, призывал к массовой политической стачке.
Около десяти тысяч рабочих «гуляли». Растерянности не было. На митингах были внимательны, деловиты, словно каждое слово, сказанное большевиками, указывало выход из положения. Они учились. Учился и Иван.
По вечерам, рассказывая учителю о том, что видел за день, он уверенно говорил:
– Завод откроют… иначе народ совсем обнищает… побоятся не открыть…
– Как ты вырос, мальчик… Мне кажется, что ты уже знаешь такое, чего не знаю я.
Завод и в самом деле скоро открыли. Волнения же в Мотовилихе не прекращались. Солдаты и казаки старались разгонять демонстрантов.
Над малой проходной пушечного завода вился красный флаг.
На горе Висим по ночам пылали костры. По улице Каменной строились баррикады.
Курсы возобновили занятия. Но это теперь не радовало Ивана.
– Теряем время, – говорил он Юрию. – Там баррикады, засады… а мы… хоть бы патроны подавать…
Снова падал снег, слепил лица, скрипел под ногами. Но эта перемена не радовала, как раньше.
Юрий смотрел на Ивана насмешливо.
– А мы со Лбовым сразу царя свергнем!
– Да что вы одни-то… надо со всеми вместе!
Дома еще в прихожей Иван услышал женский голос, дрожащий и старый.
– Понимаешь, Кирюша, ведь он очень темен. Слова до него не доходят…
У хозяина гости? Иван, прислушиваясь, остановился у вешалки.
Выглянул Кирилл Петрович, обрадованно воскликнул:
– Ванюша! Вот кстати! А у меня Наденька!
Сердце Ивана вздрогнуло: вот с кем он поговорит, она поймет. Когда человек много страдает, он все может понять!
Быстро сбросив пальто, он вбежал в столовую.
Кирилл Петрович уже сидел за столом, прямой и важный. Лицо его было счастливо, как лицо человека, нужного кому-то.
Напротив сидела толстая старуха с двумя подбородками, пухлые пальцы были унизаны кольцами. Держа на ладошке блюдечко, она дула в него.
Иван оторопело остановился. Может быть, Наденька схоронилась в комнате хозяина?
– Знакомься, Ванюша, – торжественно сказал Кирилл Петрович. – Это – Надежда Васильевна! Наденька. Моя невеста в прошлом.
«Наденька» доставила блюдце, замахала пухлыми ручками на «жениха», томно, расслабленно произнесла:
– Не надо вспоминать, Кирюша!
Оба они прослезились, засморкались. Иван в замешательстве пролепетал:
– Очень рад… – А сам озорно подумал: «Не очень же высосали ее переживания», – и сел в кресло, к окну.
С улицы раздался дикий женский вопль:
– Сенечку моего… Сенечку у-убили! Разбойники из леса Сенечку убили…
Иван увидел в окно простоволосую бабу. Она бежала, нетвердо ступая по дороге, болтаясь из стороны в сторону, точно пьяная, и кричала беспрерывно:
– Сенечку-у…
Наденька отхлебывала чай, сосала сахар, мелкими кусочками кладя его в рот.
– На улицу выходить стало страшно!..
Кирилл Петрович порывисто успокоил:
– Я провожу тебя, Наденька…
– Ах, друг мой, пожалуйста.
– Говорят, почту Лбов ограбил, убивает… разбойник… Из рабочих… Что хорошего ждать! – заявила Наденька.
Иван вскочил, выбежал в коридор, поспешно оделся. Ему было и стыдно, и смешно, и слезы бессилия подступали к глазам. «Наденька. Джемма… С ней я советоваться хотел!»
Не разбирая дороги, он брел к Каме, раздумывая горько:
«Кирилл Петрович, дорогой человек, свою жизнь разбросал по мелочам для Наденьки. А кто она? Руки в перстнях…»
Уныло. Ветер свирепо швырял снегом в лицо. Груды облаков, казалось, падали на землю, переваливаясь друг через друга. Холодный, никуда не зовущий край горизонта, маленькие домишки, за стенами которых не чувствовалось ни тепла, ни уюта. Иван присел на сваленные бревна.
Перед ним лежала Кама, скованная льдом. Там, где она впадает в Волгу, около горы Лобач, Репин рисовал своих «Бурлаков». Так говорил Кирилл Петрович.
Бурлак… по-татарски – значит бездомный человек… Но почему – бездомный… может, обнищавший?
Сколько же видела эта Кама-река? И названа-то как – Кама… Так и кажется – течет, течет… Удмурты говорят «Буджим-Кам» – длинная река. Коми говорят «Кама-ясь» – светлая река… Иван заволновался. Эта связь в языке двух народов показалась знаменательной.
IV
Грубый пинок заставил вскочить. Удар в ухо бросил его на бревна.
Кто-то поднял Ивана, заломил руки за спину, куда-то его поволокли, больно подталкивая сзади.
– Куда вы меня?
– Заткнись, бандюга лбовский…
Он не видел, куда его ведут. Падая от ударов в спину, поднимался; снова его волокли. Бросили в какой-то подвал и снова били.
Иван хотел выпрямиться, но упал от нового удара. Тяжкая усталость охватила его.
Плеть, как змея, опоясала спину и грудь. Стараясь спасти глаза, он заслонил их рукой. Удары жгли, как горячий дождь, находили, казалось, каждый кусочек тела, голову, уши, пальцы. Захватывало дыхание. Его пинали, втаптывали в пол.
Доносились неясные слова, похожие на стоны, сливались в один непрерывный крик. Он не понимал, что это кричал он сам, ничего не понимал, не знал, утро сейчас или ночь, сколько прошло времени, может быть, год? Или минута?
Заскрипела окованная железом дверь, Ивана опять поволокли и швырнули куда-то.
Гул голосов встретил его:
– Мальчишку-то за что?
– Украл чего-нибудь…
– Лбовец он.
– Нет у Лбова таких… – как из тумана, доносились до Ивана слова. Может, в бреду он видел, как около двери столпились арестанты.
– Вон как тебя встречают! – сказал кто-то и закашлялся.
– Еще бы! – раздался невеселый смех.
– Как замок забрякает, все к дверям бежим: хоть кусочек свежего воздуха дохнуть.
И верно, дышать было нечем: от зловония щипало глаза. На грязных нарах копошились люди, невысокий арестант с размокшим ртом что-то кричал. Камера в махорочном чаду.
Голова гудела, казалась разбухшей. Тело болело. Иван пополз на четвереньках, стараясь спрятаться от взглядов, тычась о чьи-то ноги, о нары. Нащупав солому, упал и затих.
На нарах, на полу сидели, лежали люди. Маленькое зарешеченное оконце, открытое настежь, не пропускало воздух, в него видимым снопом вливался мороз, но почувствовать его было нельзя, такая стояла жара и духота.
Гулко раздавались в коридоре шаги. Вот забряцали ключи… Окованная дверь камеры открылась. На середину, глухо ударившись, упало тело человека. Кто-то дико взвизгнул во сне. Кто-то поднял голову и пугливо уронил ее вновь.
Иван подполз к человеку, попытался перевернуть его и заплакал от бессилия. Наконец удалось уложить новичка на спину. То был пожилой человек в изодранной на плечах косоворотке, с запавшими глазами.
Иван долго пытался подняться сам, и это тоже удалось ему. Ноги казались ватными. Пошатываясь, добрел до стола, из всех кружек собрал оставшиеся капли, вернулся к распростертому на полу человеку, смочил его губы.
– Эй, паря, подай-ка мне онучи. Ноги мерзнут, закутаю.
Превозмогая боль во всем теле, Иван подал на верхние нары какие-то тряпки и, глядя в глаза человеку, спросил беззвучно:
– За что?
Тот не ответил, бормотал свое, окутывая тряпками ноги:
– Разукрасили же тебя!..
Кто-то застонал внизу. Иван сел около избитого: тот начал приходить в себя, долго, не мигая, смотрел на мальчика. Неожиданно улыбнулся.
Иван спросил:
– За что? – он совсем утратил голос.
– За силу. Плакать, сынок, не будем. Помоги-ка мне пробраться к нарам, к свободному местечку. Там и поговорим.
Когда место было найдено, избитый долго лежал с напряженным лицом, борясь с болью. Иван вытер ему лоб мокрой тряпкой.
– Зови меня дядей Мишей.
От прозвучавшей в голосе ласки Ивану сдавило горло. О какой силе говорил дядя Миша? Ведь избивают-то их, а не они?
Свесив с нар голову, худой арестант посмотрел на них крохотными искрящимися глазками и сказал:
– Уж который день лбовцев ловят.
– Их перевесить надо! Не пугали бы честных людей, – отозвался кто-то еще.
В запавших глазах дяди Миши светилось любопытство.
– Посиди со мной! – ласково попросил он Ивана. – Как здесь очутился?
Тот порывисто сказал:
– Я и жить теперь не хочу…
Дядя Миша тоскливо рассмеялся:
– Ничего… здесь все через это проходят. Ты скажи только – не лбовец?
Иван торопливо покачал головой.
– Я ненавижу… Я убью… – прошептал он, дико оглядываясь.
– Полицейских?
Дядя Миша заметно повеселел, потянул Ивана на солому, рядом с собой.
– Озлобляться не надо, парень. Много о нас плетей истрепано… Я так же вначале думал… Моего горя семерым не снести. За волосок держался, а потом услышал о крепких людях, которые за народ стоят… Нашел дорожку-то…
– Помоги… – прошептал Иван.
– Помогу, – твердо пообещал дядя Миша. – Нас вот выдал один человек… Очень ему доверяли. Оружейным складом боевой дружины заведовал… Всех и посадили. По допросу видно, что донос-то от знающего человека… Нет ничего хуже предательства! Обмануть доверие товарищей только самый подлый из подлецов может. Ну, ничего… нас много, а предатель-то – один. Веришь ли, и радость есть: напечатаем мы листовку, а ее к утру кто-то еще перепишет.
– Да ведь это мы с Юркой! – прошептал Иван. – Ночами… мы с курсов учительских…
Скрывая невольную улыбку, дядя Миша строго зашептал:
– Случалось, тем же почерком и меньшевистские листовки были переписаны… Типографии у них нет, так они от руки писали…
Иван отвернулся сконфуженно.
– Слыхал я о меньшевиках на митингах, а кто такие – не пойму, – признался он.
Прошла неделя. Дядя Миша рассказывал Ивану о меньшевиках, о событиях этих лет понемногу, обстоятельно, как первокласснику сообщает учитель азы. Рассказывал он и о Лбове.
– Жаль, грамоты у рабочих маловато. Вот и Сашка Лбов… наш он, мастеровой. Ушел в леса от преследований, отряд сколотил. В комитете думали – опорой нам будет его отряд. А он попринимал к себе всякой сволочи. Те быстро отряд-то в шайку превратили.
На допросы Ивана не вызывали, как и дядю Мишу. Забившись в угол, они без умолку говорили.
– А концы прятать умеешь? Про законы конспирации слышал? – все допытывался дядя Миша. – Вот слушай, а то в подпольную работу и не суйся: выдашь всех. Невесту, а то и мать родную встретишь – виду не показывай. Следи, не тянется ли за тобой хвост, шпик проклятый, на явку. Литературу или там… оружие… мало ли, все надежно надо спрятать. А уж попался, так имена товарищей и адреса проглоти…
В стороне в группе арестованных тихо спорили. Слышались непонятные слова – гуманизм, декадентство. Спорили о мужике. Иван подумал: «О простых вещах, а говорят словно не по-русски».
Дядя Миша усмехнулся.
– Ты не всему верь. Пусть языки чешут. Нам ясно одно: так больше жить нельзя. О силе-то я тебе сказал не зря. Боятся они нас. Свергнем царя, отдадим крестьянам землю, власть народу – и начнем все заново. А без боя власть не получить, значит, пора драться.
– Дядя Миша, а меня долго здесь продержат? Скоро экзамены. Боюсь, как задержат.
Дядя Миша уклончиво протянул:
– Посмотрим. А куда же ты после курсов подашься?
– К своим поближе, к Верхотурью. В село Фоминское обещали назначить.
– Вот и смотри, как начнешь работать, что к чему. Вы, молодые, вам уж обязательно придется самодержавие-то ломать…
Казалось, так просто: объединить ненависть всех людей, и она станет силой, способной изменить жизнь.
Иван думал: «Бороться, тем более учить бороться других, для этого нужно много знать».
В камере становилось тише. Зевали, чесались люди, укладываясь на нары.
Дядя Миша шептал, вглядываясь в лицо Ивана:
– Если у тебя задумка есть – переделать мир, так ты должен знать законы развития классовой борьбы…
Ночью в камере поднялась драка. То и дело наведывались надзиратели. Кого-то вызывали, уводили. Арестанты ссорились: в дальнем углу камеры все время играли в карты.
– Уголовники… – протянул дядя Миша. – Садить-то теперь некуда, все тюрьмы на Руси переполнены, всех вместе и суют. А ты, милок, не гляди плохо на уголовников. Они тоже люди. Им тоже правду внушить можно… На свою сторону их перетянуть. Кто раньше поймет, тот кого-то еще поведет. И я в тюрьме раскрыл глаза-то, как оружием владеть, бомбы начинять, взрывчатку добывать и за словом верным в карман не лазить. Тюрьма, милок, это не только препятствие для нас, революционеров, но и учение. Революция-то обязательно повторится… И тогда уж… Меня, милок, надолго посадили. Так ты… вот запомни один адресок… Там тебя и проверят, и свяжут с другими… И книги, какие надо, дадут. – Дядя Миша зашептал адрес, все продолжая пристально вглядываться в лицо Ивана.
Майским утром, чуть свет, Ивана выпустили. Кирилл Петрович все дни искал его по Перми. И, найдя, поручился, что он не лбовец. Учитель в молчаливом удивлении поглядывал теперь на своего квартиранта.
– Били… – сообщил Иван. – В синяках, наверное?
– Не в этом дело… Что-то в тебе изменилось, мальчик. Видишь, как получилось! – словно извиняясь, произнес Кирилл Петрович. – Вот будешь учителем, сиди дома да в школе.
Непонятный смех мальчика рассердил учителя.
– В политику не мешайся, я говорю! Она далеко уводит. И от дела отвлекает, – почти закричал он.
– А вы всю жизнь дома просидели… Наденьку ждали… Зачем? – вопросом ответил Иван.
Больше до дома они не произнесли ни слова.
Теперь Иван часто видел белошвейку Лизу. Но одну, без подруги. Лицо ее было измято, потухло.
Раз, отважившись, подошел к ней:
– Как же, Лиза, так получилось?
– Хозяйка выгнала… – Лиза заплакала.
Иван отдал ей деньги, какие с ним были, и спешно отошел.
Экзамены, сборы в дорогу отвлекли его от мыслей об этой девушке.
Обычно разговорчивый, Кирилл Петрович притих, был печален, задумчив и сух. Только когда Иван уезжал от него в Верхотурье, сказал сдавленно:
– Скучно мне без тебя будет, Ванюша. И многое ты мне открыл… – видя недоумение Ивана, повторил: – Да, многое открыл! Пересмотрел я в последние дни свою жизнь, все до мелочей… вдумался в свое прошлое, судил себя строго. Это с тех пор, как ты сказал мне, что я бесцельно прожил.
V
Отец поседел, ссутулился и все порывался что-то сказать или спросить, но только смущенно откашливался.
Майский день чист и тих. Небо свежее, зеленое. Тот же Рыжик вез Ивана со станции к дому. Звонили колокола. «Как будто я и не уезжал». Те же богомольцы с просящими глазами шмыгали по улицам.
А дома и церкви словно стали ниже и темнее, улицы сузились.
– Как, отец, все еще богомолок не терпишь?
– Ну их, длиннохвостых бездельниц! – добродушно отмахнулся тот. – У нас вон в прошлом году в сентябре.. Ну да, в пятом году, 12 сентября… еще один собор заложили. Огромный, каменный.. Три престола в нем. Восемь глав будет. Сто сорок одних окон. Денежек-то ухлопали опять!
Иван поинтересовался.
– Ну, а ось у телеги еще деревянная?
– Ладно, и на деревянной проезжу… – Отец нет-нет да и заглядывал сыну в лицо и вздыхал: прежнего Ивана нет, лицо утратило детскую мягкость, лукавство во взгляде заменилось сосредоточенным и непонятно упрямым выражением.
На родной горке Иван заметил мать, спрыгнул с телеги, побежал.
Анна Андреевна тоже стала словно ниже ростом. С прежней добротой и любовью смотрела она на сына.
– А я баню… натопила. Жду…
– Мы вместе с ним и сходим, – заявил отец.
В доме за плитой стояла Маша.
Иван бросился к ней.
– Что же ты, батька, не сказал, что Маша уже здесь?
– Да тебя больше богомолки интересовали.
– Ну, соловей, поздравляю с хорошей погодой! – смеялась Маша.
Вот так: он дома. И как хорошо, что Маша вспомнила от детства идущие слова: все удачи в семье Малышевых отмечались поздравлением с хорошей погодой.
Родители, совершенно счастливые, смотрели, как дети кружат друг друга, смеясь от радости.
Первой опомнилась Анна Андреевна и сказала с нарочитой строгостью:
– Марья, пельмени уплывут!
– Поймаем! – Маша шагнула к плите.
Иван с удовольствием проследил за ней. Что-то изменилось в сестре: веселье сменялось тревогой; румяная, она вдруг бледнела, расторопно сновала по комнате и вдруг останавливалась, думала о чем-то.
– Ты, Маша, еще лучше и ростом выше стала. А то я испугался: дома на пол-аршина вроде в землю ушли, родители наши тоже вроде меньше стали…
– Это потому, Ваньша, что ты сам вверх выхлестнул, – прогудел отец. – Шестнадцать лет, а все осьмнадцать дашь.
– Как твоя глухонемая ученичка поживает? – спросил Иван у сестры, усаживаясь вместе со всеми к столу.
– Беда с ней! Подходящих книг для нее не найду! – ответила та.
Иван заговорил с Машей пальцами. Отец поглядел на него, на дочь.
– Ну, мать, дождались! Два учителя в доме, оглушат нас своей азбукой! Говорите тише!
Дети шутки не приняли. Иван выглядел виноватым, Маша – испуганной. Родители рассердились.
– А ну, прекратите кривляться!
Однако главное было сказано: Иван просил сестру отвлечь от бани или задержать в избе отца, чтоб он мог вымыться один.
– Почему?
– Не хочу ему рубцы на теле показывать.
– Откуда рубцы?
– Избили. Сидел в тюрьме, по ошибке за лбовца сочли.
Вслух Маша сказала:
– У меня в школе ученики в разбойника Сашку Лбова играли.
– А он не разбойник, – возразил Иван.
Маша перестала есть, снова побледнела.
– А кто же?
Понимая, что сестра боится за него, Иван рассмеялся и принялся рассказывать о Лбове.
Отец, довольный, поглаживал седеющую бороду: дети выучились, могут вести серьезные и умные разговоры.
Все затихли, слушая Ивана.
Больше всего интересовала отца русско-японская война. Он жадно выспрашивал о подробностях:
– Так, значит, контр-адмирал Небогатов без боя русскую эскадру отдал? Вишь, ведь как! Две тысячи матросов к боям были готовы, а он сказал, что их жизни пожалел? Продажная тварь. Россию продал!.. Когда, говоришь, это случилось? В мае пятого года?
Рассказывал Иван и о декабрьских рабочих волнениях в Мотовилихе, о подавлении их, о Кирилле Петровиче и Наденьке. Умолчал только о дяде Мише, о явке, которую тот дал, о задании – организовать в Фоминке кружок.
Перепели все песни, сидя до сумерек у раскрытых окон.
Отец вздохнул:
– Ох и Поешь ты, соловейко! Пой, Ваньша… В песне народ настоящей жизнью живет, – и рассмеялся: – В песне да в бане. Собирайся, Иван.
Маша стремительно исчезла. Иван достал из чемодана одежду, из которой вырос:
– Вот, отдай арестантам, мама. Небось все еще на базаре обноски для них покупаешь, – и тут же обратился к отцу: – И что же они тебе рассказывают теперь, арестанты-то?
– Много, Ваньша! Народ-то не только в Перми поднимается… – Отец пытливо смотрел на сына, словно проверяя его.
Иван серьезно подтвердил:
– Поднимается народ.
– Что ты знаешь? – враз осевшим голосом спросил отец.
Запыхавшаяся, вернулась Маша. Заметив, что платье на ней мокрое, Иван понял, весело ответил отцу:
– Кое-что знаю.
– Смотри, тебя в тюрьму или из тюрьмы поведут, у меня для тебя обносков не найдется… – Отец любовно оглядел сына: – Вымахал! Собирайся в баню.
Мать подала Ивану чистое белье:
– Я тебе купила не обноски, как арестанту, а новенькое! Вырос, и над губой уж пух загустел.
– Спасибо, мама.
Отец ушел вперед.
Из огорода, где в стороне стояла баня, Иван с удовольствием оглядел берег реки, золотые маковки церквей, дома, бежавшие вниз по угорью.
Чтобы войти в дверь бани, ему пришлось согнуться. Парной и жаркий воздух захватил дыхание.
Отец голый бегал по бане и бранился:
– Баню истопили, а воды горячей нет! Как бабы каменку-то не расплавили! Вот я им…
Иван еле сдержал смех: догадливая Маша, да не очень: что теперь ответит отцу?
Когда вернулись в дом, Маши не было.
– Где же она?
Мать отозвалась:
– Ушла учебники какие-то искать.
…Маша ждала брата в рядках малины. С улыбкой поглядывая на него, спросила:
– Ну, и чему ты научился, рассказывай.
– Многому, Маша, – серьезно ответил Иван. – Я понял знаешь что? Нужно не транжирить время ни минутки… Нужно учиться. Учить других.
Видимо, Маша ждала не такого ответа. Она разочарованно протянула:
– Детей? Это я знаю.
– Не только детей. Предстоит борьба, Маша. Либо мы, либо буржуи. Лучше – мы. Только нам нужно много знать. Вот я о чем. Читала ты Ленина?
– Нет. – Маша прислушалась к пению птиц в кустах и повторила: – Нет… Но очень хочу.
– А я читал. Я дам тебе. Я достану. Пойдем. Уже ночь. Счастливый день короток… – А сам все медлил. Хотелось узнать, как жила Маша. Какое-то горе было у нее.
Неожиданный дождь загнал их в дом.
– Вот так тебе, – смеялась Маша над братом. – Не любопытничай.
Первые дни Маша робела перед братишкой и все с большим удивлением следила за ним. Еще все спали в доме, а он уже тихо выходил из чуланчика в огород и там, сидя на низенькой скамье, читал, делал какие-то выписки. Холодная заря поднималась и текла.
Искупавшись, Иван помогал матери по дому. И что бы он ни делал, видимо, одна какая-то мысль поглощала его внимание.
– Тебе – шестнадцать или шестьдесят? – спросила как-то Маша, застав его в огороде.
– Мне – шесть. Я ничего не знаю. – Иван с досадой захлопнул книгу.
– Тебе сто шесть. И я сведу тебя к друзьям.
Вечером она вела его по знакомому пустырю, через репейники и крапиву, к Камню-Кликуну.
Все так же спали ягнята на узкой влажной тропе, те же запахи стояли над пустырем. Иван посмеивался:
– Опять весь репей на юбку соберешь.
– Ах, как ты тогда драпал! – воскликнула со смехом Маша.
– Я тогда не знал, что в Кликуне твои друзья сидят. И мне было на два года меньше.
– Помолчим.
Река чешуйчато поблескивала и плескалась рядом. Какие-то розово-сизые птицы пролетали без крика. Воздух холодел, подползала влажная пахучая темнота. Маша внезапно остановилась, обернулась к брату. В темноте белело ее лицо да светлые цветочки темной кофты.
Неожиданно сестра обняла его. В молчании постояли они, взволнованные мыслью: кончилось детство.
Навстречу горланил Кликун. Они обошли его с долины, где было безветренно, темно.
Маша тихонько свистнула, ей ответили таким же свистом.
У самого Камня в темноте сидели на траве люди. Один сказал:
– Вот и Малышевы. Иван да Марья, – и добродушно рассмеялся: – Место мы выбрали хорошее. Кликун всех отпугивает. Можно говорить не таясь. Мария Михайловна сказала, что ее брат только что приехал из Перми, видел все, что там происходило, своими глазами.
– Интересно послушать…
– Может, расскажешь, паренек?
Иван на минуту растерялся. Но, не выдав себя, начал спокойно, неторопливо, тщательно подбирая слова:
– Много я не понимал тогда… Только в тюрьму случайно попал, так вот там мне человек хороший растолковал… В эти годы рабочий класс проснулся, товарищи, – собственный голос показался ему чужим. И последние слова – выспренними, чужими. Он смолк на минуту.
Плескалась вода. Трава чудесно пахла. Было тихо, влажно. Сгущалась темнота. Иван рассказывал о бесчинствах казаков и охранки, о закрытии Мотовилихи, о безработице и голоде рабочих. Он и не подозревал, что столько воспринял из того, что видел и слышал тогда. Порой голос срывался. Иван конфузился: голос все еще не установился, подводил его.
– Еще в октябре рабочие Мотовилихи были вооружены, организованы в боевые дружины. Но оружия было мало…
– Для нас сейчас самое главное – это борьба с меньшевиками, – произнес из темноты голос, густой и прерывистый, как у человека, долго терпевшего зло. – Они кричат всюду, что революция кончилась навсегда. Неграмотным все мозги запорошили, стараются внушить, что партия изжила себя…
– Тоже мне, идеологи!..
– Да мы их на обе лопатки!
Иван тихо продолжал:
– Рано или поздно придется за оружие браться. Всем. Это мне тот человек в тюрьме говорил…
Когда Иван кончил, кто-то одобрительно произнес в наступившей тишине:
– Ну вот, у нас на одного большевика больше!
…Теперь часто Иван пропадал из дома, возвращался поздно. Отец до прихода сына не ложился в постель, но не спрашивал, куда тот уходит каждый вечер. Раз только хмуро и озабоченно сказал:
– Смотри, Ваньша. Время смутное. Один в одну сторону тянет, другой – в другую… своего от чужого не отличишь.
Иван взял его руку. Шершавая, жилистая, она тяжело лежала у него в ладони.
– Я отличу. Завтра в Фоминку в школу еду…
Михаил Васильевич был печален и горд.
– Дай и мне чего почитать. А то меня одни арестанты образовывают, – после паузы попросил отец. – Только почему завтра в Фоминку? Доживи хоть до своих именин.
– Нельзя. Что именины? Семнадцать лет мне и там стукнет.
– Стукнет! Смотри, как бы по тебе чем-нибудь не стукнуло?!
– Не беспокойся, отец. Чего бы ни случилось, не беспокойся. Маму береги.








