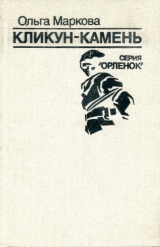
Текст книги "Кликун-Камень"
Автор книги: Ольга Маркова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
XII
Тюмень – хороший город.
Малышев и Ермаков сняли отдельную комнату на Большой Разъездной улице. Им никто не мешал читать, не вмешивался в распорядок дня. Только раз в неделю в их комнату заглядывал стражник с золотушным лицом.
– Живете? – спрашивал он. – Ну и живите!
Федя не нашел работы, и ему разрешили уехать на строительство Омской железной дороги.
Ежедневно к восьми часам утра Киприян уходил на электростанцию, где работал, а Малышев направлялся на «службу» в магазин Агафурова.
Братья Агафуровы и не подозревали о том, что застенчивый конторщик со светлыми густыми усиками, «поднадзорный ссыльный и неблагонадежный», уже и здесь завел подозрительные связи.
Главный бухгалтер Николай Иванович Баринов говорил о нем:
– Скромный, дело знает.
Был Баринов осторожен в движениях, тих и внушителен. По пустякам ни к кому не придирался, об ошибках не докладывал хозяину. Его уважали.
Конторка Ивана стояла между кассой и окном с видом на Царскую улицу. Сидя за ней, он заносил каждую торговую операцию в огромный журнал, подводил баланс. Этот журнал велся специально для податного инспектора.
Солидный размер журнала и отчетливые, красиво расположенные записи как бы говорили о кредитоспособности фирмы.
На улице звенела зима. Сыпал жесткий снег. Короткие дни, длинные ночи наступали и уходили. Завывали метели, а пропагандист партии Миша бегал по кружкам вместе с Киприяном. Они громили меньшевиков и эсеров, рассказывали о шестой Всероссийской партийной конференции РСДРП, о том, что меньшевики-ликвидаторы изгнаны из партии. Конференция укрепила партию большевиков как общерусскую организацию, определила ее линию и тактику в условиях нового революционного подъема.
Снег съедали сырые апрельские ветры, когда до Тюмени дошли слухи о кровавых событиях на реке Лене.
Листовки летели с незакрытых чердаков домов, висели на заборах, их находили рабочие в своих карманах, читали, передавали другим.
«…4 апреля убито и ранено более пятисот человек».
Стыла кровь.
Иван Михайлович размышлял: «Давно не писал своим… Если бы Ленин был сейчас в России! Если бы! Знает ли он о ленских злодеяниях? Какая чепуха, конечно же, и в Париже он узнает все немедленно. Родным писать я о Лене не могу… Но они там, в своем Верхотурье, знают ли?»
Как-то в обеденный час в магазине, как это часто бывало, остались Малышев с Бариновым. Их работу прервал вояжер из чайной фирмы «Высоцкий и К°». Он вбежал в магазин и заметался, бестолково, испуганно твердя:
– О, мой боже! Спасите… спрячьте!
На Царской улице раздавались крики, свистки.
Иван, не раздумывая, схватил вояжера за руку и увлек в товарный отдел. Баринов опередил их, открыл громадный полупустой шкаф.
Вояжер, даже сидя в шкафу, продолжал твердить:
– Спасите… я – еврей… они гнались… – и бормотал молитвы.
Шкаф закрыли на ключ. Малышев постучал в створку и приказал:
– Перестаньте молиться, чтобы вас не слышно было!
Когда погромщики вбежали в магазин, Малышев и Баринов сидели, углубленные в работу.
– Сюда никто не входил?
Иван замер: как-то поступит бухгалтер? Пауза затянулась. Наконец Баринов оторвал взгляд от толстой бухгалтерской книги, удивился:
– А кто войдет? Сейчас обеденное время.
«…4 апреля 1912 года на реке Лене убито и ранено…»
Ленин уже писал, что в ответ на народное возмущение царское правительство намеренно разжигает национальную рознь. Бедного тихого еврея надо травить, как собаку, только потому, что на реке Лене… для того, чтобы гнев народа двинуть в другую сторону!
Остаток дня длился бесконечно. Когда кто-нибудь из конторщиков направлялся в товарный отдел, Баринов с Малышевым тревожно переглядывались.
Вошел жандармский ротмистр Чуфаровский, который в магазине Агафурова пользовался скидкой, платил за товары вместо рубля – гривенник.
Пока продавцы обслуживали его, Баринов и Малышев сидели оцепенев.
Ночью вояжера фирмы «Высоцкий и К°» проводили на вокзал, посадили в поезд, идущий в Омск.
Приближалась пасха. В магазине Агафурова торопились провести учет. А когда магазин был закрыт на пасхальную неделю, Баринов пригласил Малышева поработать у него на дому: осталось подсчитать товарные описи.
В тихой уютной квартире пахло куличами.
По стенам столовой развешаны пейзажи кисти самого Баринова. Это напоминало квартиру Кирилла Петровича в Перми.
Жена Баринова, холеная красавица, лениво объяснила:
– Коля очень любит живопись. Пишет маслом, иногда акварелью. Я очень рада: только бы не увлекался политикой… Учение о социализме сейчас модно…
– Только модно? Учение о социализме дает человеку надежду освободиться от рабства.
– Но это учение дает человеку скитания и тюрьмы. Пусть лучше занимается живописью. Искусство украшает жизнь, успокаивает умы, – заключила Баринова, а в больших карих глазах ее мелькнуло смятение.
«Не очень что-то оно успокоило твой ум», – подумал Малышев и спросил:
– Чем же успокаивает умы и украшает жизнь искусство?
– Красотой, – последовал ответ.
– А может, наоборот, не успокаивает, а не дает застояться? – осторожно спросил Иван Михайлович.
Женщина внимательно выслушала его, протянула раздумчиво:
– Пожалуй! Слышишь, Коля, что говорит Иван Михайлович? Да вы, сударь, очень развиты. Где вы учились?
– По тюрьмам, – спокойно отозвался Малышев и улыбнулся, увидев, как женщина отпрянула он него. – И простому конторщику может быть ясно, что искусство должно служить народу не только красотой. Оно должно быть доступно и нести правду.
– О чем?
– О жизни. Вот репинские «Бурлаки»…
– Ах, оставьте, Иван Михайлович. Репин слишком прост! – Она смолкла и посмотрела на мужа кротко и нежно.
…Город спал, слившись с ночью, молчаливый и темный. Однако чем ближе к реке, тем больше нарушалась тишина. Баринов направился проводить сослуживца. Шли медленно. Присели на длинную некрашенную скамью на высоком берегу Туры. Баринов сказал извиняющимся голосом:
– Жена напугана репрессиями в городе…
Река уже вскрылась. Началась навигация. Шныряли, свистя, буксирные пароходики, освещенные огнями. Много их стояло у пристани.
На фоне ночного неба видны стены кремля-монастыря.
– А вы, Николай Иванович, что же, сочувствуете рабочему движению?
– Сейчас многие ему сочувствуют. Я – бухгалтер, у меня свое дело. Да и жена… ей все чудятся враги…
«Наденька, опять Наденька, взявшая жизнь еще одного человека!» – подумал Иван.
– Не иметь врагов! Это еще не значит, что жизнь у всех идет в мире… А ради чего вы решили спасти еврея-вояжера?
– Ради себя…
Малышев не понял:
– Как?
– Ну, если бы я его выдал, я бы не спал нормально, презирал бы себя, – пытался втолковать ему Баринов.
– А-а, – удивленно протянул Малышев. Его потянуло к друзьям. Разговор с бухгалтером начинал раздражать. – А я думал, вы спасли его из человеколюбия, из сострадания…
Бухгалтер вдруг заволновался:
– Я, конечно, сочувствую… И вовсе не боюсь, Иван Михайлович. Я только должен понять, что происходит.
XIII
На Томской улице, на квартире Махряновой, высокой черноволосой учительницы, часто печатали на гектографе листовки. Но сегодня здесь никого не было, кроме хозяйки.
– Праздник в одиночестве? – спросил, входя, Малышев.
Напевным голосом, в котором звучала улыбка, Мария Павловна ответила:
– Как только вы, Миша, вошли, я уже не в одиночестве. Надеюсь, вы не будете со мной христосоваться?
Иван рассмеялся.
– Я бы не прочь, – и бурно покраснел: он впервые допустил вольность по отношению к женщине.
Мария Павловна внимательно посмотрела на него.
– Давайте попечатаем.
Лист за листом воззвания ложились в стопу. Ивану весело было проводить по листу валиком.
– Здорово! Разжились мы техникой: машинка, гектограф… Теперь листовками со всеми рабочими похристосуемся…
– То-то же!
– Хорошо бы нам выпускать небольшую регулярную газету-листок… – мечтал Иван. – Меньшевики опять кричат, что не созрел еще наш рабочий для борьбы, что кончатся маевки тюрьмой да ссылкой и это только отпугнет всех…
– Сомневаться проще всего.
– Ах, как вы здорово это сказали, Мария Павловна: «Сомневаться проще всего!»
Уснуть в эту ночь Иван Михайлович не мог. Мысли о газете, о маевке, к которой призывало воззвание, напечатанное сегодня, теснились в голове.
Вспоминалась первая его маевка в Фоминке. Семья Кочевых. Интересно, жив ли Евмений, лечится ли? А эти – Стеша и Немцов – уж женились бы, не мучились! Вспомнил Иван Верхотурье, свое первое выступление у Кликун-Камня. Поднялся. Зажег лампу. Жестяной, покрашенный белилами колпак сосредоточивал свет над листом бумаги.
«Дорогие мои старички, – легли первые слова письма. – Дела обстоят у меня благополучно: опять по-прежнему сильно работаю».
Подумал: «Опять… по-прежнему…» Хватит одного слова «по-прежнему…» – отложил в досаде перо: – Читаю, читаю, пишу много, а все не добьюсь экономии слов! Надо научиться, как Ленин, чтобы ни одного слова нельзя было выбросить и чтобы каждое, крохотное, вмещало в себя большой смысл! Надо научиться оставлять такие слова, которые много отражают…»
Сразу после Первого мая начались аресты. Иван был осмотрителен, и обыск в его квартире ничего не дал. Однако он чувствовал за собой слежку. И все-таки радовался: Первое мая провели как знак протеста против расстрела на Лене! В пользу пострадавших собрали деньги.
Когда над толпой вдруг взвивалось красное полотнище или когда несколько человек запевали: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой», – Ивана охватывало жгучее радостное волнение. И сейчас, идя на работу и вспоминая массовку, опять почувствовал он то самое волнение. «Для вас! – мысленно говорил он встречным. – Для тебя, седина! И для тебя, девочка с сумкой… для всех, для вас вышли мы все из народа!»
Еще с улицы в окно магазина увидел, как два полицейских рылись в его конторке. Быстро мелькнуло в голове: «Там я ничего не оставляю».
Бежать? Нелепо…
Он стремительно открыл дверь.
– Что это значит?
Тот же стражник с золотушным лицом, который проверял его квартиру, потряс перед Малышевым книжкой.
– А это что значит? Это что? И это вы допускаете за год до трехсотлетия дома его императорского величества?
В руках у полицейского была брошюра Маркса «О заработной плате».
Иван подумал с досадой: «И как я мог оставить ее здесь?»
Когда Малышева повели из магазина, товарищи провожали его ободряющими взглядами.
Снова тюрьма. Занумерованное одиночество. В окно заглядывало серое, без всяких оттенков небо. Стены камеры в пятнах, покрытые засохшей плесенью.
Ему дали тетрадь, разрешили писать. Но тетрадь была тоже нумерованная. Мысль, что тюремный надзиратель ознакомится с его раздумьями, останавливала перо.
Резкий долгий звонок в коридоре означал для надзирателя: «вести арестованного на допрос», а для арестованных: «Кого на этот раз? Меня? А может, не меня?»
В кабинете перед столом следователя – Мария Павловна Махрянова.
Следователь, коротенький, кругленький, довольно улыбаясь, следил за встречей.
Малышев сухо посмотрел на Махрянову и отвернулся.
– Ну-с, молодой человек, вы знакомы, кажется?
Иван Михайлович еще раз недоуменно посмотрел на Марию Павловну и подумал: «Глаза! Какие у нее глаза! Словно она все знает вперед и все знает в прошлом!» Оба враз перевели взгляд на следователя.
– Нет, я не знаю эту женщину.
– Мы не знакомы.
День, ночь. День, ночь…
И снова резкий звонок несется по каземату. Для надзирателя: «вести арестованного на допрос», для арестованного: «неужели опять за мной?»
– Это ваша рука! – следователь показал листок бумаги с начатым письмом к семье.
– Моя.
– Что значат слова: «Опять по-прежнему сильно работаю»?
– То и значит, что я, действительно, сильно работаю.
– На партию свою?
– На братьев Агафуровых. Даже пасху работал.
– А почему вы покраснели? Почему?
– Стыдно.
Круглое лицо следователя расплылось от удовольствия.
– Чего стыдно?
– Своей безграмотности. Написал «опять» и «по-прежнему», когда эти слова почти синонимы.
Выжидательная улыбка мгновенно стерлась. Следователь медленно багровел:
– Я научу вас говорить человеческим языком, а не вашим, большевистским!
– Мой язык – язык среднего интеллигента, – встал Иван Михайлович, не понимая, чем обидел этого пожилого человека.
Тот, все еще багровый от бешенства, кричал:
– Это ты – интеллигент? Ты, сын ломового извозчика?
«Против этого ничего не возразишь. Бедный мой седой отец!»
– Да, я сын ломового извозчика. Но я не позволил себе сказать вам «ты».
– Еще бы! Сеноним!
Малышева осенило: следователь не знал этого слова. Иван всмотрелся в его багровое лицо уже с жалостью.
Поняв по-своему волнение заключенного, следователь стих, вытер огромным серым платком лоб и заговорил доверительно:
– Наверное, вы уже жалеете, Малышев, что встали на этот путь? Смотрите, вам только двадцать три года, а вы уже четвертый раз в тюрьме… Испробовали и арестантские роты! Может, вам неудобно перед вашими «товарищами» отступить? Так мы вам поможем!
Иван скупо усмехнулся. Хотелось сказать, что свой путь, если потребуется партии, он повторит еще и еще раз.
Иван пел. Песни воскрешали прошлое, манили вперед.
Петь запрещали. Книг не давали. Время тянулось бесконечно, Иван взбирался на стол, чтобы увидеть небо и окна домов. Из-за домов выглядывала церковь со старинными главами и ребрами крыши. Иногда из дома напротив смотрели на него какие-то люди. Он уже знал многих в лицо.
Месяц. Два. Три. А дело не разбиралось.
Видимо, Киприян и другие товарищи тоже арестованы: с воли никаких вестей.
Иван требовал суда. Суда, на котором он открыто скажет свое слово. Ему необходимо научиться использовать суд как акт деятельности революционера.
Шли дожди. Тускло светило на воле солнце и тухло. Наступала ночь, которая в тюрьме особенно длинна.
У окна стоять не разрешали, кричали в глазок, угрожали. Однако несколько раз по утрам Малышеву удавалось взбираться на стол, вдохнуть воздух, увидеть небо.
Однажды, когда он стоял, как распятый на решетке окна, напротив мелькнул белый платок, будто крылышко птицы. Нет, не может быть! Маша, да ведь это же она! И так рада, что наконец обратила на себя его внимание, смеется и плачет. Сейчас же заработали их пальцы и губы – азбука глухонемых.
Маша сказала, что получила записку от Киприяна: «Ваня опять заболел». Она приехала, чтобы ускорить разбор дела. Постоялый двор – напротив. Услышала от жильцов, что на третьем этаже тюрьмы политический все время поет. Сразу решила, что это Иван. Сначала не узнала его: впервые увидела Ивана, обросшего жидкой светлой бородкой.
– В чем у тебя нужда? Ты здоров? – допытывалась она.
О себе Иван Михайлович говорить не любил. Он требовал от сестры сообщений о партийной работе, о товарищах по заключению.
Договорились: чайник с молоком или квасом будет с двойным дном.
До тюрьмы донесся перезвон колоколов, пение царского гимна. Маша объяснила:
– Сегодня триста лет дому Романовых. Ученикам в школах конфетки дают. С иконами по улицам ходят.
– Еще сотню не простоит: подгнил!
Ожил Иван. Чайник с двойным дном помогал.
Теперь о воле Иван знал все: большевики развернули подготовку к выборам в четвертую Думу. Значение этой кампании предусмотрела Пражская конференция. Необходимо получить право говорить открыто, во весь голос о «полных неурезанных требованиях пятого года». Большевики не отступали.
Выпив молоко и вскрыв дно чайника, Иван извлек «Рабочую газету».
«Ах, Маша! Золотко мое!»
«Рабочая» издавалась Центральным Комитетом партии в Париже. Номер 9 от 25 августа 1912 года вышел с заметкой из Тюмени:
«Работа у нас… с громадными усилиями налаживается… имеется кружок пропагандистов (коллегия), а также кружок низшего типа… Спрос на литературу… Среди рабочих большое стремление к самообразованию. Был организован сбор в пользу пострадавших на Лене, давший более 60 рублей… Есть связи среди солдат, из которых недавно трое арестовано (нашли несколько наших листовок). Отношение товарищей к арестованным сочувственное. Есть связи с несколькими уральскими заводами».
Жандармский ротмистр Чуфаровский не знал, что арестованный Малышев не проводит даром время, что выпустил он уже внутреннюю газету на листке папиросной бумаги и газета гуляла по тюрьме, что сообщал он на волю в «чайнике» все тюремные новости и имена особо жестоких тюремщиков. И там выходила одна листовка за другой.
Уж год Малышев в тюрьме.
Он видел, что Маша огорчена. Передал: «Не падай духом. Ты – на свободе».
Оба понимали, что следствию хочется раздуть дело.
От имени Агафуровых Баринов обратился к Чуфаровскому, утверждая, что Иван Малышев – необходимый им торговый работник. Расчет был верен: Чуфаровский жил за счет Агафуровых, поэтому отказать не решился.
– Уважая фирму, я отпущу Малышева под поручительство двух домовладельцев. Но жить в Тюмени не разрешу.
– Иван Малышев может быть полезен Агафуровым в Екатеринбурге, – скромно сказал Баринов.
Осенью 1913 года, когда листья высоких тополей еще струились по ветру. Малышев вышел из тюрьмы.
XIV
Шла война. Царский манифест, мобилизация, проводы солдат на фронт, молебны, патриотические демонстрации с хоругвями заполняли жизнь обывателей Екатеринбурга.
Улицы не мощены, не освещены. Выдирая ноги из грязи, Малышев спешил в магазин Агафуровых еще затемно. В конторе ждали его молодые продавцы. Старшие же конторщики сухо встречали нового коллегу.
– В чем дело, не пойму, – недоумевал Иван.
– А чего тут не понять? – судили товарищи. – Ты много знаешь, не им чета! Не пьянствуешь, не материшься и не егозишь перед ними.
– Читаешь нам газеты, сводки о военных действиях.
– И каждый раз вставишь такое, от чего Евдокимов белеет! – Служащие сдержанно смеялись.
– Он анекдот любит, а ты ему: «Себя не пожалеем на войне, только не знаем – за что воюем!»
Как всегда, для начала Иван читал им рассказы Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого. Как-то младшие продавцы не выдержали:
– Это мы и сами можем прочитать. А о том, как идет борьба в нашем городе, мы не знаем. Об этом расскажи…
– Откуда мне знать? – развел руками Малышев. – Я всего полгода здесь. А до этого, после Тюмени, по разным местам болтался… Отстал…
В магазин вошел Евдокимов, главный бухгалтер магазина.
Малышев, нарочно севший так, чтобы виден был вход, сказал:
– Хорошие девушки, одна другой лучше!
– Что собрались спозаранку? – спросил подозрительно Евдокимов.
– Пораньше лучше, не опоздаешь! – отозвался Иван, усмехаясь.
Евдокимов оглядел подчиненных студенистыми глазами. Высокий, начинающий тучнеть, с длинным серым лицом, он был недоверчив к служащим и по-собачьи предан хозяевам.
Иван, глядя на него, вспоминал Николая Баринова. «И сравнивать этих двух нельзя! Интересно, победил ли Баринов страх свой перед революцией?»
Большой магазин братьев Агафуровых по Успенской улице[1]1
Теперь улица Вайнера.
[Закрыть] темен и тесен. Место Малышева у окна, позади «самого» Камалетдина Агафурова. На красном затылке хозяина толстая складка жира казалась еще толще под черной заношенной тюбетейкой.
Хозяин сидел сложа руки. Читать он почти не умел; когда Евдокимов угодливо подносил ему бумаги, еле-еле подписывал их; но газетными новостями интересовался.
Как всегда, хозяин и сегодня пришел с пачкой газет в руках. И сразу к Малышеву:
– Почитай сводки, – с этой просьбой он чаще всего обращался к нему: Иван читал лучше, разборчивее других.
Бегло пробежав сводку глазами, Иван начал перечислять пункты, которые оставили русские войска, число раненых и убитых. Огромная цифра ошеломила всех. Но Малышев, не останавливаясь, перешел к стихам:
Я вытащил жребий недальний,
Смерили, крикнули «Гож!»
Что же ты смотришь, печальный,
Ведь в царскую службу идешь?
Если заводский рабочий,
Не в силах он больше вздохнуть.
То вспомни устав и присягу,
Целься верней ему в грудь.
– А вот тут еще стихи… ответ на первые… – Не давая слушателям прийти в себя, Иван продолжал:
Постой-ка, товарищ! Опомнися, брат!
Скорей брось винтовку на землю.
И гласу рабочего внемли, солдат,
Народному голосу внемли!
Ты здесь убиваешь чужих – у тебя
В деревне семью убивают.
И издали грозно твоя же семья
Тебя же, солдат, проклинает.
– Не может того быть, что стишки такие напечатали! – воскликнул Евдокимов, бросаясь к Малышеву и вырывая газету.
– Смотрите сами! – недоуменно протянул тот – Видите, черным по белому.
В руках у Евдокимова оказалась какая-то новая газета. Он, помахав ею, с гневом прочитал: «Уральская группа социал-демократов».
– Что это такое, я спрашиваю? «Хищники и паразиты стремятся отвлечь внимание рабочих и крестьян от борьбы за свои интересы, натравить их на их же братьев, живущих в другом государстве» Что это?
Он резко повернулся к Малышеву. На лице у того было столько недоумения и растерянности, что Евдокимов замолчал.
– Хозяин принес… Не знаю, где он взял.
– А я что… я ничего, – развел руками Агафуров. – Видимо, к газете приложение…
– Временно кое-кому надо забыть вражду с правительством. Теперь у всех с ним одна цель защищать отечество. Мы не выпустим из рук винтовку, пока Родина в опасности!
Сердце Ивана болезненно сжалось, эти слова вы крикнул Игорь Кобяков, конторский служащий, высокий красавец. У него был баритон, и он хорошо владел им. Малышев с гневом посмотрел на него.
Целый день Иван не мог успокоиться, уж очень тяжело переживал он предательство и измену. А слова Кобякова звучали изменой. Ведь Кобяков был близок к большевикам, сочувствовал им.
А уходя вечером домой, Иван посмеивался:
«Что бы сделали они, бухгалтер Евдокимов и сам Агафуров, если бы узнали, что у них под боком существует нелегальная организация, первая после разгрома, и что я ее председатель? Как бы вытянулись у них лица, если бы они узнали, что мы с товарищами проводим на заводах Урала забастовки!»
Вспомнил он сейчас, как перед войной забастовали рабочие на Верх-Исетском заводе, как выбрали стачечный комитет, обсудили требования к администрации отдельных цехов и всего завода, наметили делегатов для переговоров. Делегаты с переговоров вернулись ни с чем; директор правления удивился:
– Восьмичасовой рабочий день? Расценки повысить? А особняк на каждого не хотите? – Он тут же сел в пролетку и уехал. Лошади были горячие, сытые, бока их лоснились, упряжь блестела медными насечками.
Грубость главного директора, его несправедливость и равнодушие, хоть и были знакомы рабочим, каждый раз оскорбительны.
– С нами и разговаривать не хотят! Язык у него отломится.
– Нечего тянуть: бастуем.
Вереницей брели к заводскому двору лошади, запряженные в двухколесные таратайки. Во дворе по узкоколейке катили вагонетки с чугунными чушками или кипами листового железа.
Как в обычный день, завод дышал, звенел, лязгал.
Рано утром в больничной кассе собрался комитет. Входили все новые люди, опасливо переговаривались.
– У нас одни требования: «Долой царя!»
– За этот лозунг люди в каторге гнили, на плаху шли, и нам от него отступить нельзя!
Прогудел гудок. Комитетчики быстро покинули кассу. Перед заводом уже стояла шумная толпа.
Гудок прозвучал вторично, возвещая начало митинга.
Малышев протискался вперед.
Черные трубы не дымили, это так необычно, что каждый невольно оглядывался на них.
…Несколько дней тогда на работу никто не выходил. Только у закрытых ворот завода толпился народ да сновали мимо полицейские. На всякий случай члены комитета по ночам скрывались в чужих квартирах.
Малышев не раз в те дни просил у Агафурова отпуск без содержания на день, на два, часто ночевал в лесу, на чьем-нибудь покосе, на берегу.
После, когда хозяева удовлетворили требования рабочих и пошли на уступки, Иван часто вспоминал душистые ночи, пруд, исколотый звездами, словно заранее знал, что никогда больше не будет тишины, что всю жизнь он проведет в битве за справедливость и счастье на земле. И сейчас часто звучали слова: «Долой царя!» Только теперь меньше замечалось страха в глазах рабочих, собравшихся на митинг. Лозунги большевиков вызывали надежду: к ним прибавлялись требования кончать войну.
Все больше людей появлялось на митингах. Иван отмечал, что немало мелькало в толпе и молодых людей.
…Вот и на днях две гимназистки стояли у самой тумбы, которая служила трибуной, и не сводили с Малышева глаз. Обе в формах и с длинными косичками. Одна высокая, чернобровая. Черты лица точно выточены. Другая – бледнолица, белозуба, со вздернутым носиком.
Окинув любовным взглядом колыхающуюся толпу, Иван начал:
– Долго мы терпели и ждали. Больше сил нет. Вся трудовая Россия поднялась. Мы задыхаемся в дымных цехах, создаем богатства капиталистам, увечимся. Хватит! Прекращаем работу, пока хозяева не удовлетворят наши требования!
Ему напыщенно ответил длинный человек в очках, с редкой бородкой клинышком:
– Мальчишки пытаются решить судьбу России! Долой его! Святое служение Родине хочет обесчестить!
На площади поднялся гневный шум:
– Да что ты его слушаешь, Михайлыч?
С митинга Малышев шел какими-то переулками, не решаясь оглянуться. За ним слышались отчетливые шаги.
«Веду хвоста! Неужели возьмут?» – он мысленно перебирал содержимое карманов. Там все было незначительно, не выдавало. А вот в нагрудном кармане – текст листовки. «Достать небрежным жестом около харчовки, будто проверяю, со мной ли деньги… Приостановиться? Нет, еще рано…»
Ровным шагом, обычной размашистой походкой он продолжал путь.
А шаги все ближе. Легкие шаги, открытые. Это не шпик, нет. У того шаги крадущиеся, как у кошки, то исчезают, то возникают. А эти – честные, как у детей. Идут двое.
Малышев даже услышал голоса. От сердца отлегло, но он продолжал путь походкой занятого человека.
Шаги совсем рядом. Вот и харчовка. У коновязи стоит лошадь.
– Господин Малышев, – послышался сзади нежный девичий голосок.
– Не господин, не понимаешь, что ли, Вера? – и громко: – Товарищ Малышев!
Он обернулся спокойно. Перед ним стояли две гимназистки.
– Слушаю, девочки…
Те наперебой заговорили:
– Мы давно хотим…
– У нас в гимназии кружок.
– Тише ты… Мой отец Степан Смолин, он сослан сюда… А меня звать Светлана.
Малышев строго посмотрел на девочек, не желая поддерживать этот разговор на улице. Смуглянка указала на подругу:
– А это – Вера Краснова. А мама литературу распределяет.
– Что же, родители докладывают тебе, чем они заняты?
– Ой, что вы… Нет. Я сама узнала. Но я тоже с вами… У нас кружок…
– А если я не Малышев, а вы, девочки, выдаете и папу, и маму, и кружок в гимназии чужому человеку?
– Ой, что вы!.. – В коротком смешке беленькой даже послышалось презрение: – Мы уже умеем конспирироваться, а вас мы не раз слушали…
– Да мы вас из тысячи узнаем…
– Ну хорошо, и чего же вы хотите от меня?
– Работы.
– Работы, Иван Михайлович!
Он медленно направился дальше. Девушки шли рядом. Около полицейской будки они взяли его с обеих сторон под руку. Беленькая, не меняя голоса, продолжала:
– Я так рада, что ты, наконец, приехал… А как там дядя живет? А уж мама обрадуется!
Иван понял: девчонки доказывают, что, действительно, умеют конспирироваться. Весело сказал:
– Дядя живет по-прежнему, а маму я уже видел.
Полицейский пост остался позади. Девушки упоенно продолжали рассказывать «новости».
– У нас был бал в гимназии…
– Мы делали кружечный сбор в пользу раненых!
Иван Михайлович размышлял: «А что, и эти пичужки помогут… вестовыми будут…»
– Наверное, листовки переписываете, размножаете? – спросил он, вспоминая Пермь, Юрия Чекина.
– Ой, верно! А как вы знаете?
– Знаю. Наверно, снимете листовку с забора, перепишете и расклеиваете вместо одной – сотню?
– Верно! Все верно! Но откуда вы знаете?
– Знаю… Ну, вот что, девочки, все мы выяснили: «дядя» здоров, «мама» знает. Если хотите помогать делу, передайте записку по адресу.
Остановились. Малышев набросал в блокноте несколько строк, объяснил, где найти нужный адрес.
– Там вам дадут дело… Учиться будете…
Девочки, счастливые, тотчас же его оставили.








