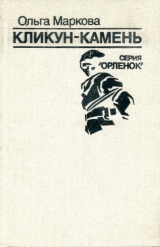
Текст книги "Кликун-Камень"
Автор книги: Ольга Маркова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
X
Только в январе полиция разрешила Ивану выехать из Верхотурья. Он задохнулся от радости, сообщая об этом отцу, и смолк, впервые увидя в глазах того слезы, тревогу.
Началась бродяжья жизнь: деревня Коптяки – работа приемщиком, Филькинское лесничество. Знакомство с новым людьми, отбор надежных, кружки.
Когда уже неслось сыроватое дыхание молодой травы, Иван Михайлович попал в Надеждинск.
По утрам лилась над полянами радостная песня жаворонка. Лес праздничный, свежий. Стволы елей в солнечных пятнах, на голых еще ветках березы дрожат капельки росы.
Иван ходил по поселку, запоминал улицы, переулки, лазы в заборах.
«Значит, завод получил название в честь бывшей владелицы округа Надежды Михайловны Половцевой. Запомним, – мысленно говорил Иван. – Строился завод два года, во время проведения Сибирской железной дороги выделывал рельсы. На берегу речки Каквы – бараки рабочих. Запомним, госпожа Надежда Михайловна Половцева… Смотри-ка, и электричество есть! Даже улицы освещены! А почему же это у бараков освещения нет? Ну, у нас в барак Киприян недавно все-таки провел огонь. А у других? Почему рабочие живут так скученно, а вы шикуете в богатых особняках? А теперь еще и безработицу допустили. Рабочий день увеличивается, а вы, заводчики, стачки жестокостью подавляете, ингушей вызываете. Они носятся по рабочим поселкам с кривыми саблями, нагайками хлещут и детей, и женщин – кто попадется! И «черные» списки вы завели. А для чего? Сколько болезней среди рабочих? Сколько умирает? Недавно опять в мартеновском цехе погиб рабочий. Вас это не беспокоит? Деньги рабочим картонными жетонами заменили, лавочники и товары по этим жетонам отпускают! Не пройдет ведь вам это! Или думаете, что репрессии седьмого года нас на всю жизнь запугали? Рабочие здесь у вас в большинстве не оседлые, а пришлые. Чем их купишь? Создали рабочий кооператив? Так ведь это же обираловка! Ведь ни одного рабочего-пайщика в правлении нет! Нет, не будет у нас с вами мира. Мне партия велит рабочим глаза открыть! Могу сообщить: нас много. Мы часто ходим на речку Какву, учимся… В цехах листовки появляются. Мы откроем рабочим глаза, хоть я теперь уже не учитель, а всего лишь конторщик в мартеновском цехе… Слышите, Надежда Михайловна, поет какой-то гуляка? Нет, вы послушайте, вам это полезно».
Действительно, хриплый одинокий голос тянул:
Он не брал громадных взяток,
Был доволен небольшим:
Кто принес яиц десяток,
Того ставил он старшим…
Малышев рассмеялся:
«Выкусили? А вы говорите, что рабочие запуганы. Правда, нам вот листовки к Первому мая печатать негде! Но мы их напечатаем! Нас много! Мы имеем литературу. Хранит ее – Федя Смирнов. Молод? Ну и что? Крепкий парень!»
Иван перемахнул широкую канаву. Извилистой тропкой по пустырю прошел к бараку, где квартировал в каморке вместе с Киприяном Ермаковым.
Из общего барака сквозь щели в некрашеных стенах проникал спертый воздух, запах лука, клопов, пота и махорки. Так пахнет нищета и скученность.
Потапыч – партийное имя Киприяна – одного роста с Иваном, круглолиц и так же, как Иван, светловолос. Только залысины говорили о разнице в возрасте. Ему трудно было поступить на завод: неблагонадежен, хоть и не боится никакого дела. Чернорабочий в листопрокатном цехе, на земляных и горячих работах и вот, наконец, – электрик. У него необыкновенный дар понимать то, что делается в сердце собеседника.
Именно он рассказал Малышеву, что дядю Мишу повесили. Иван, побледнев, вскочил с места. Говорить он не мог, только сквозь зубы бросал что-то бессвязное:
– Попомнят… Уж я это точно знаю… Попомнят…
Ермаков умолчал о подробностях. Оба они больше об этом не говорили. Ермаков жадно учился, много читал.
Сейчас, глубоко засунув руки в карманы, Потапыч в чем-то горячо убеждал Федю, зашедшего на огонек. Иван услышал последние слова: «Пугливы стали рабочие!»
Увидя Ивана, Ермаков рассмеялся:
– Сияешь ты, брат, как новая шлифовка! – сделав руку горсточкой, поздоровался: они сегодня не виделись, Ермаков уходил на работу раньше.
– А я, брат Киприян, сейчас с самой Надеждой Михайловной Половцевой говорил. Все ей высказал!
– Да ведь у тебя, Миша, вся спина исполосована! Неймется тебе? – поддерживая игру, спросил Киприян.
– Неймется, друг.
– А что тебе Половцева сказала?
– Враги, говорит, мы с вами были, врагами и останемся!
– От этого ты и сияешь?
– Всегда приятно иметь ясные позиции! А кроме того, песню я услышал хорошую!
– Молод ты… кровь в тебе играет…
– И я сегодня песню услышал… – сообщил Федя. – Вот…
Инженеру подкатило,
Паром рыло обварило,
Жалко нам, братцы-ребята,
Что всего не окатило!
Маленький срезанный подбородок и слегка вздернутые губы Феди дрожали от смеха.
– А вы говорите, рабочие пугливы! Пошли на Какву, нас ждут.
Стояло теплое безветрие. В пруду дружно рылись утки, уткнувши в воду носы. Федя бросил в них мелким камнем. Утки взмыли вверх. По пруду обручами пошли круги.
– И почему это я не все понимаю на кружке, Иван? – пожаловался Федя. – Ну, что царя свергнуть мы должны, я уже знаю, а вот… делать для революции я ничего не умею…
– Верь. Если веришь, то и умение придет… А сейчас давай-ка песню: говорить нельзя, кусты могут услышать…
И полились три голоса над сонным поселком, по нарядным берегам.
Занятия кружка каждый раз начинались с сообщений Ивана о текущем моменте… Сидя на траве вместе со всеми, он начал:
– Положение такое: у нас на Урале сейчас идут стачки. На Нижне-Салдинском заводе стачка продолжалась два месяца. Там было три смены по восемь часов. В заводоуправлении додумались: одну смену съели, а две разделили поровну. Вези, рабочий, по двенадцать часов в сутки! Таковский! А заработок уменьшили. Голодали, а не сдавались рабочие. Бастовали в Нижнем Тагиле и на медном руднике… в Екатеринбурге большевики восстановили городской партийный комитет… Все готовятся к конференции в Праге. Там будет подведен итог борьбы против меньшевиков.
После «текущего момента» Малышев повел занятия необычно:
– Сегодня мы поговорим еще и «О неизбежности социализма в России». – Он быстрым движением руки разбил сидящих кружком людей и приказал одной половине:
– Вы будете защищать нашу, большевистскую точку зрения. А вы, – обратился он к другой, – наоборот. Итак, начинаем спор о необходимости социализма… Замазываете, хотите замолчать массовый характер революционной борьбы, инициативу самих масс…
Послышался треск сучка под ногой. Все смолкли. Из-за сосен на поляну вырвался опоздавший на занятия рабочий, красивый, с русыми кудрями.
– Что случилось?
– Заводоуправление вызвало карательный отряд казаков!
Послышался ропот:
– К Первомаю, значит?
– Спокойно, – приглушенно сказал Малышев. – Продолжим занятия.
Расходились с кружка за полночь по одному, по два человека.
Иван возвращался вместе с Ермаковым и удивлялся про себя: как выдерживал Потапыч трудный режим дня? Вставал рано, работал целый день, много занимался, спал три-четыре часа. Правда, и засыпал Ермаков быстро, как ребенок, что-то бормоча во сне.
Неожиданно в Надеждинск приехала Маша. Она теперь работала конторщицей в лесничестве около Тагила. Сконфуженно краснея, сообщила, что выходит замуж. Ее будущий муж – вдовец. У него двое детей, мальчик и девочка. Живет в Тагиле.
Иван Михайлович с ласковым любопытством посмотрел на сестру.
– Любовь?
Маша отвела взгляд в сторону.
– Дети такие славные! Девочка Тоня от меня не отходит… – торопливо произнесла она.
– А как же наше дело? Отстраняешься?
– Ни за что! Но мне ведь, Ваня, уже двадцать пять. А тут я сразу – и жена, и мать… Детям-то мать нужна!
– Героизм – это, говорят, умение видеть мир таким, каким он есть, и любить его! – бросил Иван.
В воскресенье, когда охрипшие колокола сзывали людей в церковь, кружковцы, человек пять, отправились с гектографом в лес: нужно было печатать листовки. Пошла и Маша.
Голубой день подымался над землей. Низко висели облака, неподвижные, сверкающие. За мостом, по берегу Каквы, луга, пышные кустарники.
Кружковцы несли корзины с провизией, чайник.
Выбрали место, разостлали на траве скатерть; двое в кустах патрулировали. Текст листовки Малышев уже написал. Приготовились печатать.
Однако с другого конца поляны, за кустами, раздалась песня караульного:
Снова я к родной семье вернулся,
О которой часто так грустил…
Это было сигналом: чужие.
Гектограф и бумагу спрятали в кусты. На раскинутой скатерти – закуски, рюмки, бутылки с водкой.
А песня, уже с тревожными нотами, продолжала предостерегать:
Снова в шахту темную спустился
И живым себя похоронил…
На тропе показался верховой, за ним другой. Казаки из карательного отряда!
Маша налила два стакана водки, с усмешкой поднесла казакам. Те выпили. Им налили снова. Федя Смирнов подал им по огурцу. Один из карателей тут же сполз на растрепанную траву, уснул. Маша, смеясь, взобралась в освободившееся седло, тронула коня. Пьяный каратель поскакал за ней.
Под храп казака были напечатаны листовки.
Под храп его пели песни. Иван из озорства прочитал стихи:
Скоро, скоро куртку куцую
Перешьют нам в конституцию,
Будет новая заплатушка
На тебе, Россия-матушка!
Ночью листовки были разбросаны по заводу.
После работы на другой день, возвращаясь домой, Иван почувствовал: слежка. Свернул в переулок. А шаги, осторожные, крадущиеся, – за ним. У крыльца барака на плечо его легла тяжелая рука. Обернулся. Перед ним стоял тот самый казак, который вчера ускакал за Машей.
Увидев знакомого, казак сконфуженно улыбнулся:
– Так вот ты кто – Малышев? Ну уж нет! Уж я знаю, что листовки эти разбросал не ты… Уж я так им и скажу, что Малышев не виноват!
– Да разве я позволю, ваше благородие! Да ни в жизнь!
– Я им скажу… – стражник ушел.
Навстречу Ивану из барака на крыльцо вышел рабочий в заплатанном пиджаке. Дряблые старые веки нависли над глазами. Выражение лица было страдальческим.
Иван остановился.
– Что же ты, Степан, костюм себе получше не купишь?
– Не по карману, Ваня…
– Неужели уж на костюм не заработал? – с неожиданным пылом воскликнул тот. – Вот на мне костюм разве плох? А стоит восемнадцать рублей… В Верхотурье покупал.
Степан принялся разглядывать костюм – синий, в чуть заметную полоску.
– Неужели восемнадцать? А у нас в кооперации хуже этого – двадцать два!
Иван вздохнул:
– Наценку сделали, значит… чтобы рабочий человек не забывался.
Дома Киприян спросил, смеясь:
– На ходу агитируешь?
– На ходу…
– Не даешь ты людям покою, Иван!
– Нет, ты подумай, до чего обнаглели заводчики! Людям надо все объяснить! Нам бы с тобой еще к углежогам съездить, узнать, как там живут? Не заросли бы и там у людей глаза…
…Опять падал снег, подморозило землю. Началась зима одиннадцатого года, похожая на все зимы, какие помнил Иван, но, как всегда, он не переставал дивиться свежему морозцу, мягким хлопьям снега.
Выехали в курень углежогов уже в санях. Снег ярко скрипел под полозьями, ели застыли, опушенные куржаком, как белыми тенетами. Хотелось глядеть вокруг и глядеть…
В ряд стояли томильные кучи, как курганы. Всюду поленницы дров, прокопченные сажей. Пахло дымом. И люди, черные, пахнущие дымом, сновали от сарая к сараю.
Привязав лошадь к сосне и бросив перед ней охапку сена, приехавшие направились к кучам. Неожиданно Иван остановился, задержал товарища:
– Подожди!
Из-за кучи несся женский смех и мужской приглушенный голос:
– А что вы смеетесь? Верно я говорю: утекла водица, в ручей не воротится! Ох, и много я вашего брата прозевал! Глаза разбегались! Пока оглядывался, годы прошли!
Лицо Ивана светлело, расплывалось в улыбке.
– Что ты? – начиная улыбаться и сам, спросил Киприян.
– Подожди…
За кучей продолжали смеяться:
– Как же ты, Семен, без бабы-то обходишься?
– Так ведь как? Сирота и пуповину сам себе режет!
– Он. Большеголовый… Немцов! – сказал Иван.
– Какой Немцов?
Но Иван, не слыша вопроса, бросился вперед.
Девушки при виде незнакомого скрылись.
Заросший густой бородой, весь в угольной пыли, Немцов был неузнаваем. У него белели только глаза и зубы.
– А я по поговоркам тебя узнал! Никто их столько не рассыпает, как ты! – тряся друга за плечи, заглядывая ему в глаза, смеялся Иван. – Да как же ты сюда попал, ведь ты на Север удрал?
– Надоело, знаешь, там с солью возиться! В сердце и без того соль… Сам-то ты как здесь? Ведь тебя…
Иван приложил к губам палец.
Немцов поправился:
– Ведь тебя женить хотели!
– Невеста от меня отказалась…
– Ну, опять-таки, играешь с кошкой – терпи и царапины… А как там Стеша живет, не знаешь?
– Она все в той же церкви поет.
– Верная. А в семье как у тебя? Маша замуж не вышла?
– Выходит, но боится: братишка Миша у нее на руках!
Немцов понял. Значит, Миша – партийная кличка Ивана.
Оба рассмеялись.
– Маша летом ко мне приезжала, рассказывала, что в Верхотурье большая радость: царица Александра Федоровна в дар обители пожаловала для священников ризы, стихарь, подризник, пояса да набедренники, две пары поручей и воздухов на святые дары… И все это сделано из платья ее императорского величества, в котором она была одета в день коронования!
– Несешь опять?
Семен огляделся. Около них стоял Ермаков и весело смеялся. Немцов, обращаясь к нему, сказал:
– Так уж, видно, ему на роду написано: упал в воду, так дождя не бойся!
– Ну, а ты-то как… боишься дождя или не боишься? – Иван посерьезнел.
– Так ведь привык уж…
– Здесь как, часто мочит?
– Мало нас здесь. Прячемся, как кроты, за кучами-то… Дождик-то и не достанет…
– Яснее говорить нельзя?
– Идите к лошади. Я за вами, а то у нашего мастера одно ухо длинное…
Усевшись в сани и закрывшись шубами, все трое зашептались «яснее».
– Кооперация здесь есть?
– Мы все пайщики, – неожиданно раздражаясь, сообщил Немцов. – Ларек сюда выезжает два раза в неделю. Цены – не подступись!
– То-то и оно! Ну, ты с детства понятливый был, разберешься без нас, что делать. Гармонь-то с тобой?
– Она без меня – никуда!
– Помогает? Вот мы для нее тебе песен подбросим!
…Разговор о кооперативе в последние дни среди рабочих не прекращался. Особенно сердились женщины.
– Слышь, Лукьяновна! Что это ты от дочери из Перми сатинет ждешь? Разве здесь, в «трудовой»-то, не купишь?
– Да ведь здесь сатинет-то четыре гривны аршин, а в Перми – две гривны!
– А я башмаки здесь за три целковых купила. А послышу, в Екатеринбурге всего два целковых им цена! Вот тебе и «трудовая» кооперация!
– Обдирают нашего брата со всех сторон!
Рабочие негодовали уже открыто, требовали отчета, смены правления кооперации.
Сопротивляться этому администрации завода было невозможно: кооперация считалась рабочей.
Подпольщики старались не пропустить возможность легализовать свою работу.
В новое правление кооперации вошли они в большинстве. Иван Малышев был избран в ревизионную комиссию. Избрали до десятка уполномоченных.
В лавке с утра до ночи теперь толпился народ.
– Смотрите, бабы, жакетка-то всего пять рублей, а я, дура безмозглая, семь отдала, хоть реви! Целый год на нее копила!
– Ну, теперь цены божеские!
Иван, радуясь вместе со всеми, думал:
«Дали бы нам подольше поработать, тогда бы мы доказали, все поняли бы, как заводчики надувают рабочих».
Долго работать им в кооперации не дали.
В один из вечеров Иван разбирал литературу, полученную из Перми, и ждал Федю Смирнова, чтобы сдать ее для распространения по списку. Список на тонкой папиросной бумажке лежал перед ним. Услышав шаги, он спросил:
– Что долго, Федя?
Подняв голову, немедленно скомкал список и взял в рот: в комнату вошли два полицейских, стремительно подскочили к столу, начали разглядывать книги по корешкам:
– Так-так… Чернышевский… Герцен… Издания «Донской речи»… Взять! – и сшибли книги в мешок. Иван, стараясь проглотить список, с тоской думал: «Хоть бы Федя не приходил! Ах, хоть бы он не пришел сейчас!»
Федя пришел. Один из жандармов стал у дверей. Федя тяжело опустился на табурет. Иван одобряюще улыбнулся: у парня первый арест! Где-то в глубине заныло: «Хоть бы не в Николаевские роты!»
С улицы послышался грозный окрик:
– К кому?
И голос Киприяна:
– Монтер я… вызвали свет починить…
– Уходи, свет здесь горит!
Сердце облила радость: Киприян ушел, успеет предупредить товарищей.
Однако радость была преждевременной: все члены партийного комитета в эту ночь были арестованы и увезены в Нижний Тагил…
XI
Вот она, вотчина Демидовых, Нижний Тагил.
Перед выходом из вагона на арестованных надели наручники.
Цепи! Этого еще Иван не переживал.
С вокзала вели по широкой Салдинской улице. Группа надеждинских большевиков держалась дружно. Их шесть человек. Весь город развернулся перед ними, раскинувшись по берегам реки. Плотина, огромный пруд, храмы, часовни. Ниже реки огромные доменные печи выпускали клубы черного дыма. За ними – правильные ряды заводских корпусов.
Чувство, что ты опять не принадлежишь себе, угнетало все сильнее.
– Ах, жаль, что нас взяли. Время-то сейчас важное: построили железную дорогу, промышленность растет… – шептал Иван, – а рабочие живут так же плохо… Нам нужно бы это использовать…
– Не разговаривать! – неслись по колонне окрики конвоиров.
Сентябрь стоял сухой. По дороге ветер перекатывал желтые листья.
Обгоняя партию арестованных, бежали дети и кричали:
– Ребя, гли, опять каторгу ведут…
Из толпы, собравшейся по обочинам дороги, выскочил мужик в рубище, с открытой грудью, поросшей рыжей щетиной. И лицо его до глаз заросло рыжими космами. Идя рядом с партией арестованных, он пел хриплым простуженным голосом:
Товарищи, братья родные,
Довольно вам спины ломать…
Арестанты одобряли песенника криками:
– Давай, давай! Хорошо поешь!
За то, что хозяевам лютым
На ваших трудах отдыхать!
Конвоиры пригрозили:
– Смотри, Левка, опять за песни в тюрьму попадешь! Не посмотрят, что ты – чокнутый!
– Ничего, – ответил тот. – Тюрьма, что могила, и вам место найдется! – И снова скакал рядом рыжий, тянул:
Того бедняка молодого
Сковали они в кандалы,
Не давши с семьею проститься,
Повели вдоль тюремной стены!
Новый порыв ветра подхватил листья, закружил их, затем осторожно уложил у канавы.
За тюремными воротами враз стало тихо. Большие глаза Феди Смирнова заливала тревога.
– А у нас и здесь много друзей! Одного мы только что видели. Это – Левка-песенник! – чтобы приободрить парня, шутливо сказал Иван и подумал с нежностью: «И Маша, моя сестра… Моя подруга где-то здесь…»
На каждого натянули грязные арестантские бушлаты, пахнущие потом.
Отобрали деньги. Сняли наручники. Разъединили: Ермаков, Смирнов и Малышев попали в камеру к уголовникам. Те сразу их окружили. Долговязый арестант сказал:
– Хороши! Хоть выпрягай!
Иван осторожно обошел вокруг него:
– А тебя уже, кажется, выпрягли?!
Уголовники дружно захохотали: ответ понравился.
Долговязый не унимался:
– А мы где-то с тобой встречались…
Малышев, все так же обходя его кругом, отозвался:
– Да, я там иногда бываю.
И новый взрыв хохота потряс сырые стены камеры.
– А ну их, политиков, – махнул рукой долговязый и отошел прочь.
Голые нары в два яруса висели на столбах. В столбы были вбиты железные скобы, как ступеньки, на косяке двери – закопченная лампа. Неслись приглушенные жалобы, смех, грубая брань. Звенели кандалы.
Утром осипший голос с верхних нар спросил:
– Чья очередь камеру убирать?
– Политических!
Три большевика спокойно поднялись. Малышев стуком в дверь вызвал надзирателя, попросил воды и, когда воду дали, склонился над ведром, смачивая тряпку. Сильная рука долговязого уголовника оттеснила его.
– Чего там! Сами будем убирать.
Работали все вместе. Потом снова «политики» сидели на отведенных им нарах.
– Иван, ты вчера что-то сказал о промышленном подъеме, – напомнил Киприян. – А революционный-то подъем видишь ли?
Иван, весело блестя глазами, отозвался:
– Конечно. У нас в чем подъем? Он у нас в борьбе с меньшевиками. Меньшевики-то что делают? Они стараются развалить нелегальные наши организации… стараются народу отвести глаза от прямой нашей задачи.
Федя был молод, может быть, поэтому его чаще других вызывали на допрос. Еще в 1907 году убили фон Таубе, директора завода, деспотичного и жадного. Видимо, убийц не нашли, и следствию хотелось сейчас взвалить это убийство на плечи надеждинских большевиков. Один раз Федю привели с допроса избитого. Товарищи тревожно ждали его: молод, вдруг не выдержит и провалит организацию.
Но еще в дверях Федя бросил на них гордый, ликующий взгляд.
– Ничего не добились!
– А мы вот что сделаем – проведем голодовку: надо требовать прокурора, требовать свою одежду и деньги. Они не имеют права нас избивать, мы – подследственные. И выше голову! – предложил Иван.
…Голод. Мучительно хочется пить. Надзиратели приносили политическим пищу, растерянно переглядывались и уносили ее обратно.
Лежать, перетянуть животы, сохранить силы.
Федя почернел. Измученный допросами, он даже во сне бредил свободой:
– На вечеринку зовут… ждут меня…
Желая поднять его настроение, Малышев говорил:
– Тюрьма – это временный отрыв от борьбы. Ее нужно использовать… будем учиться здесь… Я понимаю, Федя, сейчас, когда наши силы могли бы пригодиться там, сидеть здесь тяжело. Будем изучать урок и опыт революции, литературу, историю.
Киприян помогал Ивану как мог.
– Помню я, как на Чермозском железоделательном заводе забастовка в ноябре пятого года вспыхнула. Впервые. Местечко тихое, и вдруг – забастовка. Ночные смены в горячих цехах не выдержали. Утром шли мы, рабочие вспомогательных цехов, к заводу – попали на митинг, а через несколько часов уж тысячи людей шагали по главной улице. Песни революционные пели. Я тогда совсем зеленый был, вроде Феди вон… И подхватили мы под руки главноуправляющего Чермозского округа. Надели на него лохмотья, лапти, суму нищенскую на плечо повесили. Вот так всю свою злобу и недовольство выливали. Привели мы его в волостное управление… Ну, он струсил да и подписал все требования наши…
…Трехдневная голодовка помогла: надеждинцев перевели в другую камеру, выдали им одежду. Они только жалели, что перевели их не к своим.
Чтобы скоротать день, Малышев учил товарищей французской борьбе или играл с ними в допрос. Вот он приосанился и начал:
– Подследственный Федор Смирнов, когда вас избрали хранителем или, как вас там называли, кладовщиком нелегальной литературы в Надеждинске?
Федя фыркнул и скороговоркой ответил:
– Это кого? Это меня-то? Складов на заводе множество.
Иван грозно поднялся:
– Каких складов?
– Да как же, на улице Походяшина склад. На Сосьве склад.
Ермаков хохотал:
– Так-так, Федя! Прикидывайся дурачком.
«Допрос» продолжался:
– Подследственный Федор Смирнов, дружил ты с членом подпольного комитета Мишей?
– Это какой? Мишка-то Вашкин? Да кто с ним, баламутом, дружит? Он ведь ахаверник!
– Ну, а с Малышевым ты дружил?
– Это какой Малышев? – дурачился Федя. – Такой высокий? С бородкой? Да ведь зря он бороду-то отпустил, три волоска всего! А чё мне дружить с ним? Он к девкам не бегает, тоскливый… Я к нему за песнями ходил. Ох, и песен он знает! В голове не вмещается!
– Каких песен? – стонал, изнемогая от сдерживаемого смеха, «следователь».
– Да разве упомнишь? «Ванька-ключник – злой разлучник», «Ах, вы сени, мои сени», «Скучно пташке сидеть в клетке»…
На улице падал снег. Окошко заледенело. С потолка камеры сочились капли, а глухие темные стены дрожали от хохота.
Федя раньше всех оборвал смех:
– Уж скорее бы суд!
– А чего ты от суда ждешь?
– Освободят же! – запальчиво крикнул Федя.
– Судьи-то те самые враги и есть, против которых мы боролись.
– Давай-ка, Миша, заниматься. А то вдруг нас разъединят… – напомнил Киприян. – Ты вчера начал о политэкономии рассказывать…
Иван рассердился на своего серьезного друга: не понимает, что Федю нужно готовить к новым пристрастным допросам.
– На чем мы урок кончили? – спросил он и внимательно оглядел товарищей: «Спасти, спасти товарища… иначе… так… доведут его до самоубийства…» – На прибавочной стоимости мы кончили урок. Продолжаем…
…Суда все не было: у следствия недоставало доказательств. Раз в неделю арестованных выводили гулять на пятнадцать минут. Прогулку ждали нетерпеливо: во дворе жадно вдыхали холодный воздух. Ловили ртом редкие снежинки.
Только раз политических вывели за стены тюрьмы, в баню, снова надев на них наручники.
День был ясный, тихий. От снега резало глаза. От свежего воздуха кружилась голова. Колонна арестантов, построенных в пары, тянулась на полквартала. Звенели на уголовниках кандалы. Кто-то впереди склонился, поправляя их на ногах:
– Трут, проклятые…
– Подсунь под кольца штаны.
Со стороны опять вынырнул рыжий Левка, одетый в лохмотья, и начал приплясывать впереди колонны:
Ох, Демидов уж умен, умен, умен!
И за это он начальством отличен:
Получил он званья итальянские,
Отнял он леса крестьянские!
Обзавелся гувернантками,
Мамзелями, итальянками,
На гроши наши рабочие
Шьет наряды им хорошие…
В колонне послышался смех. Конвоиры закричали:
– Уходи, слабоумный!
А тот себе плясал, выделывая разные коленца.
Кто-то из уголовников впереди тоже начал приплясывать, высоко поднимая закованные ноги. Кандалы звенели.
На тротуаре раздался знакомый дрожащий голос:
– Родной наш!
Малышев огляделся, но в толпе трудно было кого-нибудь узнать. А вдруг он ошибся? Неужели ошибся?
Левка продолжал:
Он кручинушки не ведает,
По три раза в день обедает!
А на прииске рабочие
Пески моют днем и ночью им…
В колонне посмеивались:
– Дурак-дурак, а умный…
– Нам идти под плясовую легче.
Конвоиры согнали песенника в снег. Но тот побежал по тротуару, и толпа, стоявшая там, пропускала его.
Заработают какие-то гроши
И несут в кабак четвертаки…
Ох, и сколь народ наш дураки,
Только сказывать нам будто не с руки!
Иван думал об одном:
«Маша крикнула или не Маша? Неужели я ошибся? Вот здорово, если Маша!»
В бане Иван ужаснулся, глядя на товарищей: от жаркого пара особенно выступали следы нагаек. Спины словно изрыты. Но даже вид изуродованных спин не заглушил надежды Ивана: «Если то Маша, она наверняка будет хлопотать о встрече».
Теперь, гуляя в тесном дворе, заключенные каждый раз слышали за воротами непонятный людской гул.
Несколько раз Иван с Киприяном пытались связаться с соседями по камере, стучали в стены, но ответа не было. А глазок в двери открывался немедленно. Грубый голос с издевкой спрашивал:
– В карцер захотели?
В напряженном ожидании прошло несколько дней.
Скорей бы, скорей!
Иван ждал Машу, ждал суда: не могут же их держать месяцами в подследственных. Он мысленно готовился к своей речи на суде.
Но суд так и не состоялся: мало было улик.
Как-то утром надеждинцев вызвали в контору и объявили, что их по решению Особого совета при Министерстве внутренних дел отправляют в Тюмень и другие города Сибири в административную ссылку.
«Тюмень? Сибирь? Ну что ж, пусть Тюмень и Сибирь. Всюду идет борьба, и мы включимся…» – думал Иван.
Федя радовался свободе, как ребенок, он то пел, смеялся, то прыгал.
Малышева и Ермакова сковали вместе наручниками.
Этап строился во дворе, где по-прежнему был слышен из-за ворот гул голосов, женский плач, крики:
– Закона на вас нет!
– Передачи не брать вы права не имеете!
– Хорошие нам проводы будут! – шепнул Иван Ермакову.
Широкие ворота распахнулись. Толпа смолкла. Какая-то женщина вдруг истошно крикнула:
– Санушко, куда тебя повели?!
Ее перекрыл родной голос отца:
– Соловейко!
Отец, совсем поседевший, с горящими глазами, мял в руках шапку. Рядом плакала Маша. Ее держал под руку высокий немолодой мужчина с темной бородкой. Муж, наверное.
Толпа кинулась вперед по сторонам колонны, напирала на конвой. Малышевы тоже бежали.
– Цепи-то почисти, Иван, – раздался голос отца.
– Из Орла цепи-то. На всю Россию орловская каторжная тюрьма цепи поставляет!
Среди общего шума вновь различались слова отца:
– Ты, Ваньша, с детства совести не ослушивался! Я в тебя верю!
Иван поднял руки, невольно поднимая и руки Киприяна, потряс наручниками на головой.
– Отец, Маша! Тюмень – хороший город!
– Молчать! – гаркнул один из конвойных.
Но родные поняли, закивали радостно.
Позднее узнал Иван, что Маша, увидев его, когда их вели в баню, вызвала отца, что каждый день они были у тюрьмы. Но свидания никому не давали и передач не принимали. Из-за этого и стояли у тюрьмы шум и волнения.








