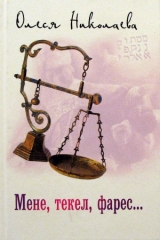
Текст книги "Мене, текел, фарес"
Автор книги: Олеся Николаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– А Святые Отцы утверждают, что там, где когда-то был престол, Ангел Господень до Судного Дня предстоит с огненным мечом... Как вы дерзаете? Как не боитесь?
Отец Петр глянул на него насмешливо, даже раздражение все куда-то испарилось, и спросил, подмигнув:
– Вы что, правда в это верите?
И что ответил Филипп?
Он ответил именно так, как когда-то учил меня отвечать в подобных случаях мой духовный отец игумен Ерм:
– Верую и исповедую!
– Какое суеверие! – поморщился отец Петр.
И вот Зоя Олеговна, встретив после этого Филиппа, сказала ему с состраданием:
– Миленький, приходи ко мне, я тебя вылечу, у тебя религиозный бред начинается. Все может обернуться для тебя белой горячкой, делириумом!
Вот в таких условиях мой друг восстанавливал свой монастырь. Конечно, он и смущался, и страдал, но по тому, как сияли его глаза из-под низко надвинутой на лоб скуфьи, было понятно, что он рад этим битвам и бурям и желал бы еще больших потрясений и скорбей, во-первых, потому что, как известно, лишь многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное, а во-вторых, потому что душа его изнемогала от жажды подвигов, от дивного избытка сил, от нерастраченного вдохновения, которое она скопила за пятнадцать лет тихой и мирной монашеской жизни в Свято-Троицком монастыре.
А я, после того как наш план с наручниками лопнул, вздохнула, наконец, спокойно: кажется, я не очень-то и «засветилась» возле Филиппа в его борьбе. Ведь мой духовный отец игумен Ерм как раз в ту пору интересовался Лаврищевым с его реформами, и получилась бы явно двусмысленная история, что мы с ним оказались бы «по разные стороны баррикад». Лаврищевцы же очень часто заявляли прихожанам отца Филиппа:
– Мы с вами по разные стороны баррикад.
А так – что, в конце концов, я скорбящего и алчущего друга-иеромонаха чаем не могу напоить, что ли? Чашку холодной воды подать? Да могу, конечно. И говорить нечего. Тоже мне – двурушничество!.. А если отец Ерм спросит – ну что, виделись вы с Филиппом? Я отвечу – да, виделась, я ведь живу возле самого монастыря.
С чистой совестью я и уехала к отцу Ерму. Но оказалось, что московские события были ему уже абсолютно неинтересны – у него клубились свои облака, погромыхивали свои бури. И про отца Филиппа он и не вспоминал. Честно говоря, и я в Преображенском скиту совсем позабыла про моего друга.
А вернулась домой – только вышла на улицу, монастырь под боком, – сразу встретила Векселева, этого Урфина Джюса, и журналистов, мужа и жену Сундуковых, – моих знакомцев по агапе. Они шли, как заговорщики, целеустремленно и сосредоточенно, занимая всю узкую улицу, и чувствовалось, что нельзя проскочить между ними, настолько зримо они были объединены общим пафосом, неразрывной энергией бесповоротной решимости. Еще через пару дней невдалеке показался Грушин с деловым «дипломатом». А еще через день меня окликнула Зоя Олеговна:
– Ну что, все выбираем? Все не можем решиться? Все духу нет? А наверное, хочется ведь опять на агапу? Там – харизма, там – благодать! А сознательности у нас еще нет, еще духовная ленца, сомнения черви, такое раздвоение: одна наша половинка хочет приобщиться, а другая сопротивляется. И у приятельницы вашей, я заметила, ярко выраженный синдром. Неврастения. И гордынька, гордынька! Глаз-то у меня наметан.
Раздала диагнозы и пошла было дальше. Потом вдруг резко остановилась, повернулась на каблуках, порылась в сумке, протянула мне газету:
– Вы ведь, кажется, от отца Ерма к нам тогда попали? Отец Петр что-то об этом говорил. Так вот, отец Ерм – за нас. Гриша к нему ездил, он все подписал... И еще просил нашего Гришу вам передать, чтобы вы не якшались с отцом Филиппом. Сказал, такие, как он, и убили отца Александра Меня.
И сунула мне под нос коллективное письмо в защиту отца Петра и против реакционных сил под предводительством красно-коричневого иеромонаха. Там стояли подписи артиста Быкова, артиста Никулина, главного редактора Грушина, академика Рачковского и игумена Ерма!
Начертание этого имени ударило в меня, как молния, сотрясло, искры посыпались из глаз. Я даже забыла, куда направлялась, и вернулась домой. Больная, рухнула на кровать, собралась в комок, натянула на голову плед. Гриша, Гриша, профессиональный лаврищевец, – когда только он успел? И потом – я-то зачем ему понадобилась, чтобы на меня там настучать?
Забежал отец Филипп с последними новостями. Оказывается, он уже знал про письмо, видел подпись игумена. Почему-то я испугалась, как бы он не подумал, что именно я и возила его подписывать, участница генеральной агапы. Даже чувство вины у меня появилось. А чем искупить? Повышенным вниманием, сочувствием, соучастием. Я и брякнула:
– Отец Филипп, можешь смело рассчитывать на меня!
И прикусила язык. Поняла: коготок попал – птичка пропала. А у меня и там коготок, и тут. Такой вихрь во мне поднялся, такой ураган. Песчаная буря: режущий мелкий летящий песок. Я уже в нем по колено, уже по грудь. Смущение на меня нашло. Воистину «покры мя тьма».
Нет, ну правда – что это такое: отдать один и тот же храм и монастырю, и приходу – пусть делят! Естественно, у них между собой конфликт! Тоже мне – выход из положения: служить вместе... Но и служить до поры по очереди – не лучше, Да и как – по очереди? Ты – служи на Иоанна Златоуста, а ты – на Игнатия Богоносца, ты – на Феодосия Черниговского, а ты – на Иннокентия Иркутского, ты – на Иверскую, а ты – на Федоровскую, а как же быть в большие церковные праздники – Сретение, Великий пост уже на носу, да и вообще – каждое воскресенье? Все равно ведь приходится вместе, в одном алтаре: один возглавляет, другой помогает. Целование ведь приходится друг другу давать – и после «Верую», и перед тем, как причаститься Христовым Телом... А когда по очереди служат, происходит путаница: малое стадо, которое осталось у отца Филиппа после того, как он разогнал казачков, не понимает этой очередности, приходит «не в свой день», лаврищевцы его разгоняют: «Зачем вы к нам пришли? Сегодня не ваш день! Вы без очереди! И вообще это наш храм!» Сами же лаврищевцы – дисциплинированные, организованные – созвали «своих», теперь ходят на службы отца Петра, как на демонстрацию, – абсолютно все, полный храм, битком набит. До этих событий все больше лекции их привлекали, собрания, агапы... А теперь – валом повалили в храм. А к отцу Филиппу, врагу своему, они – ни ногой, только те из них приходят, кого специально послали, – следить, слушать, записывать на магнитофон, снимать на камеру. Какое смущение для всех!
Вот и я попала меж двух огней – влетит мне от отца Ерма за пособничество его противнику. Да нет, ах, не то слово – влетит, это бы еще хорошо, но наоборот – сделает он вид, словно ничего такого и не произошло, а сам мне – бойкот, холод, не узнающие меня, смотрящие как бы мимо глаза, из всех слов только «да-да» или «нет-нет». Обидится на меня отец Филипп, если я теперь от него отвернусь. Да и как это – отвернусь: скованы мы уже с ним этими наручниками, а ключ все проворачивается в замке. Так что попробуй отойти – всю руку вывернешь...
Лучше мне вообще куда-нибудь спрятаться, закатиться монеткою за диван, чтобы не растратили, орешком – за книжные полки, чтобы – не сгрызли... Лучше, чтобы песок меня завалил... Переждать, пережить зиму, весну, проспать с пледом на голове. Или – расследовать, наконец, убийство отца Александра Меня, найти убийц. Или уехать в Медон, погрузиться в католические науки, выучить всех пап и анти-пап. Даже какая дрянь ко мне привязалась: «И отвечает сурок: Ваше Величество, все католичество выучил я назубок».
А вернуться, когда все уже успокоится, лаврищевцы целиком и окончательно переберутся из монастыря в Введенский храм, Филипп обнесет свою обитель высокой белой стеной, за которой будет подвизаться крепкая молодая братия, а игумен Ерм уже позабудет, из-за чего там был этот сыр-бор, какое-такое письмо привозили ему подписывать, не знает он никакого Гриши с его заиканием, о Лаврищеве только слышал что-то не очень лестное, но вот что именно – теперь не вспомнить никак...
И еще отец Ерм скажет строго: «Ну и куда же вы пропали? Ни слуху от вас ни духу. Переписка моя остановилась: письма мне тут поприходили из заграницы – некому было их перевести, так и лежат. Я думал – вы больны, а вы уехали, ничего не сказав. Разве можно так поступать?»
...Я начала с расследования убийства. Встретилась с одной духовной дочерью отца Александра, поэтессой. Она сказала:
– Когда его убили, мы были все в таком ужасе, что вот-вот и нас придут убивать топором. Сидели по своим углам, даже двери никому не отпирали.
Я спросила ее:
– А как вы думаете, кто же все-таки мог его убить?
Ну мало ли что, она ведь могла знать какие-то подробности его жизни, хотя бы кто к нему ходил – может, духовидец какой, который слышал голоса, и они ему возвестили об отце Александре что-то вроде «бруэ, бруэ», может, безумка-поклонница. А может, у той был ревнивый и грозный муж, мало ли что. Говорят, отец Александр перед смертью получал анонимные письма, звонки с угрозами. Я не знаю, разве из КГБ звонили, когда они хотели кого-то убить? И убивал явно не профессионал – вон отец Александр после его удара встал и пошел на станцию – искать портфель, и всего, получается, ходил он не менее получаса. Там – полно народа на платформе, милиция – тоже, говорят, какую-то сумку искала – девушки-самоубийцы. Отец Александр мог им тут же и раскрыть своего палача, а он почему-то не захотел... Очевидно, он его знал, очевидно, даже остановился с ним поговорить или прочитать нечто, протянутое ему – иначе зачем бы он надевал очки, они были забрызганы кровью... А может, здесь, у платформы, он сам еще не понял, что его не просто ударили, а уже УБИЛИ. Женщины какие-то благочестивые, ехавшие в Загорск, спросили его:
– Что вы здесь ищете?
Он ответил:
– Портфель.
– Вам помочь?
– Не надо, я сам.
Почему-то они, эти благочестивые, его, окровавленного, не проводили до дома, не вызвали скорую.
А отец Александр, истекая кровью, с проломанной головой, пришел к дому и рухнул прямо на ворота. Лежал, стонал. Почему-то жена к нему не вышла, хотя слышала его стоны и всхлипыванья, не узнала, что ли? Думала – пьяный. В семь утра? Скорую вызвала тоже не тотчас. Он успел истечь кровью...
Всех интересовал исчезнувший портфель, прежде всего, он волновал самого отца Александра. Что там могло быть? Деньги? Есть свидетельства, что накануне вечером у него в портфеле было много денег – в пачках, и когда он неловко раскрыл портфель в электричке, эти пачки рассыпались по всему полу вагона, в котором он возвращался домой.
А может, и не деньги: деньги он мог вынуть вечером и оставить дома, спрятать. Может, там была компрометирующая кого-то исповедь? Чья? Может, тайные письма? Какие письма, от кого? Может, документы? Что за документы такие? А может, что-то другое, еще... А может, там не было никаких исповедей, писем, бумаг, документов, денег, и отец Александр хватился его, потому что там была, скажем, епитрахиль? Его иерейский крест с украшением?
Но поэтесса всплеснула руками:
– Как – кто убил? Неужели вы еще не догадались? Ну они, они, – произнесла она шепотом, закатывая глаза. Я даже испугалась за ее глазные яблоки, так далеко они закатились...
– Поняли? Ну? Ну?
Наверное, у меня был очень глупый вид. Она даже фыркнула, вернув глаза в прежнее положение:
– Да князья же Церкви, вот кто!
– А, – разочарованно затянула я. – Это я уже слышала. Только непонятно, зачем этим князьям надо было его убивать, раз они воздавали ему какие только возможно почести и награды...
– Для отвода глаз. Вот именно, чтобы вы не подумали, что это они убили. А мы, меневцы, сразу поняли. Я даже дверь железную вставила, а туда – три замка. Потому что следующими будем мы.
И она несколько раз со скрежетом повернула свои замки. Я представила себе, как она сидит, запертая, прислушиваясь к звукам лифта, ждет крадущихся по ее душу князей с топором, и мне стало не по себе. Я почувствовала – ну как это обычно говорится? – что следствие мое зашло в тупик, вот как.
Поэтому на следующий день я решила кардинально поменять направление деятельности и встретилась с отцом Борисом Башкирцевым – известным латинофилом, преподавателем католичества в Московской Духовной Академии: он был настоятелем московского храма, куда я ходила с детьми. Он сказал:
– Хорошо, молодежь, я вам все расскажу и про католичество, и про Медон. Но только сделайте одолжение, отвезите меня на дачу к больной жене.
И вот мы приехали, а жена его была блаженная и светлая женщина – все время читала акафисты, заложив уши ватой, чтобы ничто ее не отвлекло. И поэтому она не слышала, когда мы вошли. А отец Борис понес сумки с едой на кухню, и она увидела только меня. И решила, наверное, что я ворвалась сюда, чтобы ограбить дом, а ее убить. Поэтому она издала страшный вопль и как была – в халате и шлепанцах – убежала в ночь. И мы с отцом Борисом за ней погнались. Вернее, сначала погнался он, но бежал медленно, потому что ему мешали одышка и не терпящая никакой спешки и суеты вальяжная солидность тела. Он кричал ей: «Люба, Люба, это же я!» Но ее уши все еще были заложены ватой, и она не слышала вообще ничего. И тогда он попросил меня выказать прыть. Но бедная женщина, потеряв шлепанцы и оказавшись на снегу в одних носках, оглянулась и, увидев, что я преследую ее по пятам, закричала еще громче, прибавила шагу и скрылась во тьме.
– Плохо бегаем, молодежь, – сказал он мне, на ходу задыхаясь. – Теперь ее отыщешь разве что с милицией... Но все равно – будем искать! Но скорее всего она забежала к своим. Есть у нее здесь, в поселке, какие-то свои. Сектанты, кажется. Бабки такие суровые, в платках до бровей. А благословения у меня не берут, наоборот, увидят меня и сразу губы презрительные поджимают. Она иногда и убегает к ним. А они ее отогреют чаем, утешат, оденут и приведут. Вообще, она тихая, кроткая. Но когда у нее обострение, всегда из дома бежит, стоит только входную дверь отпереть. И вот так – раздетая, босиком. И, что страшно, совсем не чувствует холода, не мерзнет.
Мы шли по черному вымершему поселку. Вдалеке шумел лес, направо, за вереницей глухих сараев, открывалось поле.
– А в больницу не хочет, – отец Борис тяжко вздохнул. – «Не пойду, говорит, и все! Мне Матерь Божия не велит». А я без ее согласия теперь уложить ее туда не могу. Потому как если она не социально опасная, ни один врач ее туда не возьмет. Так и мыкаюсь. А вы говорите – католичество, Медон, соединение Церквей... Нет, сейчас это невозможно, и никто к этому не готов. Да и какой смысл? Ну, предположим, соединятся десять энтузиастов, которые здесь, и десять активистов, которые там. Так это вызовет новый раскол... Потому что как-то так получается, что эти активисты с энтузиастами всеобщего единения больно уж непримиримы к собственным ортодоксам, прямо до ненависти, до открытой войны...
Он остановился и перевел дух.
– Но самое главное, молодежь, запомните, это очень важно, это я вам говорю, а я много чего знаю, Россия всегда была полигоном для столкновения католических и масонских интересов. И масоны побеждали всегда! Почитайте историю – чуть где обосновывались у нас братья-иезуиты, там тут же начинали интриговать масоны, чтобы их изгнать. И всегда у них получалось!
Он поднял воротник, и мы повернули к полю.
– Поэтому масоны постарались сделать так, чтобы мы видели католичество в их интерпретации. Да, говоря современным языком, когда-то они вели против иезуитов очень искусную информационную войну. А потом...
И тут мы ее нашли – она стояла, вжавшись в забор, словно надеясь слиться с ним. Отец Борис бросился к ней, закричал: «Люба! Люба! Пойдем!» Вдруг что-то понял, вытащил вату из ее ушей. Кивнул ей на меня:
– Вот, католичеством интересуется. Спрашивает, можно ли Церкви соединить.
Она стеснительно заулыбалась, захихикала, сказала заплетающимся, может быть, от холода, языком:
– Католики там пишут нолики.
Засмеялась и я. Скорее всего, это был подхалимский смех. Я ужасно замерзла. И мне хотелось, чтобы она наконец вернулась домой.
– А католички поют, как птички, – все так же, вжимаясь в забор, сказала она, явно приободренная моим смехом.
– Пойдем, Люба, пойдем, – уже с некоторым раздражением сказал отец Борис.
Она закрыла лицо руками, словно стесняясь. Потом отняла от него ладони:
– А можно еще – воруют спички.
– Так ты хозяйка или нет? Видишь, у нас гостья. А ты чем угощать ее собираешься? – пошел он на хитрость.
Тогда она медленно двинулась, опираясь на его руку:
– А можно еще – яички.
– Можно, – обрадовался он. – Хотите яичницу?
– Да нет же, нет, – захныкала она, как капризный ребенок, вновь хватаясь за забор, – Разве вы – католичка?
– Нет, – смутилась я.
– Ну вот, я и говорю, – она укоризненно ударила его по руке, – а лишь католички едят яички!
– Вы что – не можете ей подыграть? – уже с явным раздражением сказал несчастный латинофил.
Честно говоря, я продрогла уже до костей, к тому же я действительно была голодная, и яичница, так бездарно уплывшая у меня из-под носа, ужасно раздразнила меня, да и весь этот Медон мне уже надоел. Поэтому я спросила ее, кивнув отцу Борису:
– Ну а вы – что же, католичка?
– Что вы, – ужаснулась она. – Я их терпеть не могу.
– Она не любит католиков, – подтвердил отец Борис.
– Да? – спросила я и постаралась, чтобы зазвучало шутливо. – А я-то думала, что только у католички в ушах затычки...
– Нет, – решительно и серьезно ответила она. – Вовсе не только у них. У православных тоже. А впрочем, надо посмотреть в житиях.
Вот и хорошо. Пусть посмотрит. Если там что-нибудь об этом есть, я бы тоже заткнула себе уши, – думала я, вернувшись домой и поедая яичницу из четырех яиц. Эх, пережить бы все это молчком, с выразительным пальцем поперек губ, пробежать тишком, на цыпочках, крадучись, прижимая острые локти к бедрам, опустив голову, потупив взор. А сама на следующее же утро купила телефон с автоответчиком: «Извините. Меня сейчас нет дома. Оставьте ваше сообщение после гудка...» На самом деле, это только кажется, что он тебя от чего-то (или от кого-то) спасает. Совсем даже наоборот. Первым делом заслышался сладковатый голосок Зои Олеговны:
– Я – по благословению отца Петра. Он не против, если вы сегодня поприсутствуете на его переговорах с иеромонахом Филиппом.
Позвонил Филипп:
– Эй, отзовись! У меня к тебе дело.
Позвонил Векселев, сквозь треск можно было разобрать:
– ...часов.
На следующий день – опять Филипп:
– Ты куда пропала? Если ты в Москве, зайди.
Еще через день раздался незнакомый голос:
– Мы не знаем номер вашей квартиры. Спуститесь, пожалуйста, к подъезду в шесть часов.
Я не стала спускаться, вот еще! На следующий день – откуда они узнали мой адрес? – Сундуковы позвонили мне в дверь, сунули в руки видеокассету.
– И сами посмотрите, и игумену Ерму отвезите. Стоящий фильм, – сказал Сундуков.
– Релевантный. Вот, – строго добавила Сундукова.
Я подумала:
– Да ну! Небось какие-нибудь просветительские лекции...
Потом, ближе к ночи, все же поставила.
И вот на экране – отец Петр Лаврищев – крупный план:
– Неужели вы не понимаете, что все – за нас. Прогрессивная общественность с ее мнением, московская интеллигенция, Запад, вы вообще прессу читаете? Оставьте эту затею, она вам не по плечу.
Далее – Филипп – в полупрофиль:
– Я – монах. Я выполняю указ Патриарха. Он поручил мне возродить здесь монастырь, и я это сделаю, как бы вы мне ни мешали со своей общественностью...
По всей видимости, снимал это Урфин Джюс. То и дело слышится его закадровый голос:
– Вы хотите уже оскорбить все общество!
Хорошо виден главный редактор Грушин, он произносит патетически:
– Вы мне напоминаете героя «Бесов» Петра Верховенского!
Возле него – в рядок – Сундуковы:
– Мы вам обещаем так испортить репутацию, что само священноначалие предпочтет избавиться от вас, отправить куда-нибудь с глаз долой – на Камчатку или в Воркуту – просвещать население.
Гриша стоит, набычившись, выпячивая лоб и сжимая кулаки:
– Вы уже так себя позиционировали, что я с удовольствием бы набил вам морду! – заикается он.
Но там никого не видно, кто сопровождает отца Филиппа. То есть он абсолютно один. Один как перст. Он и они...
Они окружили его, порой говорили одновременно.
Зоя Олеговна:
– Да ты хоть веруешь-то в Бога, а?
Грушин:
– Батюшка, вы веруете?
Гриша:
– Да он – Иуда, он Христа за один сребреник продаст!
Опять Грушин:
– Нет, вы мне даже не Верховенского – вы мне Смердякова напомнили, господин лже-наместник!
Опять Зоя Олеговна:
– Небось самому стыдно, ишь, голову опустил. Скажи – стыдно тебе, стыдно?
Урфин Джюс:
– Мы обо всем будем докладывать священноначалию. У нас – гласность. Вы за все ответите – и за казаков, и за безобразия в храме, и за бесчинства ваших прихожан.
Снова Зоя Олеговна:
– Ох, боюсь, его там в Патриархии и накручивают. Он придет в храм, отойдет душой, а его опять туда вызывают и внушают что-то, внушают. И у него – раздвоение. Совесть говорит одно, а канцелярия – другое. Может наступить непредсказуемый аффект.
Журналист Сундуков:
– Нам говорили, что уже один епископ за нас. Мы нашли случай передать ему информацию. Мы ждем от него публичной поддержки!
И вновь Зоя Олеговна:
– Боюсь я за твое здоровье, Филипп! Доверься мне как специалисту, как доктору! Тебе вредна эта суггестия, так можно и до невроза навязчивых состояний докатиться, а гам и целый букет: бред преследования, шизофрения, острый психоз!
Журналистка:
– Кончены ваши чекистские времена, лагеря и расстрелы, расстрелы и лагеря!
Лаврищев:
– Человек сам вынашивает в себе свое наказание! Хочу напомнить вам, что Христа тоже гнали!
И вновь, и вновь Зоя Олеговна:
– Ой, боюсь, придется с тобой помучиться. Очень уж ты себя запустил. Смотрю – нервы у тебя совсем сдают, психика лабильная, расшатанная... Зрачки расширены... Горе ты мое луковое! Ответить даже не можешь, все молчишь.
Пауза.
И вдруг – она же, но уже как бы на мою тематику:
– Ну скажи хоть – это они тебя подучили, эти убийцы отца Александра Меня, ведь они? Неужели ты один из них, из этих убийц?
– Да он бы точно его убил, не поморщившись, – грозно и почему-то басом произнесла Сундукова.
– Так это он и убил! – выдвинул обвинение Гриша.
Это прибавило общего возбуждения. Слышно было даже, как спорят за кадром: Филипп это убил или все-таки не он. Вроде даже кто-то сомневался в нем, ставил ему это свое сомнение в минус: «Да у него кишка тонка!»
Наконец Филипп оборвал прения:
– Так когда вы освободите монастырь? Все сроки уже истекли. Даю вам месяц. Через месяц мы огородим обитель высокой стеной, вынесем ваши вещи и запрем ворота.
Раздвинул их рукой и вышел.
– Беснование! – кинула ему вслед Зоя Олеговна. На этом кончился фильм.
Конечно, мне было жаль отца Филиппа. Но я была так рада, что сама ускользнула от камеры. И хотя мне было стыдно, что я не пошла с Филиппом на эти переговоры, теперь я с облегчением думала, что избежала этих сетей. При этом я тяжело вздыхала, что, возможно, еще больше запуталась в них, хотя тут я абсолютно ни при чем. Но самое главное – я чувствовала себя виноватой. Мне хотелось тут же поехать объясниться с отцом Ермом. Может быть, даже припереть в скит телевизор с видиком и показать ему эту кассету. И все же я думала с отвращением, что мне придется что-то еще объяснять, оправдываться... Я решила побежать к отцу Филиппу и принести ему какое-то утешение – фрукты, бутылку вина. И тут же с ужасом представила себе, как буду входить в Рождественский церковный дом, рискуя встретить там лаврищевцев. Зоя Олеговна, врач-психиатр и эксперт высшей категории, была права, когда твердила мне о раздвоении. Наверное, это произошло тогда, когда я хотела скрыться с глаз долой и остаться сама по себе, но тем самым лишила себя выбора: в этом случае все было решено за меня, и мне была отведена определенная роль.
– Вы уже доставили нашу видеокассету игумену Ерму? – спросил автоответчик голосом Урфина Джюса.
– Что с тобой? Куда ты делась? Хоть объявись, что ты жива, – на этот раз произнес он с интонациями отца Филиппа. – Мне позарез нужна твоя помощь. Тут один француз...
– Ну что ты скрываешься! – возмутился мой муж. – Как будто это может тебя от чего-то оградить. Пойди объяснись с Филиппом – или, в самом деле, помоги, или скажи честно – нет, я не буду ни в чем участвовать. Сколько же можно сидеть на осадном положении! Мне дозвониться никто не может, люди не любят разговаривать с автоответчиком, кладут трубку – и все.
– Господи, – возопила я. – Ну почему мне не позвонит какой-нибудь аноним и не оставит сообщение, что-то вроде: «А не хотите ли смотаться на три дня в командировку в Питер? На недельку – в деловую поездку в Париж? Или ладно уж – в Париж – на десять дней – в Саратов, в глушь, можно даже в Иркутск, в Красноярск. Только срочно! Выезжаем завтра же! Нет, сегодня же, прямо сейчас!»
Но никакой аноним так и не звонил. Зато пришло приглашение на литературный вечер. Безопасное занятие. Безопасное место. Только вошла в ЦДЛ, мне навстречу – можно сказать, главный лаврищевец, академик Рачковский.
Подошел, взглянул заговорщицки:
– Ну как там наша община? А то я только что из Бостона. Мне удалось заручиться поддержкой очень влиятельных и надежных людей.
Я напряглась, собирая все свои познания в латыни, и глубокомысленно напомнила ему о страшных данайцах, приносящих дары:
– Timeo danaos et dona ferentes!
На следующий день с утра пораньше пришел Филипп с каким-то смуглым монахом. Отвел меня в комнату:
– Ну ладно, на переговоры со мной не пошла, твое дело, так хоть приюти у себя этого раба Божьего. Он – француз, греко-католик, священник, приехал по приглашению отца Петра Лаврищева. Хочет принять здесь Православие и остаться в России. Но такие дела решает сам Патриарх. Он его прекрасно у себя принял, решил присоединить к Православию сразу после Пасхи и собирается приписать его к Рождественскому монастырю. Так что это будет мой насельник. А пока Святейший поручил мне испытать его, посмотреть на него в деле. А как я посмотрю? По-русски он – три с половиной слова: так только – «Православие», «атмосфер» и «культур», а я по-французски – ни одного. По-английски кое-как разговариваем. В алтаре: «Гив ми кадило, плиз!» Мне поселить его негде. И вообще – не до него сейчас. Кроме того – неизвестно, какого он духа. Приехал-то по приглашению Лаврищева. Поначалу он носился с этим французом, а как его мне отдали – шарахнулся в сторону. А может – это для маневра, а француз – его шпион? Впрочем, кажется, он и вправду почти ничего по-нашему не понимает. Тогда, может, лазутчик. Внедрится, выучит русский... Впрочем, это я так, на всякий случай. Глаза у него хорошие. Пусть приходит ко мне на службы помогать, на кухне что-нибудь приготовить, снег во дворе убрать, а так – сидит у тебя, русским занимается. Зовут его отец Гавриил. Он, между прочим, иеромонах.
Остался у нас этот отец Гавриил. Действительно, по-русски почти и не говорил, а если и говорил, то так забавно у него получалось – во-первых, все у него выходило на мужской лад: существительные, глаголы... «Католики – это другой культур, совсем другой атмосфер». Я даже в шутку заметила ему, что, наверное, ему как монаху вообще свойственно отметать все женское... А кроме того – при хорошем музыкальном слухе у него был очень сильный французский акцент, и потому его русская речь казалась даже более французской, чем сама французская. Дети мои облепили его – он помогал им делать французские уроки. Они и звали его на французский манер – пер Габриэль. Так это имя к нему и прижилось. Через несколько лет я слышала, как деревенские бабки о нем говорили:
– А отец Габриель-то наш – просто Ангел Небесный! Спаси его Господи!
В юности он ушел в бенедиктинский монастырь, потом, полюбив и прочувствовав православное богослужение, перешел к греко-католикам, отправился в Иерусалим и там пятнадцать лет подвизался в суровой обители. Очень строгий там был устав. Богослужение длилось по восемь-десять часов. Великим постом расходилась братия по пустыне и питалась со всякой скудостью чем Бог пошлет.
Встретил он у Гроба Господня русского православного старца (кажется, архимандрита) с Афона. Тот говорил по-французски, пригласил его в свой монастырь. Поехали они вместе на Афон. Помолились вволю и в Пантелеимоновом монастыре, и в Андреевском скиту. Побывали и у греческих подвижников – слава Богу, были тогда еще живы поистине святые мужи, о которых мы сейчас можем только читать с сердечным трепетом, – и старец Паисий, и Иосиф Исихаст, и Арсений Пещерник, и Ефрем Катунакский. Отец Гавриил был потрясен красотой Православия и понял, что наконец нашел то, что искал. Он попросил русского архимандрита стать его духовным отцом, выражая полную готовность быть послушным ему «даже до смерти». Тот благословил его ехать в Россию и, приняв Православие, там и оставаться. Но из-за того, что сам был приписан к Афонскому монастырю и считался греческим подданным, он не мог его официально пригласить. И тогда священник из числа русских паломников на Афоне предложил отцу Гавриилу помощь:
– Я, – сказал, – вполне даже мог бы вас пригласить. Наша община очень заинтересована в том, чтобы к нам приезжали представители других конфессий, потому что мы на все смотрим очень широко.
И вот так получилось, что отец Гавриил прибыл в Москву по приглашению отца Петра Лаврищева. Но приехал он не вовремя: как раз начались сражения за Рождественский монастырь, и отец Петр, как только узнал, что тот хотел бы перейти в Православие, перестал его опекать и просто отослал к Патриарху. По-видимому, отец Гавриил упомянул в разговоре со Святейшим Рождественский монастырь, тот одобрительно закивал и направил его прямехонько к отцу Филиппу.
Поначалу Филипп отнесся к нему с некоторым подозрением. Все ему виделся здесь какой-то подвох – зачем ему в этой ситуации священник-униат, приятель Лаврищева? А мы его полюбили. Он был кроткий, добрый и умный. Все понимал – по взгляду, интонации, жесту. Иногда, закатав рукава подрясника, хозяйничал у нас на кухне – пек блины, делал из скисшего молока творог и варил суп. Готовил он превосходно. При всей своей яркой – какой-то южно-французской, гасконской, даже, может быть, испанской внешности – он умел оставаться незаметным. Если к нам приходили друзья, они сразу чувствовали эту его прозрачность, открытость: казалось, в нем не было ничего мутного, тяжелого, чуждого. Помимо родного французского, он знал английский, греческий, латынь и иврит, поэтому русский давался ему легко. Через какую-нибудь неделю он уже вовсю болтал с моим мужем о «церковний политик и церковний реформ»:








