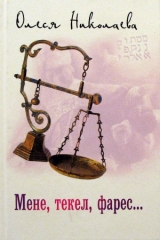
Текст книги "Мене, текел, фарес"
Автор книги: Олеся Николаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Я перевела.
Отец Ерм одобрительно кивнул:
– Надо начинать с самого себя. Как сказал один святой: спасайся сам – тысячи вокруг спасутся. Прежде всего вам надо принять святое крещение. А там Господь поможет.
Я перевела.
– Как это совпадает с моими мыслями, – воскликнула она. – Именно, именно необходимо начать с себя. Иметь дело только с чистым непорочным человеком. Я богата. У меня свой дом в Оклахоме. У меня брат – бизнесмен. Я сама – менеджер. Я неплохо зарабатываю. Я могла бы взять на себя все расходы, для меня это не проблема.
– Есть такое сугубое испытание деньгами, – вставил отец Ерм. – А кроме того – здесь не надо никаких денег. Это вам не будет ничего стоить. Брать деньги за таинство – большой грех. Даром получили – даром давайте!
– Нет, – продолжала Нэнси, – это мой выбор, и я сама готова за все платить. Я готова ради этого пожертвовать всем.
– Ну разве что это может быть пожертвованием, – рассудил отец Ерм. – И конечно, вы правы в том, что каждый человек сам должен нести ответственность за свои поступки. Ведь Господь его создал свободным сознательным существом. Только учтите – после крещения вы должны будете соблюдать церковные правила – исповедоваться, причащаться. А то некоторые покрестятся, а потом их как ветром сдуло: вроде как совершили некий магический обряд и успокоились.
– Да, – сказала Нэнси, – в Америке сейчас очень много магии. Но мне не хотелось бы к ней прибегать. Очень многие занимаются спиритизмом, вызывают духов. Это все от одиночества.
– С Богом человек не бывает одинок, – заметил отец Ерм.
– А я очень одинока, – призналась Нэнси. – Ведь не каждого мужчину можно к себе приблизить. Повсюду теперь в Америке СПИД, наркомания, алкоголизм. Очень много сторонников однополой любви. Отвратительная наследственность. Испорченный генотип. Ужасная экология: повсюду целлофан, пластмасса, химия, радиоактивные выбросы. Все отравлено. В Америке сплошь да рядом рождаются дауны, идиоты. Никогда не знаешь наверняка, кто родится. Огромный риск.
– Не только в Америке, – заметил отец Ерм. – Скажите ей, у нас тоже. Идиот на идиоте сидит, идиотом погоняет. Это – везде. Ваши опасения вполне понятны. Природа людей испорчена грехопадением. Это еще со времен Адама и Евы. Лишь святое крещение смывает с человека грехи.
– Конечно, – продолжала Нэнси, – все это теперь можно у нас делать в лаборатории, искусственно, цивилизованно. Не как дикари. А под наблюдением специалистов. Все можно проверить заранее, по компьютеру. Кое-какие достижения цивилизации безусловно есть.
– Бесспорно, – согласился отец Ерм, – скажите ей, мы это здесь очень хорошо понимаем. Нам надоело это невежество. Сидим, любуемся на свой лапоть и видеть ничего дальше него не желаем! Переведите.
Я перевела, испытав, правда, некоторые затруднения со словом «лапоть».
Нэнси вскочила со скамьи, кинулась к отцу Ерму и энергично потрясла ему руку.
Он отнял руку, показал ей глазами на ее место и кинул:
– Пусть продолжает.
Тогда она сказала:
– Я прочитала о вас, отец Ерм, в одном американском журнале – очень респектабельном, очень благополучном. Там же были и ваши фотографии. Вы смотритесь так миловидно (nice looking). И я поняла, что жизнь у вас в монастыре очень здоровая, очень полноценная.
– Да, – живо откликнулся он. – Единственное спасение от мира – монастырь.
– Я очень одинока в мире, – повторила она. – Любой мужчина повергает меня в страх. Ведь как узнать – он может быть инфицированный, он может быть просто не в себе, он может быть просто подлец…
Отец Ерм покачал головой:
– Да, тут уж необходима особенная осмотрительность…
– Когда я увидела и прочила о вас, я поняла, что вы и есть то, что я ищу. Вы и есть тот, кто мне нужен.
Отец Ерм махнул рукой:
– В принципе, это может сделать любой священник, необязательно я. Любой священник может совершать церковное таинство…
– О нет, далеко не любой, – горячо возразила Нэнси. – Только вы. Вы могли бы жить у меня в Оклахоме или остаться здесь, в монастыре, я бы не возражала…
– Зачем в Оклахоме? – удивился отец Ерм. – Я никуда отсюда не поеду. Я же монах. Мы можем все совершить хоть завтра прямо здесь, в маленьком храме на Афонской горке. Вам только нужно подготовиться. У вас есть Символ веры?
Нэнси была в восторге:
– Конечно есть, у меня в жизни есть много таких символических вещей. Но я и не предполагала, что это можно в храме! Хотя, с другой стороны, это же настоящая мистерия! О, я знала, что вы поймете, что вы не будете против! Я не случайно выбрала именно вас в отцы моему будущему ребенку! Мы с ним будем вас навещать – ребенку же необходимо видеть отца. О, это будет особенный ребенок! Абсолютно экологически чистый и непорочный. Может быть, он даже станет каким-нибудь пророком или просто великим человеком! Святой ребенок!
Тут она трижды тожественно произнесла это «saint baby», и глаза ее наполнились слезами. Видимо, она сама была подавлена грандиозностью своего замысла.
Я сидела, ошарашенная ее откровением, и не могла произнести ни слова. И потом, мне было просто жаль отца Ерма.
Наконец, я выдавила из себя:
– Что-то я перестала ее понимать… Наверное, синтаксис для меня сложноват. И лексика. Произношение у нее американское. И говорит она неразборчиво. Все-таки мои познания в английском очень-очень скромные… Даже голова разболелась…
– Наверное, тут на библейскую тему, – предположил отец Ерм. – Что-то о святом семействе. Разве не так?
Понял он все-таки это «saint baby».
Нэнси напряженно смотрела на нас.
– Может быть, и на библейскую, – уклончиво согласилась я.
Ну а что – этакая новоявленная Фамарь… Желает любой ценой заполучить вожделенное святое семя. Родить ребенка, не зараженного грехом… Боже мой!
И в этот момент, на беду, в келью постучал Дионисий:
– Отец Ерм, там к вам какие-то гавайцы с гитарами. Один в черной шляпе, а другой вообще в папахе со звездой… А третий – еще и с бубном.
– Кто такие? Какие-такие гавайцы? Ничего не знаю. Ты как по-английски? Попереводи-ка тут. А вы пойдите, посмотрите, что там за гавайцы такие, – сказал он мне.
Дионисий, профессорский сынок, английская спецшкола, уселся на мое место. Я сделала ему страшные глаза, пытаясь предупредить друга об опасности, и выскользнула вон.
И вот Дионисий, ничего не подозревая, взялся добросовестно переводить «word by word» и вдруг осекся, но отец Ерм вполне благожелательно, но притом и властно на него смотрел, ожидая прояснения сути. И когда Дионисий, выбирая наиболее деликатные выражения, перевел, отец Ерм только тихонько хмыкнул, но по тому, как он это сделал, Дионисий понял, что до него так и не дошел смысл и он так и не уразумел, чего от него здесь хотят. И Дионисий подумал, что коль скоро его позвали как переводчика, то его функция и состоит в том, чтобы речь иностранки стала понятной игумену, и что если эта речь кого-то и обличает, то конечно же не отца Ерма – он-то тут не при чем… И потому попросту взял и растолковал нэнсины рассуждения самыми простыми словами. И не выдержал и расхохотался. Очень уж ему это показалось диковинным: заявиться к подвижнику с предложением зачать от него святое дитя! Улыбнулась и Нэнси, сияя зубами. И всего этого отец Ерм, до которого, наконец, «дошло», не мог выдержать. Конечно же, выгнал их, рявкнул грозное «вон», взметнул указательный палец, нацеливая его на дверь…
Я же – прошла по Афонской горке. У беседки стояли три смуглых нездешних странника, все трое с усиками, и все с гитарами. Двое в черных шляпах, а на одном была нахлобучена настоящая каракулевая генеральская папаха с красной звездой. Стояли как ни в чем не бывало, посмеиваясь. Прошли группкой безо всякого пропуска, как в парк погулять. Того гляди, вот-вот достанут сигаретку и закурят, сладко затягиваясь на сентябрьском ветерке…
– Вы ищите Нэнси? – спросила я.
– Нэнси, Нэнси – загалдели они.
– Она сейчас, – пообещала я, останавливаясь возле них.
Действительно, вскоре вдалеке мелькнула белая бурка и стала удаляться в сторону мастерской. То, должно быть, добрый Дионисий повел несчастную Оклахому утешать в мастерскую.
Мы с гавайцами двинулись следом.
В мастерской действительно был уже «чи Егыпет, чи Афрыка» – садовник натопил на славу, но никого, кроме Нэнси и Дионисия, уже не было. И он сам, натрудившись, и Валера со Славиком, и все прочие подмастерья ушли молиться на вечернюю службу.
Нэнси стояла в бурке и плакала. Гавайцы кинулись к ней, враждебно глядя на Дионисия, но она что-то сказала им, и они отошли в сторону, доставая гитары.
– При чем здесь монах? При чем здесь служение? – причитала она. – Хотела иметь чистое дитя. Чистый плод. Я – хорошая порядочная женщина. У меня за всю жизнь было не больше пяти-шести мужчин! Я хотела выполнить свое предназначение. Какой же это грех? Женщина без ребенка – это неполноценная женщина. Пустоцвет.
Дионисий сочувственно кивал.
– Я про деньги ему сказала – я понимаю, такой человек не может быть корыстным, он неправильно понял, это дар от меня на монастырь. Это не то, что я хотела его купить. Я – порядочная чистая женщина. Я здорова. Я не пью, не курю, не колюсь. А он – что? Побыл монахом, очистился, достиг совершенства, – продолжала она всхлипывая. – Теперь принеси жертву Богу, оставь на земле святое потомство… Не просто же так он даже называется «отец»… Я не понимаю, почему такие неиспорченные достойные здоровые мужчины уходят в монастыри… Кому это нужно? Зачем?..
– А ты поищи себе хорошего мужа в миру, – примирительно предложил Дионисий.
– Как искать! – воскликнула она. – Надо же, чтобы были хоть какие-то рекомендации! Без рекомендации даже домработницу не берут в порядочный дом… Нет, я поняла, это может быть только монах!
Она всхлипнула, достала большой носовой платок и обстоятельно высморкалась. Посмотрела пристально на Дионисия:
– А ты? Что – тоже монах? Что – тоже не можешь жениться?
Он замотал головой…
– А если рискнуть, – неуверенно начал он, – и без всяких рекомендаций полюбить кого-нибудь – ну необязательно из монастыря, а грубо говоря – откуда угодно: с работы, с улицы, соседа, приятеля, гавайца, кубинца… Любовь покрывает все… И темные гены, и дурное воспитание, и влияние среды…
– Это эгоизм, – покачала головой Нэнси. – Это может быть хорошо для себя, а ребенок рискует. Мало ли что ему перепадет в результате…
И тут грянули гавайские гитары. Запели пронзительно и тревожно, с переборами, переворачивающими сердце, застучали по дощатому полу каблуки: дерзай, Карменсита!
Откуда-то на столе появилось красное вино, стаканы. Нэнси демонстративно подошла и хлопнула целый стакан. Взор сразу поплыл, поплыл, слезы высохли, на лице появилась победительная улыбка. Ведь – менеджер, бизнес-woman.
– Только не здесь – испугался Дионисий. – Пойдемте лучше в сад.
Так и вышли, наигрывая на гитарах в осенний яблоневый сад, в сентябрьские влажные сумерки.
– Туда, туда – властно указывала Нэнси гавайцам в направлении Ермовой кельи.
Расположились прямо перед дверями в каких-то десяти метрах, под деревьями. И пошло, и пошло: задрожали струны, соперничая с двумя тенорами, одним баритоном, будоража округу: эх, гавайские страсти, испанские фиоритуры, Гонолулу, гирлянды, кастаньеты, бубны, идальго, роковой океан, кипарисы, амарилисы, смоквы. Крепкая, как смерть, любовь, страшная, как преисподняя, ревность. Всегда и повсюду и здесь, на самой высокой Афонской горке. И ныне и присно.
– Я хочу, чтобы он услышал, чтобы он все понял, – сказала мне Нэнси, кивая в сторону кельи. – А то «я – монах, я – монах». А толку что? Недаром же его называют «отец»! Я же к нему – от чистого сердца, от святой любви!
Но отец Ерм и так уже все услышал, и так все понял. Оскорбленный, он рванул дверь и вылетел на порог. Тут-то, пританцовывая и покачивая головой, подступил к нему, выкидывая вперед ноги в сапожках, тот, в папахе, запел соло, томно закатывая глаза. Такая жалобная надрывная серенада. «Кисьерра мурир де сантимэнто!» – взмывал к небесам страдальческий одинокий голос. Даже и не понимая слов, можно было вместе с ним умереть от чувств. Ему вторил бубен, утруждая каждый бубенчик. Даже туман вокруг стал таять, как воск, сумерки стекали с голых бесплодных яблонь…
Отец Ерм отпрянул, захлопнул перед папахой дверь, потом через мгновение вновь распахнул и, размахнувшись, швырнул к ногам Нэнси красную сумку с засунутыми туда наспех подарками…
А она в ответ сорвала с себя кольца, браслеты, серьги, красные бусы и кинула в дверь его кельи – мол, нате, берите, ничего мне теперь не мило, ничего не надо!
Но гавайцы будто не замечали этого. Будто это было в порядке вещей. Будто здесь так принято. Запели на три голоса, наслаждаясь песней, щеголяя гитарными переборами, дрожащей струной… И Нэнси вдруг поняла, что ей больше не на что здесь надеяться, некого умолять. Властно рявкнула «хватит»:
– That’s all! It’s time!
Закуталась в бурку, поясняя: это – его подарок! Гавайцы послушно засеменили вслед за ней вниз по Афонской горке, потом дружно остановились, повернулись и поприветствовали нас воздетыми ввысь гитарами. Так и не покрестил отец Ерм Нэнси. Так и не сделалась она Нонной…
Но – слава Богу – никто толком в монастыре не услышал этих безумных серенад: все были в храме, а то бы не избежать скандала. Господь покрыл – и все сошло с рук.
А отец Ерм напрочь затворился в своей келье, ушел в двухнедельный затвор. Чем он там питался, что пил?..
С этих пор, как только его слуха достигали выражения, вроде «цивилизованный мир» или «общечеловеческие ценности», он весьма даже заметно морщился и отворачивался, краснея…
Все чаще и чаще он говорил:
– Плох тот духовник, который вместо того, чтобы приводить верующего человека ко Христу, привлекает его к себе. Если он видит, что тут начинает действовать простое человеческое пристрастие, он должен немедленно отойти.
И испытующе посматривал на своих духовных чад. И все мы начинали делать такое безразличное лицо, словно лично отец Ерм нас вовсе не интересует, словно мы вовсе к нему и не привязаны сердечной любовью, а просто слушаем его из вежливости, из послушания – нелицеприятно, с полным бесстрастием. И поэтому вовсе не надо ему никуда от нас отходить.
А потом, когда мы усвоили этот урок, он стал говорить:
– Плохо то чадо, которое подлавливает своего отца в минуту немощи, говорит: «А-а, он такой же грешный человек, как и я. Зачем мне слушать его?» Запомните, только плебей, счищающий грязь с обуви своего господина, может вообразить, что его хозяин только и делает, что ходит по жидкой глине, по мокрому заплеванному песку…
– Да-да, – говорили мы, – только плебей, плебей по душе, такой презренный лакей…
Ах, мы чувствовали, что нашему духовному отцу что-то не по себе. Будто бы эта Оклахома выставила его посмешищем, и он страдает. Часто он брал большой черный зонт и шел по Афонской горке гулять под дождем туда-сюда, туда-сюда. Какая-то важная дума, что ли, зрела у него в груди. Ему нужна была какая-то новая большая идея, большая любовь…
Вот тогда-то и нагрянуло к нему католичество, привезли даже портрет Папы.
Приехали к нему какие-то эмиссары-иезуиты, надарили всяких книг – «Розарий» Игнатия Лойолы, «Житие Терезы из Лизье», всякие там энциклики. И отец Ерм после их отъезда с жаром восклицал в своей мастерской:
– Я уверен – без Папы мы не проживем! – И повесил у себя в келье его портрет.
Но Дионисий, несмотря на такой новый поворот, так и остался козлом отпущения за ту неудавшуюся Фамарь из Оклахомы, – именно он ведь растолковывал наивному игумену истинную цель ее приезда. Ну и отец Ерм как-то демонстративно перестал с ним общаться. То есть он сидит в мастерской работает, а отец Ерм делает вид, что его и вовсе не существует. И Дионисий восскорбел. Стал утешаться красным винцом. Даже к старцу Кукше ездил за сто километров, как отец Ерм язвительно заметил, «погадать». Но тот старец ему сказал: «Слово серебро, а молчание – золото». И он понял это так, что не надо пускаться с отцом Ермом в объяснения. Бродил по вечерам по Афонской горке с несчастным лицом. Наблюдал, как иезуиты эти, очень даже довольные, вылезают из кельи игумена, раскланиваются с ним, вид у них самый заговорщицкий и даже победоносный: заловили чистого доверчивого человека в свои басурманские сети!
И вот как-то раз, весьма утешенный винным утешением, потихоньку накурившийся паршивых сигарет под прикрытием огромной елки, увидел – вдалеке, внизу, по тропинке отец Ерм идет. Идет отец Ерм, и идет первый настоящий снег. Спрятался Дионисий за своей елкой, а соблазн велик. Стал лепить снежки – ладные такие, крепкие получились, приятно в руке их держать. Глянул опять, как отец Ерм идет внизу, приближается, раздетый, в одной легкой ряске, и только вокруг шеи длинный по ветру шарф. И вдруг как кинет в него снежок. Потом другой, третий. Тот вскинулся, остановился, оглядывается: кто это? Что? Как? А снежки ему в плечо, в грудь…
– Я не замечаю грязи на ваших ботинках, отец Ерм! – стал кричать Дионисий.
Тот начал пятиться, уворачиваться, закрываться рукой, а Дионисий все лепит новые и кидает, кидает в него. Весело. Дух захватывает. Как в детстве. Кидает и кидает. Вышел из-за елки, стоит во весь рост. Словно вызывает отца Ерма на снежный бой. Будто вот-вот – прямо сейчас отец Ерм тоже скатает кругленький снежок и пальнет в Дионисия. Но – нет: отец Ерм кричит что-то, грозит, а Дионисий хохочет. Всего отца Ерма снегом закидал, и тот, в конце концов, убежал, сдался.
Тогда Дионисий сел прямо в снег, посидел-посидел и заплакал. Так сидел и повторял себе:
– Дюдя! Дюдя и есть! «Древо, коренящееся в аду»!
А мне вся эта история с Нэнси, можно сказать, придала весу. Вышла я абсолютно сухонькой из этой мутной воды. Даже на фоне Дионисия выросла в глазах отца Ерма. Он предпочел забыть, что видел меня с гавайцами – тогда, в сумерках, в яблоневом саду. Как-то раз он сказал мне по большому секрету:
– Я собираюсь отделиться от монастыря и построить свой собственный скит. Там будет все строго по канонам. Это будет настоящий образцовый миссионерский скит. Мы будем, наконец, объединять Церкви. И вам там будет уготовано место! Сидите, пишите, сочиняйте!
А через два месяца в Москве мне позвонил какой-то американец и сказал, что привез из Америки посылку. Мы встретились, и он протянул мне сверток. Там было платье из змеиной кожи и черная бархатная накидка, – дар Нэнси. Я все хотела их куда-нибудь надеть, но получалось что-то слишком уж экстравагантно, не для моей жизни. Ну а кроме того – казалось, что на мне этот наряд слишком уж вызывающе и надрывно кричал на все четыре стороны о грехопадении первых людей.
ЖЕНСКОЕ СВЯЩЕНСТВО
Когда-то мы ездили с этим Стрельбицким в большой писательской компании ко Гробу Господню. Он отстал где-то на виа Долороса, потому что купил халву. Ел и нахваливал:
– Хорошая халва, свежая! – И меня угощал: – Отведай. Нигде такой халвы больше нет. А туда, туда, – он указывал в сторону церкви, – я больше не пойду. Я там уже бывал, все видел. Я лучше тебя здесь подожду – погуляю, халвы поем. А ты приходи поскорее – вместе кофе попьем.
У нас с ним существовал обычай: приезжая в какой-либо город, мы первым делом отыскивали уютное кафе и пили там кофе с коньячком, нежась на солнышке и оглядывая окрестности. В Афинах мы пили кофе возле Акрополя. В Париже, естественно, – у Нотр-Дам. А в Египте – подле сфинкса. В Москве лютовала зима, а мы сидели, нежась на жарком солнышке и поджидали друзей-экскурсантов, полезших на скалы разглядывать загадочное чудовище. Настроение у Стрельбицкого было радостное, даже игривое.
– Люди делятся на умных и на туристов, – сказал он.
Рядом, почти вплотную к кафе, раскинулся небольшой рынок – этакое перекати-поле. Зазывные звуки, звон меди, запахи шаурмы… Мальчишки облепили нас, дергая за рукав и предлагая майки, циновки и амулеты:
– Мистер, мистер, ван долляр, ван долляр, – кричали они.
Вдруг Стрельбицкий остановился возле лавки с развешанной на веревках пестрой национальной одеждой. Через десять минут он уже стоял в какой-то тунисской робе и турецкой феске, а меня нарядил в красное арабское платье с золотыми цветами и белый мусульманский платок с монетками. Так мы и вернулись в кафе, заказали еще по рюмочке и стали высматривать в толпе разноперых туристов своих соотечественников и коллег.
Вообще на Стрельбицкого это было не похоже – такой «хомо играющий»… Нет, он всегда был подтянутый, вежливый, подчеркнуто дистанцированный. Но если бы ему сказали, что порой он выглядел чванливо, он бы замахал руками: «Нет, нет, терпеть не могу чванства, надутости».
– Я люблю простоту, – говорил он. – В аскетизме есть свой изысканный вкус. И не выношу излишеств. Вот возьмем церковь: все эти крашеные яички, бумажные цветочки… Мутит от этой аляповатости. У протестантов все как-то искреннее, обнаженнее, проще… В Бога-то я верю. Ну конечно – не в того, с бородой, сидящего на воздусех. А в некий высший закон. Словом, что-то есть на этом свете, что-то есть. Так вот – в Бога я верю, а вот в лукавого – это уволь, не могу…
– Да? – удивилась я. – В лукавого, мне кажется, сейчас куда легче уверовать, чем в Бога, – так много свидетельств! А кто же тогда искушал Господа в пустыне?
– Не знаю, – пожал он плечами, – фантазии, наверное, у него какие-то были. Игра подсознательного. Ты Юнга читала?
Я читала. И не мне было проповедовать Стрельбицкому. Конечно, не мне! Он знал меня с детства. То есть он был уже известным писателем, а я была мелюзгой, дочкой его приятелей. Потому теперь он относился ко мне покровительственно и даже учительственно.
– Никогда не думай, что сможешь осчастливить человечество своими стихами! Никогда не пытайся предугадать, как могут оценить то, что ты пишешь! Всех, кто будет высказывать свое мнение о твоих опусах, слушай, но не слушайся!
Так наставлял меня знаменитый писатель Стрельбицкий, и конечно не мне было обращать его в свою веру.
Но мой духовный отец игумен Ерм, когда был однажды проездом в Москве, встретил его у меня и удивился вслух:
– Да как же вы не верите в лукавого? Его же слугами здесь все кишит. – И он взмахнул рукавами рясы, словно разгоняя надоедливых мух: – Кыш!
Стрельбицкому это очень понравилось, и он потом часто рассказывал, как его познакомили с одним «крупным священным чином» и он вот так запросто – рукавами рясы – разгонял пред собой назойливых незримых бесов.
А игумен Ерм сказал:
– А если своими глазами беса увидите, то уверуете?
– Уверую.
– А тогда покреститесь?
– Тогда покрещусь.
И отец Ерм грациозно опустился на колени перед иконой Спасителя и перекрестился.
– Ну, теперь ждите…
Года через полтора, когда мы и поехали со Стрельбицким в писательскую поездку в Израиль и отправились ко Гробу Господню, и он купил и ел ту самую халву, я вдруг спросила его:
– Скажите, а вы беса видели?
Он поморщился:
– Что я, старушка, что ли?
Я спросила:
– А может быть, все-таки зайдем в храм?
Он сказал:
– Что ты! Я теперь даже на метро не езжу – боюсь замкнутого пространства. Спускаешься туда, как в преисподнюю: темно, тесно, духота. Форменный ад. Вот и в церкви – не протолкнуться. Задыхаюсь я там. Лучше уж я здесь в кафе тебя подожду.
Так что мои миссионерские шансы были равны нулю, если не отрицательной величине. О чем я и сообщила его жене Анне. А ведь она так просила меня перед отъездом:
– Затащи, умоляю, Стрельбицкого любой ценой ко Гробу Господню. Может, его там проберет, и он наконец покрестится. А то ведь помрет старикашка некрещеный, что делать будем?
– Как его затащишь? – оправдывалась я. – Насильно никого к Богу не приведешь.
– Эх ты! – только и сказала она мне разочарованно и уехала в какой-то дальний заштатный городок к иеромонаху Киприану, который, как говорят, был великим постником и молитвенником, а при этом приходился родным братом известному правозащитнику. Первым делом он поставил ее на молитву, «чтобы отошел блудный бес», которого она «привезла на себе». После трехчасовой молитвы она дерзнула обратиться к нему с просьбой «вымолить Стрельбицкого и покрестить». И отец Киприан обещал все исполнить и даже дал ей ангела на обратную дорогу:
– Даю тебе ангела на дорогу, Анна!
Уезжая, потрясенная, она думала: «Да что это за человек, что он может и ангелов на дорогу давать!»
И вот она стала частенько к нему ездить и молиться и внимать вдохновенным речам своего наставника. И вообще она мне признавалась, что, если бы не Стрельбицкий, она бы так и осталась при отце Киприане: кормить, убирать, украшать ему жизнь – такой человек! А между прочим, была эта Анна дамой очень даже великосветской и обожала комфорт. Квартира ее представляла собой наикокетливейшим образом убранный уголок, обвешанный и обставленный всякими штучками, куколками, вазочками, корзиночками, бантиками, зеркальцами, колокольчиками, зверюшками, картиночками, цветочками, шкатулочками и проч., и проч. Но совершенно некому было это оценить, так ей казалось. И вообще – Стрельбицкий с некоторого времени предпочитал жить по-спартански, отдельно, на даче. Но она навещала его почти каждый день, привозила еду, чистое белье, дюжину историй, произошедших с ней за время их «разлуки». И вот она «чирикала», а Стрельбицкий еду «поклевывал» и начинал томиться от ее присутствия. Тогда она тут же делала вид, что ей самой позарез надо спешить, «дел куча», и убегала, умоляя его «не скучать», потому что она скоро вернется.
Надо сказать, что какие-то дела у нее действительно были. Как-то само собой она сделалась менеджером и литагентом Стрельбицкого и очень умело его «раскручивала», сама не подозревая, как это называется. Она считала, что имя ей просто Муза. А Муза писателя должна быть всегда легка на подъем, нарядна: в бусиках, румянах и шляпках, острословна, весела, певуча, танцевальна, рисовальна – она приносила ему свои рисуночки, на которых изображала себя с огромными голубыми глазами, удивленно глядящими из гущи ресниц, и маленьким красным ротиком, напоминающим сердечко. Муза писателя должна быть загадочна – она загадывала загадки: в какой руке? Она должна быть таинственна – в каждом испеченном ею пирожке был «секрет», который угадает только отведавший. Муза должна быть неотмирна и ангелоподобна, особенно если ее подопечный – гениальный Стрельбицкий, у которого «свои отношения с Богом». Словом, Муза должна покрывать все изъяны личности своего избранника. Поэтому она и ездила к «сугубому подвижнику и великому молитвеннику и прозорливцу», как она называла отца Киприана, и умоляла его как следует попросить Бога за Стрельбицкого. Но Стрельбицкий упирался, морщась, все говорил о каких-то «крашеных яичках и бумажных цветочках», а сам все глубже забивался в свой угол, все реже бывал дома в Москве, отсиживаясь на холодной даче, пугаясь теперь не только метро, но просто многолюдных собраний и даже гостей.
Наконец, отец Киприан сказал ей:
– Все! Едем освещать тебе квартиру!
Посадил к себе в машину и погнал в кромешной темноте на дикой скорости в Москву. Но ей не было страшно, потому что даже умереть рядом с таким человеком казалось ей участью не такой уж плохой: возьмет за ручку да и втащит за собою в рай. Домчались, однако, благополучно.
Он разжег кадило, достал из дорожного чемоданчика святую воду, дал ей в руку зажженную свечу. Проходя мимо письменного стола Стрельбицкого и помахивая дымящимся кадилом, он вдруг замер:
– А это еще что такое?
Он указал на маленького чугунного чертика, сидевшего возле вазочки с карандашами и ручками.
– Это? – смутилась Анна. – Это Стрельбицкого. Он привез из Испании и поставил сюда. Вообще-то он здесь не работает, но когда съемки, интервью, сидит за этим столом. Это декоративный стол.
Отец Киприан взял чертика брезгливо двумя пальцами за загривок и вышвырнул в открытое окно.
– Ой, – она втянула голову в плечи, – а если кого убьет? Там у нас под окнами улица.
– Ничего, – спокойно кивнул отец Киприан, – если кого убьет, то именно того, кого надо.
Слава Богу, что никого так и не понадобилось убивать этому чертику! И он просто канул в бездну, где ему и подобало быть. Да! Потому что Анна потом ходила и искала его под окнами, но не нашла. Он исчез от рук отца Киприана, и Стрельбицкий не заметил пропажи.
Меж тем отец Киприан стал обходить дом и рисовать на стенах освещенным елеем крестики – ровно четыре, по четырем сторонам света. Один приходился на западную стену, то есть на кабинет Стрельбицкого. И Анна попросила:
– Знаете, у моего мужа очень сложные отношения с Богом. Мало ли что, если он вдруг заметит на своей стене крест. Может даже возмутиться, что на него оказывают психологическое давление, и сказанет что-нибудь кощунственное. Так что вы уж сотворите его как-нибудь тайно, этот крест. Ну, тайнообразующе…
Отец Киприан все понял. Не надо смущать писателя. Не надо даже невольно провоцировать его шаткое сознание. Поэтому он залез на стул, снял со стены картину, которая висела над шкафом, и под ней начертал знамение. И сказал Анне весьма уверенно:
– Все будет как надо! Он обязательно примет святое крещение, когда этого захочет Господь, дивным образом, ты увидишь!








