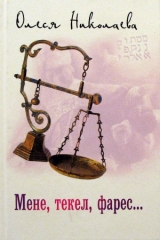
Текст книги "Мене, текел, фарес"
Автор книги: Олеся Николаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Но тут был еще один момент: никакому другому священнику, кроме отца Петра, никогда бы не позволили так сопротивляться административной власти своего священноначалия: сказали бы «ты – чего?», вкатили бы дисциплинарный выговор и отправили бы за штат для острастки. А тут чувствовалось, что Патриархия явно пасует перед его общественными связями... Еще бы – как раз в это время ездил один из московских викарных архиереев в Америку, так ему там недвусмысленно сказали, что американский Сенат очень недоволен Русской Церковью и выражает свою обеспокоенность в связи с ее гонениями на видного миссионера отца Петра Лаврищева и его общину. Архиерей приехал перепуганный и все повторял Патриарху:
– Не будем дразнить гусей, Ваше Святейшество! Не будем дразнить гусей!
Итак, отец Филипп прибыл на место событий в Москву с двумя симпатичными, но довольно бестолковыми монахами, которых ему пожертвовал наместник Свято-Троицкого монастыря архимандрит Нафанаил, поскольку хороших, дельных, духовных людей ему было жалко отдавать: «Исполнительные монахи нам и самим нужны!»
Даже поселить этих двух бедолаг было негде: лаврищевцы заперли церковный домик и наотрез отказались пустить туда, как они выражались, «красных наймитов», «полицейских псов Московской Патриархии». И что? Филипп повез их к себе домой, где он когда-то жил с матерью и отчимом.
Мать умерла, а отчим здравствовал. Он был известный сценарист, запойный пьяница и земляк всех кубанских казаков, которые, особенно в последнее время, постоянно втягивали его в свои акции, вытаскивали на свои сходки, а нередко и сами сходились у него «на разговор» и «на ночлег». Филипповых монахов он принял с распростертыми объятьями, несмотря на то, что у него гостили уже двое «станичников»: румяный добрый молодец и железнозубый казачий атаман – оба в казачьей униформе и при холодном оружии.
Но беда была не в том, что монахи претерпевали какое-то стеснение, живя вместо монастыря на квартире, и не в том, что они не могли найти общий язык с казаками, а в том, что они слишком даже поспешно его отыскали, и пока Филипп мотался по городу – от отца Петра к епископу, от епископа – к благочинному, в доме лилась горилка, а будущие насельники Рождественского монастыря, все более увлекаясь застольным благовествованием среди станичных неофитов и представителя упертой московской интеллигенции, каковым являлся Филиппов отчим, как-то почти незаметно приобщились к общей трапезе. Напрасно Филипп разводил их по разным комнатам и вкладывал в руки своих монахов Псалтирь, напрасно посылал их молиться по московским храмам, – к вечеру он заставал всю честную компанию за столом, да и еще и ряженой: на добром молодце был подрясник, на одном из монахов – казачий мундир, другой сидел и вовсе с голым торсом, перехваченным крест-накрест монашеским параманом, отчим красовался в бухарском халате и тюбетейке, и только железнозубый атаман пировал в несвежей тельняшке. Привозная горилка у них закончилась, и они пили простую «Смирновскую» из киоска.
Филипп ужасно страдал. Он чувствовал, что его наместнический авторитет рассыпается в прах: мало того, что он завез монахов к этому безумцу в бухарском халате с его землячками, мало того, что он целую неделю не мог попасть в свой монастырь, его теперь при всех – при казаках и его собственных послушниках – называют «мальцом», «охламоном» и «Федькой»!
– Бывай, малец, – приветствовал его отчим, сгребая в охапку и целуя пьяными родительскими губами. – Ишь, в монахи пошел, охламонище Федька!
– Полно тебе, Василий Васильевич, – отстранялся от него Филипп. – Смотри, и сам напился, и казаков своих, и монахов напоил! Змей ты искуситель! А сам все о спасении России кричишь.
– Врешь, Федька! – кричал на него с пьяным пафосом отчим. – Ты только Россию не трожь, сынок. Думаешь, рясу-то черную на себя надел, от мира отгородился и теперь вроде судии на нас покрикивать право имеешь?
Казаки загалдели.
– От мира отрекся, теперь уж нам не мешай! – гневно зарычал атаман.
– Все спасение России – от казаков, – важно заявил добрый молодец. – Старец один сказал.
– Какое от вас спасение! – возопил Филипп, – Пьете – не просыхаете да словно ряженые митингуете, вместо того, чтоб...
– Ты казаков моих не трожь, – взъярился Василий Васильевич, – твое дело – молитва, наше дело – битва, вот как. Гусь свинье – не товарищ.
– Ну это как понимать, – встрял вдруг один из монахов, – вы воюете, мы молимся, так? Но молясь, мы воюем, а вы воюя молитесь. Вот ведь как. Воинство Христово.
– На кого ты похож? – напустился на него Филипп. – Не монах, а чучело. Ну-ка, надеть подрясник! Он молитвами преподобных освящен, он мученической кровью залит, а ты его кому ни попадя отдаешь! А тебе, Василий Васильевич, – он вдруг понизил голос и сказал это почти шепотом, но очень твердо, – я тебе не Федька, а иеромонах Филипп, отец Филипп, понял? – А вам, олухи, убрать со стола, – скомандовал он казакам. – Один моет, другой чистит, один вытирает, другой подметает. И чтоб в доме было чисто через пятнадцать минут. Потому что через двадцать мы все будем молиться.
И действительно. Поставил их на молитву, а Василий Васильевич так даже опустился на колени, уперся лбом в пол да так и не поднимался до последнего «аминь».
Но так не могло больше продолжаться. Стремительно приближалось Рождество, монастырский храмовый праздник. На Рождественский сочельник собирался нагрянуть наместник Свято-Троицкого монастыря архимандрит Нафанаил, да еще и предупреждал, что с ним может пожаловать и его епархиальный архиерей Варнава, а у отца Филиппа не было ни доступа к своему храму, ни ключа от церковного домика. Напрасно он пытался связаться с отцом Петром, – тот отвечал презрительным молчанием. Напрасно апеллировал к его ближайшему помощнику господину Векселеву, которого так и хотелось назвать за мрачное сходство Урфином Джюсом, тот вздыхал и, закатив к небу глаза, заявлял:
– Сами мы храм Божий не покинем, вы нас можете только расстрелять на месте.
Около него всегда оказывалась кучка лаврищевцев, которые скорбно вторили:
– Только жандармами можете нас разогнать, только сгноить по тюрьмам.
Напрасно он уговаривал, стыдил, едва не подкупал церковного сторожа – он наталкивался на гремучую ядовитую презрительную немоту. Напрасно теребил канцелярию Московской Патриархии. Напрасно пробивался к Святейшему, его викарный епископ только руками разводил:
– Ну что я могу сделать? Я собственноручно отдал указ отцу Петру, так что действуйте самостоятельно.
Напрасно Филипп будоражил благочинного, пожилого маститого протоиерея, тот все советовал ему все «спустить на тормозах», но Филипп не мог понять, каким образом ему можно тормозить, если дело вообще не движется? В конце концов, отчаявшись и услышав от него очередное «спустить на тормозах», он даже фактически выкрал сановитого старика: заманил к себе в машину и повез на правах пленника к Рождественскому монастырю. Подвел к церковному домику, позвонил в звонок.
– Ладно уж с этим домиком, – говорил он, – нам бы сейчас хоть ключи от храма получить... Свято-Троицкий наместник приезжает сюда служить литургию. Не ломать же нам двери храма!
– Боже упаси! – ужаснулся благочинный. – Какой же это будет соблазн для людей! Да и потом тебя, голубчик, могут просто за это в милицию сдать. Навесят какую-нибудь пропажу... Как докажешь, что ты никакого золота с бриллиантами у них не брал? Уж пожалуйста, Лаврищеву такой подарок не делай!
Меж тем никто им не открывал. Отец Филипп вновь позвонил, потом стал стучать. Наконец из-за дверей кто-то спросил:
– Вам чего?
– С кем разговариваю? – властно спросил благочинный.
– А сам кто такой? – послышалось из-за дверей.
– Я – благочинный! Откройте! Вы не имеете права меня не впускать.
– А мне настоятель запретил.
– А я тебе приказываю: открой.
– А настоятель не благословил.
– А где отец Петр?
– А его нет.
– Дайте его телефон.
– У него нет телефона.
– А когда он будет?
– Не знаю...
Вот и поговорили.
И благочинный ушел ни с чем.
– Вот что, – сказал наконец старик. – Я бы сделал так. Это не значит, что я тебе советую сделать то же. Я знаю, они тут служат только в субботу и в воскресенье. Советую тебе дождаться, когда они будут служить и откроют храм, потом потихоньку туда проникнуть, затесавшись между прихожанами, и как-нибудь незаметненько в нем затаиться: ну поищи где – за панихидным столиком, может, или где-нибудь в ризнице между облачениями... И подождать, когда они все уйдут и запрут храм. Тогда выйти из убежища, приковать себя к батарее, а твои люди пусть и сообщат им, что ты остался внутри. Без милиции они тебя никак уж оттуда не вытащат. А твои люди получат право доступа в храм: тебя же надо кормить, поить... А если милицию вызовут – так ты чист. С одной стороны, – никаких при тебе храмовых ценностей: нечего им на тебя списать. А указ Патриарха у тебя на руках. Там черным по белому написано, что ты назначаешься наместником Рождественского монастыря, а священнику Лаврищеву предписывается передать тебе ключ от храма. Вот пусть при милиции и передаст.
Филипп был потрясен:
– Ну, отец благочинный, где вы, откуда, в каком крутейшем триллере все это вычитали! Какой Макиавелли вас научил? Какой граф Монте-Кристо?
Старик весело засмеялся – даже слезы выступили у него на глазах:
– Ну ты, Филипп, даешь! Ведь угадал! Ведь и в самом деле я это давно уже в каком-то фильме высмотрел. И, видишь, запомнил. Там один какой-то политический борец приковал себя наручниками к батарее и так сидел, пока своего не добился. Никто не мог с ним ничего поделать.
Ну и отвез его Филипп обратно. Напоследок благочинный не выдержал и сказал ему:
– А лучше – спусти-ка ты все это на тормозах...
Но Филипп решил все же послушаться того, первого совета. А что, можно сказать, что так благословил его наставник. Во всяком случае, подал идею. Он срочно добыл наручники: благо его отчим когда-то написал сценарий про милиционеров, и фильм этот в милицейской среде просто прогремел. Отчиму дали даже некий почетный милицейский орден. И знакомых у него среди милицейских начальников было без числа. С некоторыми он даже ходил в баню и выпивал. И вот через кого-то из них достались Филиппу списанные наручники.
– Только если это для спасения России, – высокопарно произнес отчим, передавая ему железки.
Филипп научился ими пользоваться и решил, что когда он проникнет с ними в храм, то ключ от них предварительно оставит – нет, не одному из своих монахов, – во-первых, в глазах милиции их московский статус был весьма неопределенным, а во-вторых, они могли этот ключ попросту потерять, при первом же окрике передать лаврищевцам или попросту зазеваться и забыть, что, собственно, им надо сделать, но и не отчиму, который мог запросто покрыть лаврищевцев нецензурным словцом, а мне! Мне! Это я должна была поднять шум, заявить о запертом в храме наместнике, в случае нужды вызвать милицию, потом войти с ней к прикованному отцу Филиппу и, когда все будет улажено, его освободить. Ну почему именно я? Мне духовный отец запретил даже общаться с Филиппом, не то что участвовать в его акциях! Этого я, конечно, не могла ему сказать. Потому что это бы наверняка раздуло между ними новое пламя вражды, а я-то как раз надеялась именно что «спустить все на тормозах».
– Ну почему именно я? Я что-нибудь перепутаю! Потом они же меня знают... Я же была у них на агапе. Наверное, они и так считают меня шпионкой! – причитала я.
– А потому, – объяснял Филипп, – что кроме тебя, некому. Во-первых, ты сможешь беспрепятственно войти в лаврищевский храм – думаешь, они всех пускают? Как бы не так. А у тебя вид самый что ни есть реформаторский и прогрессивный. Кроме того – ты даже на агапе у них была. И потом – почему это ты шпионка? Может, ты просто обдумываешь то, что видела, готовишься стать их курсисткой, присматриваешься, смиряешься. Ты и последняя можешь выйти после службы, не вызывая подозрений. Ну, замешкаешься, разглядывая фрески... Во-вторых, у тебя в порядке документы. Это на случай милиции. А в-третьих, ты ведь не станешь им, в случае чего, бить морду или грязно ругаться? Ну вот и получается, что кроме тебя на это дело никого нет подходящего. Пойми – я в далеком Троицком монастыре пятнадцать лет провел, в Москве не появлялся, у меня здесь никого нет!..
Итак, он решил отдать мне этот ключ, чтобы не оставлять его при себе. Почему-то он не исключал возможности, что лаврищевцы, найдя его прикрученным к батарее, не преминут обыскать своего добровольного узника.
Но недаром эти наручники были уже списанные: Филипп решил мне их продемонстрировать и – хлоп! – защелкнул мое запястье, пристегнув его при этом к своей руке. Капкан славно клацнул. А вот ключ – барахлил: сколько мы его ни крутили, тупо проворачивался в замке. Так мы и сидели, скованные, с довольно глупым видом: тоже мне – герои, воины, детективы! – пока не приехал отчим и нас не освободил, смазав замочек каким-то маслом.
Лаврищевцы, однако, перехитрили. То ли каким-то образом подслушали наши разговоры, когда мы с Филиппом на месте выясняли дислокацию, – ну, где именно я буду находиться, наблюдая за тем, как прихожане покидают храм, а сторож его запирает, где расположен ближайший действующий телефон-автомат, по которому я буду вызывать милицию, и так далее, то ли просто Господь избавил своего иеромонаха от поругания и обыска, но назначенная служба, на которую так рассчитывал Филипп, не состоялась. На дверях храма лаврищевцы вывесили табличку: храм закрыт по болезни настоятеля. Сами куда-то поразбежались, оставив объявление: катехизаторские курсы закрыты на каникулы. И даже храмовый сторож как в воду канул. И ничего Филипп не добился. Метался в бессилии между запертым храмом, домом с неприкаянными монахами и Патриархией и – скорбел.
Ах, к этому ли он стремился, этого ли ожидал, собираясь сюда? К такимли скорбям готовился, прощаясь со своим старцем, со своим монастырем? Представлялась ему тогда его будущая смиренная обитель посреди безумной Москвы, куда он собирает братию, готовую отречься от мира ради Христа: чистые, горячие люди, желающие чина ангельского, славословия непрестанного, богословия высочайшего, желания непорочного, жизни вечной, любви неизбывной... Виделись ему длинные богослужения, молитвенные бдения, подвиги, покаянные слезы, смиренное крестоношение, внутреннее художество, глас хлада тонка и проницающий все радостный свет Преображения. Думал он, конечно, – как же без него! – и о враге рода человеческого, всегда желающем вовсе погубить монаха, превратить его в посмешище, в притчу во языцех, в покивание главы в людях!.. Но он никак не предполагал, что этот враг окажется таким уж, ну, что ли, мелким, склочным, невзрачным... Он был готов к смертельной битве с ним, вплоть до кровопролития, ибо – «пролей кровь и получишь дух...» Ему хотелось геройства, даже мученичества. Но именно к этой мелкой и пошлой каверзности врага всех христиан он и не был готов. А собственно, что тот сделал? Всего-навсего устроил так, чтобы Филипп не получил ключей от храма. Вроде бы – тоже мне, дьявольская уловка, тоже мне – скорбь! «Мне бы твои заботы, отец Филипп», – усмехался он самому себе. Но вот-вот приедет под Сочельник наместник Свято-Троицкого монастыря с диаконом Дионисием и келейником, еще – слава Богу, не приведи Господь – архиерей с ними пожалует, – что, спрашивается, Филиппу теперь с ними делать, куда их деть? Где с ними престольный праздник служить? А из-за чего? Из-за того, что Филипп не смог свой собственный, порученный ему Богом храм открыть! Так и скажет теперь владыке Варнаве и архимандриту Нафанаилу, да что там, самому Патриарху: «А Рождественской службы в Рождественском монастыре не будет! Расходись по домам!»
Так изводил себя Филипп, пока смиренно не возопил к Господу о помощи. И тут узнал он, что владыка Варнава, по милости Божией, все-таки с приездом решил повременить... Воодушевленный, кинулся он туда-сюда – в Патриархию, Даниловский монастырь, наконец, выхлопотал там, в монастырской гостинице, для отца Нафанаила со свитой ни много ни мало архиерейские покои, выпросил облачения, встретил всех на вокзале, объяснил, что его церковный домик еще не готов к приему гостей, привез в Даниловский, широким жестом пригласил:
– Располагайтесь!
Тут же отец Нафанаил получил изрядную порцию приятных чувств – встретил там знакомого архиерея, а тот ему:
– Владыка, благослови!
А отец Нафанаил:
– Что вы, я всего лишь навсего архимандрит...
А архиерей в ответ:
– А я имею в виду – владыка без пяти, нет, без двух минут...
И как только отец Нафанаил все это пересказал, да еще и откомментировал, посмеиваясь, да еще похвалил сервировку и трапезу, бросив келейнику: «Необходимо взять это на вооружение – как и что, мы так же все заведем и у нас в обители», тут-то Филипп и выложил, как бы между прочим, что служить им, как видно, придется на сей раз не в храме, а во дворе...
– На каком дворе? – насторожился Нафанаил. – Зачем на дворе?
Но Филипп только улыбнулся, не выдавая волнения, и махнул рукой, словно имея в виду что-то забавное и незначительное:
– Да отец Петр Лаврищев у нас что-то чудит!
– А священноначалие что?
– Спускает на тормозах, – бодро пояснил он.
Против этого отец Нафанаил возражать не стал, как бы это ни казалось ему своеобразным.
К тому же, когда вечером Филипп привез их в Рождественский монастырь, первый, кого увидел там отец архимандрит, был благолепный московский благочинный, лицо которого будто бы и не выражало никакого особенного смятения, и тогда он решил, что, может быть, именно так у них все тут намечено, запланировано, и просто надо служить на морозе – и все.
Но он просто не знал, что отец благочинный оказался здесь по чистой случайности – ну вроде того, что у него у самого монастыря то ли спустило колесо, то ли прорвало радиатор. И, собственно, он зашел в монастырь лишь для того, чтобы Филипп (или, хорошо, Лаврищев) ему помог. И поначалу, когда он понял, что происходит и как именно здесь собираются служить, а священники и иеродиакон на его глазах стали облачаться прямо на улице, то, конечно, чуть ли не стал ловить ледяной воздух открытым ртом. Однако вид невозмутимого и даже степенного наместника Свято-Троицкого монастыря внушил ему некое подобие спокойствия. «Будь что будет», – решил он. К тому же Филиппов отчим пригнал своих ремонтеров, и они как раз к концу службы починили машину.
Служили же вечерню с утреней. Получилось, что называется, «поскору», поскольку был как-никак лютый мороз, однако хор не подкачал – регентовал тот самый бывший послушник, который пел когда-то у отца Ерма византийские литургии, а потом ушел из монастыря «из-за бабы»... И потом отец Нафанаил (между прочим, простуженный), когда Филипп его вместе с келейником и Дионисием доставил в гостиницу и договорился об ужине, и все они уже сели за стол, вдруг – спаси его Господи – произнес: «А молитва была такой, что холода и не почувствовали».
И вот по православной Москве мгновенно пронесся слух, что общинники отца Лаврищева не пустили законного наместника с братией служить в Рождественском монастыре, служба проходила на двадцатиградусном морозе, и теперь нужно поддержать иеромонаха Филиппа... А Василий Васильевич понял этот так, что «наших бьют»: он поднял молодца с атаманом, отослал их к здешнему казачьему же атаману в Павлов Посад и вообще призвал их «кинуть клич». И они его кинули так, что уже к вечеру на следующий день во дворе Рождественского монастыря, к ужасу Филиппа, раскинулся чуть ли не целый казачий гарнизон, готовый в любую минуту ни много ни мало идти на штурм.
К счастью, храм был уже открыт – Рождественскую службу Лаврищев все-таки решил послужить. В алтаре уже хозяйничал Векселев, лаврищевцы заполняли храм, раскладывая стульчики рыболова, баулы с закуской для ночного разговленья, распространявшие соблазнительный запах, и даже надувные матрасы. Постепенно собирались и всегдашние паломники Свято-Троицкого монастыря, прослышавшие, что здесь открывается его московское подворье.
Патриарх, по свежим следам узнавший о богослужении на морозе, передал иеромонаху Филиппу свое благословение соблюдать «дух мирен» и отныне по большим праздникам и по воскресеньям служить вместе с отцом Петром, а в будни – по очереди, кто когда пожелает. И так – до тех пор, пока Лаврищев не найдет возможным окончательно перебраться в Введенскую церковь. А инцидент с богослужением под морозным небом он советовал замолчать, как бы его и не было. Чтобы не возник соблазн среди православных. Чтобы не было озлобления одних против других.
И Филипп подошел к казачьему атаману, поблагодарил его за поддержку, но сказал, что все уже уладилось и в его помощи нет никакой необходимости: пусть его ребята отправляются по домам, а ночью приходят помолиться в любую православную церковь. Казаки стали расходиться, но человек пятнадцать все же остались. Они стояли группками и никуда не собирались уходить. Отчим сказал:
– Зачем ребят обижаешь! Видишь – болеют они всей душой. Помолиться к тебе пришли.
Филипп смягчился:
– Раз помолиться, то пусть.
– Готовы за веру православную пострадать! – сказал один из них.
Филипп испугался:
– Только не здесь и не сейчас. Всему свое время. Время молиться и время умирать. Пока что первое у нас время. Может, когда-нибудь потом и второе настанет. А пока первое, первое.
С одиннадцати часов народ так и повалил – и лаврищевцы, и Свято-Троицкие паломники, и просто – ничего не ведавшие о конфликте православные. То и дело между ними происходили стычки:
– Зачем вы пришли нам сюда мешать? Это наш храм. Уходите к себе. Мало, что ли, вам храмов? – обиженно тянули лаврищевцы. Они были похожи на обиженных детей: зачем вы пришли в наш двор! Они стояли сплоченно, и решимость была написана у них в глазах.
А «чужаки» были разобщены. Многие и не очень-то понимали, что здесь происходит. Кто-то из них спрашивал:
– А что – нельзя? Это вообще-то православный храм?
Особенно доставалось казакам. Им в лицо кидали и «ряженых», и «фашистскую свору», и «оккупантов».
Позже, когда служба уже закончилась, Филипп порасспросил своих прихожан, что там творилось в храме и вокруг него. И решил, что казакам можно поставить твердую четверку с минусом. Минус – за то, что почти всю службу скопом простояли на улице – кружком у дверей и вряд ли даже что-то толком слышали, что происходило в храме. Но о том, что они кого-нибудь толкнули или оскорбили, – таких сведений не было у него.
Они, эти сведения, однако, были у лаврищевцев. И через несколько дней приверженцы отца Петра дали оглушительный залп по иеромонаху. Сразу в четырех или пяти газетах появились статьи «Рождество с нагайками», «Черная сотня иеромонаха Филиппа» и даже «Поп – толоконный лоб». Последняя была написана сразу двумя людьми, мужчиной и женщиной, в соавторстве. Это были некие Сундуковы. И я спросила у Анны Стрельбицкой:
– Помнишь, там, на агапе, были журналисты – муж и жена. Как ты думаешь, это не они?
– Если Сундуковы, то это точно они. Не в бровь, а в глаз. Сундуковы и есть.
А еще через день – вышла еще одна их статья со зловещим названием «Пастырь убил чужую овцу». Там говорилось о том, что после Рождественской службы по приказу черносотенного казачьего иеромонаха Филиппа была зверски убита в своем подъезде прихожанка отца Петра Лаврищева. Таким образом, говорилось дальше, иеромонах собирается постепенно извести всю паству соперника.
Филипп перепугался, устроил переполох в редакции, пытаясь узнать фамилию этой новопреставленной убиенной, поскольку в статье она была безымянной: так, некая прихожанка. Ворвался даже к главному редактору. Тот вызвал сотрудников. Наконец, нехотя они сказали: «Кажется, ее фамилия была вроде как Кошкина». Филипп помчался в милицию, но там ему отказались давать какие-либо сведения. Он переполошил отчима. В конце концов, выяснилось, что эту несчастную Кошкину действительно убили и действительно в подъезде, однако это произошло не в рождественскую ночь, а шестью неделями раньше, когда Филипп еще прощался со Свято-Троицким монастырем. Причем убийцу ее сразу и нашли по горячим следам. Им оказался какой-то серийный маньяк. Собственно, после ее убийства его сразу и поймали.
Филипп облегченно вздохнул, вернулся к главному редактору, положил перед ним милицейское свидетельство, потребовал, чтобы дали опровержение. Тот махнул рукой: да может, в этой статье речь шла не о Кошкиной, а о другой... Впрочем, если угодно, Филипп может подать на газету в суд.
Меж тем все же дело с монастырем хоть как-то сдвинулось: все-таки Филипп получил возможность служить литургию, исповедовать, собирать вокруг себя паству. Да и отец благочинный наконец добился, чтобы лаврищевцы отдали подворью хотя бы малую часть двухэтажного церковного домика. Они и отдали половину второго этажа: три небольшие комнатки. И отец Филипп перебрался туда со своими монахами. В одной поселил монахов, в другой сделал кухню, а третью предназначил для служащего священника, каковым мог быть или он сам или какой-нибудь иеромонах, приехавший в Москву из Свято-Троицкого монастыря. Худо-бедно, но жизнь стала налаживаться. Однако это было чревато новыми испытаниями.
Во-первых, как только он выходил из своих подворских апартаментов, он тут же попадал в поле действия кинокамеры, и каждый его шаг фиксировался лаврищевцами на кинопленку. Во-вторых, только он раскрывал рот, чтобы сказать что-нибудь своим соседям по подворью, как они тут же включали магнитофон и говорили: «Так-так, все будет запротоколировано». В-третьих, к нему в церковном дворе постоянно подходили какие-то лаврищевки, которые то гневно, то с мольбой восклицали:
– Зачем вы хотите выгнать нас на улицу?
То вдруг к нему подскакивала какая-нибудь экзальтированная дама из лаврищевцев и, заламывая руки, взывала к нему:
– Попросите ваших казаков, чтобы они больше не убивали наших прихожан!
А то как из-под земли вырастал пред ним лысый старичок и слезно умолял:
– Не гоните на улицу хотя бы наших деточек! Бог вам этого не простит!
Под деточками, очевидно, он имел в виду слушателей катехизаторских курсов, которые теперь почему-то забросили свой Введенский храм и собирались исключительно в Рождественском церковном домике. Всегда можно было видеть в окне то лысину Векселева, то аккуратно подстриженную голову самого отца Петра. Однако никаких детей там не было и в помине: Лаврищев придерживался теории, по которой святое крещение может принять только взрослый, сознательный, прошедший его курсы человек. А ребенок из этих курсов ничего не поймет, и благодать пройдет мимо. Расплещется. Нет, только прошедший курсы мог считаться полным членом Церкви. А тот, кто еще их не прошел, – профан. Поэтому получалось, что даже Патриарх, по его версии, и тот, коль скоро не был лаврищевцем, не являлся пока еще полным членом Церкви.
Но особенно Филиппа уязвляла одна общинница – особо приближенная к отцу Петру, нечто вроде его секретарши, уже пожилая, седовласая Зоя Олеговна, которая, делая сострадательное, даже как бы плачущее лицо, встречала его словами:
– Бедненький, бледненький, как устал-то, как нервишки пошаливают! Небось и самому не хочется в такую грязную историю впутываться, а князья Церкви приказывают! А у тебя совесть возражает, а они настаивают. Отсюда и раздвоение. Отсюда и невроз, и шизофрения может быть. Я – заслуженный врач-психиатр, эксперт высшей категории – сразу это вижу. Тебе лечиться надо. Отдыхать побольше, а то может начаться психоз, неадекватные реакции, галлюцинации, голоса...
Благословил ее отец Петр засесть в алтаре с толстой тетрадью, и пока Филипп служил литургию, она все пристально вглядывалась в его лицо и потом что-то старательно так записывала. В конце концов он властно приказал ей покинуть алтарь.
– Ну вот, – сочувственно покачала она головой, – уже немотивированный гнев, так и навязчивые состояния могут появиться, и суицидные мотивы... Отца Александра Меня, наверное, тоже кто-нибудь убил из таких, как ты.
А кроме нее – Филиппа уж очень искушал Векселев. Выяснилось, что он, будучи мирянином, при отце Петре всегда потреблял Святые Дары. Филиппу он объяснил это так – у отца Петра нет диакона, который бы это совершал, а сам батюшка болен диабетом и ему нельзя столько сладкого. Поэтому он и решил взять эту обязанность на себя. Филипп был поражен такой дерзостью – ведь потребление Святых Даров после причастия символизирует погребение Христа, и совершать это дозволяется только человеку, облеченному священным саном. А кроме того, он был смущен, что диабетик отец Петр Лаврищев видел в евхаристических Крови и Теле Христовых лишь хлеб и вино, угрожавшие его организму повышением сахара. Поэтому он своей властью просто запретил Векселеву прикасаться к Чаше, и тот ему недвусмысленно заметил:
– Какой же вы все-таки конфликтный человек! На все реагируете истерически! Нарываетесь на неприятности... А не замечаете, что ведь они и сами уже сдавили вас плотным кольцом!
В конце концов Филипп предложил отцу Петру разделиться, чтобы больше никогда не служить вместе, а только по очереди. Если служит отец Филипп, то чтобы ни Зои Олеговны, ни Векселева и духу в алтаре не было. А если служит отец Петр, то Филипп молится где-то на стороне. Так и договорились. Но как быть с воскресеньями, с большими церковными праздниками? Какая здесь может быть очередность...
Надо сказать, что келья отца Петра находилась не в церковном домике, а прямо в храме. Просто был отгорожен кусок алтаря, и он там жил. Эта перегородка осталась после мастерской художников, которая помещалась здесь до открытия храма. И отец Петр ее не стал сносить.
И вот как-то раз служит отец Филипп литургию, молится и вдруг отчетливо слышит странные звуки: тр-р, тр-р! Как бы труба какая-то гудит. Во время самой эпиклезы, когда он стоит перед престолом, раскрытый Господу и предающий Ему свою душу, призывая Святого Духа, вновь слышит это: тр-р, тр-р!..
Сразу после Евхаристии он стал исследовать, откуда шли эти смущающие сердце звуки. И тогда решил войти к отцу Петру в келью. Войдя же, сразу понял, что в ней имеется некий отсек. Кладовка что ли, стенной шкаф.
– Что вам угодно? – спросил отец Петр. – Почему вы входите без стука?
Но Филипп отстранил его рукой, распахнул дверь и увидел там унитаз. Журчала вода, наполняя бачок.
– Отец Петр, – потрясенно воскликнул Филипп. – Это же уборная!
– Ну да, – невозмутимо ответил тот.
– Да ведь здесь же был алтарь, здесь стоял престол...
– Ну, когда-то стоял, а потом перестал стоять, – раздраженно ответил Лаврищев.








