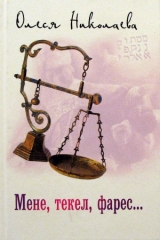
Текст книги "Мене, текел, фарес"
Автор книги: Олеся Николаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– Церковь всегда новий, потому что в нем дышит живой благодать, он – живой организм, которий растет, но это не то, что у него вдруг прибавляется новий – третий – ног или ух.
Когда он уходил в Рождественский монастырь и надолго там оставался, мы по нему скучали.
По-видимому, он там тоже оказывался меж двух огней: как же, приехал по приглашению отца Петра, а помогает отцу Филиппу, но, кажется, не ощущал по этому поводу никакого смущения и, когда он заговаривал об этой странной ситуации, лицо его оставалось ясным и простодушным, и только изредка по губам пробегала улыбка, словно кое-что в своем двусмысленном положении он находил забавным. Может быть, он не все понимал, что творилось между двумя его русскими наставниками, не ощущал всей остроты конфликта и всего накала страстей. Но, скорее всего, он был просто смиренный человек, пытавшийся принять благодушно все испытания, которые встречались на его монашеском пути, и благословить Того, Кто его по этому пути вел, всецело доверяя Его милосердию...
Меж тем начался Великий пост, и Габриэль не выходил из монастыря с раннего утра до глубокой ночи. Но на Торжество Православия он попросил отца Филиппа отпустить его на литургию в Богоявленский собор: там собирался служить сам Патриарх.
Да и мне хотелось попасть туда – именно там, раз в год, на Торжество Православия, на патриаршем богослужении возвышенно и властно возглашалась анафема всем еретикам. Душа, трепеща, обмирала, когда хор приглушенно и протяжно трижды повторял за архиереем: «Анафема, анафема, анафема».
– Пусть пойдет, – сказал мне отец Филипп, – ему это будет полезно, а кроме того – пусть постарается показаться на глаза Святейшему. Переведи ему – если Патриарх вдруг спросит, как ему в нашем монастыре, пусть не стесняется, отвечает, что Лаврищев все еще здесь и, кажется, не собирается никуда перебираться. Впрочем, я и забыл, что он по-русски почти и не говорит. Когда он мне помогает, я этого порой и не чувствую – есть у нас какое-то внутреннее понимание, взаимный отклик, диалог...
Патриаршее богослужение начиналось на полчаса часа раньше воскресной литургии у отца Филиппа. И, проезжая мимо Рождественского монастыря, мы наблюдали там тишь да безлюдье.
Служба на Торжество Православия действительно была торжеством, утверждающим великую власть Церкви. Когда она подошла к концу, Габриэль вздохнул:
– Как я хотит получить мой причастий!
Наконец, Святейший вышел с крестом, и Габриэль радостно устремился к нему. Тот узнал его, заулыбался, закивал, благословил, даже о чем-то спросил, и Габриэль, как я слышала, ответил, сильно грассируя:
– Рождественский монастырь.
Патриарх снова одобрительно кивнул и сказал уже громко:
– Скоро будем присоединять вас к Православию. Готовьтесь!
Габриэль это понял и благодарно поклонился.
– Я чувствует в себе рождений новий человек! – сказал он мне, блеснув слезой.
На радостях мы по дороге заехали во французское кафе и выпили по большой чашке настоящего кофе. Блаженные, отправились домой.
– Православие имеет огромний благодать! – сказал Габриэль, когда вдали показался купол Рождественского храма. – Нигде больше нет такой. Ни католик, ни униат...
И тут, поравнявшись с Рождественским монастырем, мы вдруг увидели, что весь его двор, все пространство перед храмом было заполонено клубящейся взбудораженной толпой. Она ходила ходуном, жестикулировала, а из самой ее гущи выглядывала огромная карета скорой помощи. Я резко затормозила и остановилась возле самого въезда в монастырский двор.
Честно говоря, у меня мелькнула смутная шальная мысль насчет казачков – вдруг они пришли наводить порядок и наподдали кому-нибудь по первое число...
– Посиди здесь, – попросила я Габриэля, – а я пойду узнаю, что случилось. Может, там какой-нибудь прихожанке стало плохо, и тогда ее сейчас увезут на скорой, а мы поедем заниматься русским. Во всяком случае, надо узнать. Даже мотор глушить не буду!
Первое, что я услышала, смешавшись с толпой, было:
– Душегубы! Убийцы!
Внутри все екнуло, и я, работая локтями, смогла протиснуться на несколько человеческих корпусов вперед. Далее до меня донеслось:
– Так он больной же! Невменяемый! Бился об стены, по полу катался, кусался, все в окно норовил выскочить! Госпитализация же для него – благо!
И опять:
– Злодеи! Христопродавцы!
– Что случилось? – спросила я у двух женщин интеллигентного вида, в дубленках.
– Поднявший меч от меча и погибнет! – с расстановкой произнесла одна.
– Поднявший меч на наш союз, – многозначительно подтвердила другая.
Я протиснулась между ними и распахнула дверь скорой: седой водитель курил и слушал Элвиса Пресли: «You are looking for trouble? You came to the right place...»
– Вы за кем приехали? Что за повод – драка или болезнь?
Он лениво посмотрел на меня:
– Да попик какой-то рехнулся. Повезем сейчас мозги вправлять... Опиум для народа.
И он захлопнул дверь.
– Что происходит? – закричала я, схватив за лацкан пальто какого-то коренастого дядьку.
– Еще одна психическая! – пробовал отбиваться он. – Каков поп – таков и приход!
– Они отца Филиппа заперли в алтаре и бьют, – заплакала рядом девушка в цветастом платке. – А мы в алтарь-то не можем! Психовозку вот подогнали. Масоны!
Я кинулась в храм, но все было забито народом, все толкались, пихались, но это были какие-то местные мелкие стычки, казаков не было, я ввинчивалась между телами и делала определенные успехи – до двери оставалось уже несколько шагов, как вдруг толпа ухнула, повалилась в одну сторону, и поверх голов я увидела, как несколько алтарников в церковных облачениях волокут, по-видимому, из боковых дверей, моего друга. Двое держали его под руки, третий толкал в спину. Следом двигался Урфин Джюс. Лицо Филиппа было изуродовано кровоподтеком – на скуле багровела огромная ссадина, волосы едва ли не стояли дыбом. Казалось, именно так человека ведут убивать! Он пробовал сопротивляться, но хватка дюжих лаврищевцев была железной. За ними, сохраняя даже некое подобие величественности, шел сам Лаврищев, поднимая кверху ладони, видимо, пытаясь успокоить людей. Завершали это ужасное шествие Зоя Олеговна, врач в белом халате и еще двое, кажется, санитары.
Там, где я стояла, началась настоящая куча мала, ибо толпу сдвигали в стороны, открывая проход обреченному узнику, облепленному конвоирами. Я оказалась в ловушке – между мной и отцом Филиппом образовалась толща людей, через которую было не пробиться, не докричаться. Я видела, как процессия приблизилась к психовозке, обошла ее с тыла, и больше мне не было видно ничего. Я решила пойти на хитрость и сделала крюк, устремляясь не к эпицентру происходящего, а напротив – туда, откуда события уже безвозвратно переместились, и это мне куда лучше удалось, – я оказалась у дверей храма, пересекла его наискосок и вышла в те самые боковые двери, откуда только что вывели пленника. У этих дверей было почти свободно, там довольно вольготно стоял, скрестив на груди руки, Гриша и удовлетворенно следил за исходом. Я хотела ему что-то сказать и тут увидела, как психовозка, не имея возможности развернуться в церковном дворе, дает задний ход, увозя в своем чреве несчастного наместника Рождественского монастыря. Я было кинулась за ней, но толпа опять сомкнулась, и психовозка почему-то вдруг остановилась и принялась неистово гудеть. Мне был виден лишь ее плоский нос. Она врубила сирену, но не сдвинулась с места. Толпа колыхнулась, и мне удалось продвинуться на несколько шагов. Добравшись до угла, я увидела, что психовозка стоит, потому что выезд ей перегородила моя машина. За рулем сидел Габриэль, и даже издалека можно было видеть его огромные, какие-то треугольные испуганные глаза. К машине уже стягивалась целая фаланга лаврищевцев во главе с Урфином, мельтешил журналист Сундуков с видеокамерой. Все они что-то кричали Габриэлю, выразительно стучали себе по головам и подкручивали у виска, жестами показывая, чтобы он отъехал. Потом облепили машину со всех сторон, дружно поднатужились и перенесли ее на руках туда, где я ее и оставила поначалу. Психовозка дернулась с места и, не выключая сирены, покинула монастырский дворик. Габриэль рванул за ней. Моя машина скрылась из глаз вместе с французом.
Пока я провожала их взглядом, соображая, что делать дальше, все – и отец Петр, и Урфин Джюс, и даже Гриша – куда-то пропали. Мало того, нигде не было видно и монахов отца Филиппа. В толпе еще бурлили страсти, но, по-видимому, лаврищевцев было в ней куда больше, чем прихожан отца Филиппа, то и дело слышалось: «Поделом!», «Бесноватый!», «Так он просто больной человек! Его пожалеть надо! А там его подлечат, так что пусть спасибо скажет!», «Господи, и это ему хотели отдать наш храм!». Я пробралась к церковному дому, вошла и позвонила на половину отца Петра. Мне открыл радостный, возбужденный Гриша.
Видимо, у меня было такое лицо, что он тут же отступил в сторону, давая мне пройти.
– Отец Петр – где?
– Кушает.
В коридор выходили три двери. Я распахнула первую, вторую. Он был в третьей. Сидел с Урфином и хлебал суп. Гриша рванулся за мной, пытаясь удержать, схватил за длинный шарф:
– Так он же больной! Шизофрения. Дебют, – зашелся он в истерике.
Получилось ужасно бестактно то, как я ответила ему. Но я вовсе не хотела уязвить его за словесную немощь, вышла какая-то игра подсознательного:
– Даже и не заикайся об этом!
– В чем дело? – отец Петр поднялся из-за стола, потирая руки так, словно они озябли. – Понимаю, у вас с отцом Филиппом были добрые отношения... Он даже хотел, чтобы вы представляли его сторону на переговорах с нами. И мы согласились. Но – все бывает! Сочувствуем! Диагноз поставил врач. Григорий его только вам повторил: шизофрения, острый дебют.
– Куда вы положили его? – спросила я. И вспомнив, что почти именно так спрашивала Мария Магдалина двух Ангелов у пустого гроба, почти крикнула: – Куда его увезли?
Отец Петр пожал плечами:
– Бог знает... Я не специалист. Но вы не волнуйтесь. Его там подержат недельки две, подлечат, потом, если дело пойдет на поправку, выпишут. Ему нужен покой. Его, знаете ли, очень перегрузили этим неподъемным заданием. Мы соболезнуем. Будем молиться за него. Мы уже сегодня молились, когда это случилось с ним в алтаре.
– Отец Петр вышел к прихожанам и попросил их святых молитв за тяжко болящего иеромонаха Филиппа! – подтвердил Урфин.
– Он вообще последнее время был очень нервный, мнительный, болезненно мнительный, – сказал отец Петр. – Наша Зоя Олеговна первая заметила неладное – она ведь у нас заслуженный психиатр, эксперт высшей категории. У нее с самого начала были кое-какие профессиональные подозрения. И она как врач вела за ним наблюдение. А сегодня случилось обострение. Может быть, оно было спровоцировано этой тяжелой ситуацией – так бы жил он и жил со своей вялотекущей болезнью годы, и никто бы ни о чем не догадывался. Но – перенапрягся, переусердствовал... Вышел причащать с Чашей, к нему мои прихожане стали подходить – он им вопросы задает, разговаривает, помилуйте, какие в этот момент могут быть разговоры? Какие вопросы? – и в результате их не причащает... Ну я вышел, отобрал у него Чашу. Есть же какой-то предел!
– Куда вы его запихнули? Где он, в какой больнице? – еще раз спросила я.
– С ним наша Зоя Олеговна и наши алтарники. О нем позаботятся. Сейчас все узнают и нам сообщат. Мы вам позвоним. Ну а как там наш отец Гавриил? Он ведь у вас живет? Слышали от него о вас только хорошее, – примирительно сказал отец Петр.
– Трудно ему будет, – вздохнул Урфин, – представления его, к сожалению, самые романтические.
– Француз, – как бы давая свое объяснение его романтизму, всплеснул руками отец Петр, – французское легкомыслие: приехать в Россию принимать Православие вот так – с бухты-барахты... Я его предупреждал. Такой ортодоксикоз очень опасен. Не хотите ли с нами супу?
...А отец Гавриил, или, как его все упорно потом называли, Габриэль, гнал в это время за психовозкой. По счастью, было же воскресенье, ни заторов, ни пробок – иначе бы не угнался за любителем Пресли, включившим сирену... Ехали долго, путано, Габриэль перестал ориентироваться – знакомые улицы кончились, все время куда-то сворачивали, переезжали мосты, гнали по одинаковым унылым кварталам, наконец психовозка остановилась перед воротами больницы, они распахнулись, чтобы закрыться перед Габриэлем. Он попробовал пройти на территорию своим ходом, но его не пустили. Языка он не знает, где именно находится, не понимает, телефона поблизости нет. Филиппа он потерял. Помочь ему ничем не смог. Что происходит, он не понимает. Увидел только из окна машины, когда ждал меня у монастыря, эту буйную толпу, которая вдруг расступилась, и к задним дверцам машины алтарники отца Петра приволокли отца Филиппа. Заметил, что на нем были еще поручи, которые он не успел снять после того, как отслужил литургию. Поначалу он подумал – наверное, ему плохо, раз его так тащат, может, сердечный приступ, но сразу понял, что тащат его не как больного, а как заключенного, толкают, пинают, запихивают, он сопротивляется, упрямо поднимает голову, они бьют его головой об край машины, заставляя нагнуть шею и влезть в дверь... Один из его монахов прорвался сквозь толпу, подскочил к психовозке, но – поздно. Двери уже закрылись. Он бухнулся на землю и лег под колеса, не думая о том, что водитель, подавая задом, мог его даже и не заметить. Однако, жилистая рука Урфина ухватила его за шиворот, какой-то детина из толпы взял его за ноги. Отволокли в сторону, передали в другие руки... Путь был открыт...
Габриэль мигом перескочил на водительское сиденье. Мотор был заведен, и он только подал вперед на три метра, перегораживая дорогу... Может быть, надо было выйти из машины и раскидать тех, кто держал Филиппа и за руки, и за ворот? Но он был так потрясен происходившим на его глазах, что все это ему казалось невероятным. Монах, упавший под колеса «скорой», вернул ему трагическое ощущение реальности.
Однако ничего он не добился, примчавшись сюда. Он вылез из машины и попытался объяснить охраннику больницы, что ему надо позвонить:
– Телефонить? – произнес он, делая рукой жест, словно он прижимает трубку к уху.
Тот отрицательно покачал головой. Впрочем, потом вышел из проходной и сделал жест, указывающий, что надо идти вдоль стены. Наверное, где-то там был телефон. Габриэль включил мотор и медленно поехал, выискивая его. Действительно, через двести метров он увидел одинокую телефонную будку. Но звонить по автомату он не умел, да и диск у телефона был вырван с корнем. Он поехал дальше и дальше, и, в конце концов, сделав круг, вернулся к тем же воротам. У него были часы – простые недорогие наручные часы, он снял их и постучал в будку.
Охранник выглянул, и Габриэль предложил:
– Я – телефонить, ты – получить сувенир.
Охранник оглянулся по сторонам, взял часы и позволил ему сделать звонок. Габриэль набрал наш номер и сказал:
– Филипп в четирнадцать больниц.
Мой муж, который ничего и знать не знал, засмеялся и спросил:
– Сколько-сколько больниц?
Меж тем я вернулась домой, и message Габриэля был расшифрован.
Надо было решить, стоило ли мне немедленно хватать такси и мчаться в эту, неизвестно где расположенную больницу... Я рванулась было позвонить Филиппову отчиму, а потом вспомнила – Миша-псих! Вот он, золотой ключик!
Да, был у меня друг детства – Миша-псих, врач-психиатр, который настолько преуспел в своей шаткой науке, что сделался каким-то огромным светилом на психиатрическом небосклоне. Между прочим, он совершенно не обижался на свою кличку, списывая это на эксцентричность своей натуры.
Например, он женился на женщине, которая, как он любил говорить, упала ему на голову. А если учесть, что всех женщин он называл «бабенками», то в его транскрипции это звучало так: «Моя жена – это та бабенка, которая свалилась мне на голову». И это была чистая правда – без всякой фигуральности. Его будущая жена была на какой-то вечеринке и сидела там на подоконнике второго этажа, откуда и вывалилась на улицу – прямо на проходящего Мишу. Так что их знакомство, перешедшее в многолетний счастливый брак, началось с членовредительства, потому что она сломала ему руку, а себе вывихнула ногу. Несмотря на то, что Миша честно пытался поймать эту хорошенькую, но весьма увесистую женщину, когда она падала из окна, и даже от этого сильно пострадал, мать его будущей жены относилась к нему с большим недоверием и скептицизмом, что его очень расстраивало. Он всячески пытался расположить к себе ее холодное сердце и придумывал для нее сюрпризы.
Например, однажды он спрятался за дверь комнаты и, когда она вошла, вылетел на нее с веселым «гав!», заливаясь детским смехом: «Ну что – испугал?» Бедная женщина горько зарыдала, и пришлось ее отпаивать валерианкой и корвалолом.
В другой раз он, сильно расстроенный ее ледяным приемом, вышел на балкон и вдруг увидел там – о, чудо! – цветочки, растущие в ящиках – и анютины глазки, и колокольчики, и левкои, и львиный зев. Залюбовался он такой красотой – дай, думает, подарю их будущей теще, пусть радуется. С удовольствием нарвал букетик, влетел к ней на кухню: «Елена Иванна! Это – вам!» Она сначала обрадовалась, заулыбалась, потом тень сомнения пробежала по ее лицу, она тревожно заметалась по квартире, выскочила на балкон и, увидев свой разоренный садик, залилась горючими слезами. Но все-таки он ее победил. Поехал за границу на конференцию, привез ей шикарную шубу – от души, самого большого размера, чтобы – побольше меха. Жаль только, что Елена Ивановна была такая худенькая и в этой шубе просто утонула – и рукава свисали ниже кистей, и полы волочились по полу. «Ничего, – радостно воскликнул Миша, – будете укрываться ею, как одеялом!» Кроме того, поскольку она очень поддерживала Горбачева с его реформами, он купил ей на рынке, а может, и специально заказал – за дикие деньги – какого-то огромного, в натуральный рост – лакированного картонного Горбачева и поставил посреди ее комнаты. И она как-то смягчилась по отношению к нему. Поняла, что нельзя предъявлять ему тот же счет, что и прочим людям. Миша – человек особенный, необыкновенный. Ученый, светило. Наша национальная гордость.
Ему-то я и позвонила:
– Выручай, запихнули иеромонаха в психушку.
Назвала номер, фамилию, гражданское имя. Он очень удивился:
– Но это – насильственная госпитализация! Ты понимаешь, что сейчас она практически неосуществима! Нужно, чтобы человек выкинул что-то криминальное – носился с ножом, с розочкой, бил стекла, резал себе вены... А если, предположим, он просто сидит, пуская слюни, и ест свое дерьмо, ты его никакими силами не уложишь без его согласия. Мы международную конвенцию подписывали. У нас это очень строго теперь. Да и вообще – необходимо письменное согласие родственников!
Я вспомнила, как мы гонялись с отцом Борисом по ночному поселку за его босой Любой...
– Не было никаких родственников, никакого согласия! С ним сводили счеты!
– Но это невозможно! Ни один психиатр не может взять это на себя! Должна приехать милиция, забрать его, если он социально опасен, и только потом она уже может вызвать психушку!
Мы договорились, что он заедет за мной и мы вместе поедем в больницу.
В это время Габриэль увидел через стекло будки, как из дверей ближнего корпуса вдруг выходит вальяжная Зоя Олеговна, подъезжает психовозка, и в нее опять начинают запихивать бедного отца Филиппа. Габриэль положил трубку, кинулся к машине и включил мотор. Психовозка выкатилась на улицу, и он погнался за ней. Однако теперь водитель не особенно торопился. Он ехал с ленцой, будто нехотя, без сирены. Прошло полчаса, сорок минут, час – они все пересекали Москву, колесили по окраинам. Габриэль даже испугался, не собираются ли они увезти Филиппа куда-нибудь в частный загородный дом. Наконец остановились у ворот, и он прочитал, что это – тоже больница. В ворота его снова не пустили. На этот раз охранник наотрез отказался, чтобы Габриэль от него звонил, других наручных часов, даже и вообще чего-то ценного у монаха не было, он отправился искать автомат. Тут ему повезло – какая-то девушка дала ему монетку, объяснила, куда опускать... Он сообщил, что Филипп теперь в другом месте, в другой больнице.
Меж тем Миша так ничего толком не разузнал, кроме того, что, естественно, в той первой психушке наш Филипп не числился. Тем не менее, он уже позвонил домой главному психиатру Москвы и доложил об этом вопиющем случае. Тот обещал оказать содействие и самолично выяснить обстоятельства и местонахождение нашего друга. Но я все же настояла на том, чтобы и мы не плошали, – Миша заехал за мной, и мы помчались по новому адресу вызволять уже не только Филиппа, но и самого Габриэля.
По-видимому, с легкой руки московского главврача, в этой психушке был поднят полнейший переполох. К нашему приезду врачи уже были извещены о каком-то злостном нарушении и разве что не стелили перед нами ковры-дорожки, пока мы входили в отделение. Дежурный психиатр, который принял отца Филиппа из рук Зои Олеговны, глядел как побитая собака и все время оправдывался за какой-то укол, который успел ему вкатить. Филипп безмятежно спал, растянувшись на больничной койке. Миша потребовал, чтобы санитары перенесли его в его просторную «Вольво», мы же с Габриэлем поехали следом, как телохранители.
– Сволочи! – только и сказал Миша-псих, когда мы перетащили Филиппа ко мне домой. – Вкатили ему какой-то сильный психотропик без корректора, а потом еще и лошадиную дозу снотворного. Будет его теперь корежить и ломать, когда проснется. Оказывается, эта бабенка, что его привезла, назвалась его матерью, сказала, что сама психиатр, сунув в нос свою ксиву, что «с моим Феденькой такое часто бывает, даже лицо, случается, он сам себе расцарапывает» и что «ему в таких случаях вкатывают вот это», – и протянула ампулу. Этот дежурный козел был, по-видимому, с бодуна, ничего не проверил... Только ширнул его – сразу ему от главного звонят насчет Филиппа. Так и так, насильственная госпитализация. На каком основании? Тут мы нагрянули... Влетит ему теперь – костей не соберет. Ишь, а в той, первой-то больнице его не приняли. Знают правила. Побоялись.
К ночи Филипп проснулся, и его действительно начало корчить и тошнить. Миша вколол ему какое-то лекарство, тот затих и забылся.
На следующий день он заехал проведать больного, а заодно сказал:
– Я узнал, почему его поначалу повезли в другую больницу. Потому что именно там когда-то работала эта Зоя Олеговна. И именно там подвизался вместе с ней врач, который припилил на психовозке. Очень просто. Они кореши. Договорились. Может, она еще и ручку ему позолотила – для верности, утверждать не берусь: «Слушай, Петя, тут надо одного в психушке подержать». Он: «Будет сделано, Зойка, какие вопросы». Свои дела. – Миша покачал головой. – Ну, у вас, у церковников, я тебе скажу, все как у людей. И испанские интриги, и мордобой, и объявление Чацкого сумасшедшим. Жизнь бьет ключом. Мне это даже нравится. А то все – пост да молитва, молитва да пост.
Филипп, который слушал его со страдальческой миной, вдруг оживился:
– Еще бы! – в Евангелии ведь тоже вон какие страсти кипят! Какие дива творятся! Люди гибнут за металл; избивают младенцев; в награду за танец требуют голову пророка на золотом блюде; чародеи находят новорожденного Царя, следуя за звездой; четверодневный смердящий Лазарь по слову Христа выходит живехонький из гробницы; бесы умоляют Господа вселить их в свиней, а бесноватые свиньи низвергаются в бездну; Петр идет по водам; слепорожденные прозревают; паралитики бегают; прокаженные очищаются от проказы; а Христос бичом изгоняет торгующих из храма и, уже воскресший, проходит к Своим ученикам сквозь стены!
– И еще Он исцеляет лежащую в горячке Петрову тещу, – вклинилась я, вспомнив, как в свое время Миша пытался угодить будущей теще.
– Крутая, великая книга! – с воодушевлением заключил отец Филипп, сияя глазами. – Так что все происходит так, как и быть должно, как Христос и предупреждал.
– Что же все-таки там произошло? – спросила я его наконец. – Они же не могли тебя так – ни с того ни с сего...
– Только отчиму не говори, – умоляюще произнес он. – Отчим им кровавую баню устроит, а зачем? Я же, знаешь, сам хотел пострадать. Даже немного роптал, что Господь мне все какие-то коммунальные, канцелярские, ключнические скорби дает. Вот он и послал, по Своей великой милости. Так что схватили меня и прибили. Физиономию расцарапали. Чуть сумасшедшим не заделали... Ну, конечно, не просто так, не с кондачка... Нет, они долго готовились, – вздохнул Филипп. – Все равно, говорили, Филя, не сносить тебе головы! Куда ты полез! Да мы тебя за твои делишки посадим...
– Не может быть! – поразилась я. – Они же вежливые, политически корректные...
– Нет, – говорили, – мы – за демократическую законность, мы тебя не как Сталин, мы тебя по закону нашему посадим, по уголовке! Только сунь нос на нашу территорию в церковном доме, только тронь наше имущество! Мы тебя как вора и грабителя схватим! А вообще, повторяли, тебе лечиться надо. Зоя Олеговна все три месяца, оказывается, писала мою историю болезни. На видео меня постоянно снимали, как киногероя. Каждое слово мое записывали. А в воскресенье перешли к действиям – все было у них подготовлено. Ничего я такого против обыкновения не совершил, чтоб они так на меня набросились. Просто некоторые лаврищевцы, подходя к Чаше, когда надо называть свои имена, говорили про себя: «Пресвитер Олег. Пресвитер Игорь». Или – «диакониса Лариса, диакониса Ирина». Ты понимаешь, все у них там если не пресвитеры, то диаконисы! Просто какая-то церковь в Церкви. Я взмолился и – заметь – кротко им сказал: «Прошу вас, братья и сестры, только имена – без "пресвитеров" и "диаконис"». Ну, еще спрашивал – были ли они на всенощной, исповедовались ли, допустил ли их духовник к причастию – хотя это было бесполезно, я понимаю, Лаврищев всех своих заочно допускал. Но если они признавались, что на всенощной не были, я говорил: «Тогда вам нужно подготовиться, как положено, и причаститься в другой раз». Но это я им советовал всегда, когда стоял с Чашей... Они это знали – зачем же подходили к ней, не подготовившись? Явно какая-то провокация.
Потом Зою Олеговну я из алтаря шуганул. Но я с самого начала запретил ей туда входить, и при мне она, кроме прошлого воскресенья, и носа не казала. А тут вошла как ни в чем ни бывало прямо перед самой «Херувимской». Я ей – пошла вон... Ну что это – баба в алтаре, а? Тоже мне, Екатерина Великая отыскалась! А она только фыркнула. Лаврищев за нее вступился: «Перестаньте гнать наших прихожан, отец Филипп! Помните свое место. Не вы здесь хозяин, а Господь наш Иисус Христос».
Ну и, наконец, Векселев – этот твой Урфин Джюс. Когда отец Петр отобрал у меня Чашу, якобы потому что я отказывался причащать его прихожан, и потом, внеся ее в алтарь, поставил на жертвенник, ее тут же схватил Векселев и, жадно припав, стал потреблять. Этого уж я не мог позволить! С какой стати? Мирянин, а делает то, что положено лишь священнослужителю. Отнял я у него Чашу, так на меня сзади алтарники накинулись, заломили руки, повалили на пол, стали срывать с меня священнические облачения. Только поручи не удалось им с меня содрать. Так я лежал и кричал: «Помогите!» Один из моих монахов стоял в храме – разливал теплоту, раздавал просфоры, так он прибежал на крик: его тут же скрутили, запихали куда-то, наверное, в бывшую лаврищевскую уборную, куда еще, заперли там. Он оттуда тоже орал во все горло, но помочь не мог. Другой – отравился еще вечером, все ночь его тошнило, я его от службы освободил, температура под сорок. А Габриэль с Патриархом молился. Торжество Православия. Так что я оказался совсем один. Там, ты знаешь, алтаря практически нет – тонкая такая условная перегородка – так все было слышно. Шум в храме стоял ужасный. Потом Лаврищев вышел на амвон и призвал всех молиться за меня, потому что я, видишь, взбесился. В Евангелии было много бесноватых, пояснил он, и некоторых из них приходилось даже цепями связывать, чтобы они не сокрушили все вокруг. Через полчаса приехал этот врач из психушки.
На мою расцарапанную физиономию глянул, на мои связанные руки, но они никакого впечатления не произвели. Зоя Олеговна что-то ему пошептала, сунула тетрадку, которую он, одобрительно кивая, полистал, потом подошел ко мне, зачем-то потрогал лоб и сказал: срочно госпитализировать. А я ему закричал: «Здесь совершается страшное насилие и ложь. Здесь священника бьют, оскорбляют и унижают!» Но он мне спокойно ответил: «Это у тебя бред преследования. Обострение!» Ты знаешь, Господа благодарю, что Он не позволил мне в какой-то момент схватить подсвечник да как звездануть кому-нибудь из них между глаз! А так, честно говоря, хотелось!
– Еще бы! – подхватил Миша-псих. – Так и звезданул бы! Особенно этой психиатрической бабенке. Порой это бывает очень полезно, поверь мне. Не хуже, чем душ Шарко.
– Мне нельзя! – вздохнул Филипп, – я – священномонах!
Подозвал Габриэля, обнял его:
– Прости, брат! Не очень-то я тебе доверял. Подозревал, что есть у тебя какой-то посторонний умысел – высматриваешь ты что-то, притворяешься, словно совсем ничего не понимаешь, а сам... Особенно один помысел против тебя мучил, когда меня в алтаре заушали, – а не специально ли ты удалился в другой храм? Может, знал о том, что здесь готовится? А сейчас понимаю – если бы не ты, валялся бы я сейчас, весь заширянный, в этой психушке. Вышел бы оттуда через месяц-другой с остановившимся взглядом и струйкой слюны. Присоединяйся поскорее к Православию, вместе будем праздновать его торжество, вместе молиться, служить, братию собирать, Господа славить!
И Габриэль, просияв, ответил ему так, как принято на Афоне, и почти без акцента:
– Буди благословенно!
Все это так тронуло Мишу, что, уходя, он дал нам торжественное обещание немедленно перечитать Евангелие и постараться найти там себя в толпе людей, окружавших Христа.
В среду утром Лаврищев был вызван в Патриархию, куда он отправился, думая, что его попросят дать объяснения о произошедшем в воскресенье в Рождественском монастыре. Он был уверен, что выиграл эту битву. Филипп – в психушке и, по уверению Зои Олеговны, будет пребывать там еще немалый срок для прохождения курса лечения, Габриэль – не в счет, темная лошадка, Рождественские монахи – побоку: одного вообще на месте происшествия не было, другой – буянил в алтаре, пришлось его временно изолировать, тоже припадочный, вырвался, стал под колеса машины ложиться, суицидные какие-то мотивы...








