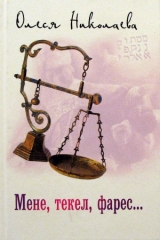
Текст книги "Мене, текел, фарес"
Автор книги: Олеся Николаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Но, к его удивлению, старик-благочинный даже не стал его ни о чем спрашивать. Он просто молча протянул ему указ, подписанный Патриархом, из которого следовало, что он запрещается в служении до выяснения печальных обстоятельств специальной патриаршей комиссией, а его алтарники вместе с Векселевым и Зоей Олеговной отлучаются до поры от причастия. Кроме того, ему предписывается немедленно сложить с себя настоятельские полномочия и освободить церковные помещения как Рождественского монастыря, так и Введенского храма.
На следующий день Филиппов отчим прислал к церковному дому рабочих, которые поменяли входную дверь на железную, после чего у входа остался дежурить Габриэль, имевший указание Филиппа лишь выпускать лаврищевцев из дома, но не впускать обратно.
Они, конечно, стучались, ломились, называли его предателем и другими, еще более обидными словами, но иностранное звучание их не оскорбляло француза. Вещи лаврищевцам разрешили вывезти в присутствии милиции, и они, призывая на Рождественский монастырь карающую Десницу Всевышнего, оставили обитель навсегда. Кое-кто из них, правда, все еще ходил сюда на литургию, приступал к Чаше, сложив на груди руки, но Филипп остался непреклонен – не допускал никого из тех, кто не был на всенощной и не исповедовался. Кто-то из них все же отвечал утвердительно, что да, дескать, он и на всенощной был, и исповедовался, и разрешение от священника получил, и тогда Филипп его причащал. Но поразительно – этот, вкушающий Тело и Кровь, тут же из уст в уста передавал причастие собрату, только что не допущенному Филиппом к Святым Дарам.
Все это напоминало Филиппу какую-то пародию на катакомбы, гонения христиан при императорах-нечестивцах, что-то этакое... Но поделать с этим он ничего не мог. Вскоре, впрочем, лаврищевцы выбрали для себя другой храм, и никого из них не осталось.
В Патриархии было в деталях рассмотрено «дело Лаврищева», особенно ценные сведения предоставил Миша-псих. Он документально доказал, что имел место преступный сговор, повлекший за собой грубые нарушения медицинской этики, приложил справку из травмопункта о нанесении Филиппу телесных повреждений, которую успел взять, пока вез пострадавшего домой из психушки, и проч., и проч. Отец Петр Лаврищев угодил под запрещение в священнослужении – теперь уже до покаяния. Также было подтверждено отлучение от Святого Причастия и для его ближайших сподвижников. Они все ушли в подполье и затаились, потому что не желали ни в чем каяться. Напротив, они объявляли на весь свет о своей правоте, продолжая настаивать на том, что наместник Рождественского монастыря сошел с ума. А кроме того, они распустили по Москве слух, будто бы отца Петра Лаврищева ортодоксы довели до диабетической комы, и врачи отрезали ему ногу. Конечно же, всех это потрясло. Старик благочинный даже и прослезился: «Да, вот как бывает-то! Не слишком ли жестко мы с ним обошлись?» Однако через весьма малое время отец Петр появился в каком-то присутственном людном месте как ни в чем не бывало – на двух ногах.
Габриэль – иеромонах Гавриил – был присоединен к Православию еще до Пасхи – на Вербное воскресенье. Однако Святейший решил отправить его в далекий Свято-Троицкий монастырь, чтобы он там «вкусил истинного Православия». И он отбыл туда на Светлой неделе.
Рачковский эмигрировал в Америку – что ж, последние годы он практически там и жил. Однако поразительно, что он получил в США статус беженца. От кого и от чего же он бежал? Он бежал, как выяснилось, от гонений на Церковь. В Сенате ведь уже имелись данные о гонениях на общину отца Петра, ну вот логически из этого и вытекало, что от этого гонения должны были появиться и беженцы.
Грушин написал гневную статью, которую напечатал в «Общей газете». Там он клеймил какие-то махровые черные силы и, наоборот, восхвалял силы светлые. Призывал этим черным силам дать по рукам. Много и с пафосом говорил о духовности. И вообще было понятно, что он представлял себе внутрицерковные конфликты исключительно по аналогии с борьбой каких-то политических партий, и, честно говоря, даже сами лаврищевцы морщили носы, читая его.
Написал небольшую заметку и Рачковский. Она сводилась к тому, что о драматических событиях в алтаре Рождественского монастыря может рассуждать только тот, кто непосредственно там присутствовал. И я подумала: ну да, а если бы ему самому в темном переулке дали бы в нос, то что – об этом никто бы и говорить не смел? Да вся общественность бы кричала многие годы, как «фашисты избили нашу интеллектуальную гордость».
Зато Сундуковы сделали «на деле Лаврищева» журналистскую карьеру. До сих пор то тут, то там появляются их написанные в соавторстве статьи, где пережевываются все те же события, честно говоря, уже поросшие быльем.
А отец Ерм не взыскал с меня за дружбу с Филиппом. Так, подулся немного, это выражалось в том, что он меня совсем ни о чем не расспрашивал. А если я начинала что-то рассказывать о московской жизни, особенно об отце Габриэле, он сразу переводил разговор на другую тему. Впрочем, лишь однажды спросил: «А чего он из католичества перешел? Зачем? Может, он просто не разбирается?» Но лично мне никаких обид он не предъявлял.
Может быть, потому, что лаврищевцы сразу после отлучения рванули к нему как подписанту. Уже в мае они разбили возле его обители палатки, рвались на хутор к Николаю Петровичу, да он их к себе не пустил. Спросил их, как водится у него, через порог:
– Отрицаешься ли сатаны, и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всея гордыни его?
А они, вместо того, чтобы ответить ему в простоте: «Отрицаюся!», начали умничать о фундаментализме, о полных членах... И он захлопнул перед ними дверь.
Они и расположились табором прямо у Преображенского скита, варили на кострах еду в котелках, ходили на службы, стояли там шеренгами, держась за руки и заглушая монашеский хор своим пением, а также – увы, жизнь есть жизнь! – пользовались монастырским туалетом и умывальником, что для такой маленькой обители было очень и очень обременительно. Кроме того, они достали из своих баулов пособия по катехизации и принялись катехизировать самого игумена Ерма с братией, доказывая, что те до окончания их курсов могут считаться не более чем оглашенными. И отец Ерм их просто всех взял и выгнал. Да, он умел быть несговорчивым и крутым!
Отец же Филипп наконец-то принялся восстанавливать свой монастырь. Очевидно, проклятия лаврищевцев не достигли Всевышнего, поскольку на монастыре до сих пор чувствуется какое-то особое благоволение Божие, какая-то сугубая благодать. Кажется, непрестанно звучит над ним праздничное песнопение «Ты еси Бог, творяй чудеса». Отец Филипп даже завел себе специальную тетрадку, куда и начал записывал свидетельства великой помощи Божией, даже хотел потом издать это отдельной книжечкой, которая бы назвалась – ну, скажем, «Чудеса Рождественского монастыря», но старец Игнатий сказал, что еще не настал строк.
И все идет своим чередом – монастырская братия совершает свой молитвенный подвиг, множится и принимает к себе всех приходящих. В том числе и казаков. Правда, отец Филипп строго предупредил железнозубого атамана-станичника:
– Так ты, конечно, – казак. Но вошел в Церковь – и ты уже ни эллин, ни иудей...
– Не понял, – вяло и подозрительно протянул атаман. – Какой еще иудей?
Филипп замешкался, раздумывая, как бы ему это объяснить получше, и тут ему пришел на выручку отчим:
– Кончай бузу. Священник тебе сказал, так слушайся. Оставь свое казачество за дверями храма, зачем оно тебе там сдалось? А в храме – ты уже просто человек Божий, понял? Там уже – только Бог и душа. И ребятам своим скажи.
Жаль только, что Рождественский храм маловат – во время воскресной литургии многие прихожане уже там не помещаются: им приходится молиться у дверей и слушать службу через динамик. А что же делать? Даже ночные литургии, которые служит в своем монастыре отец Филипп, не решают проблемы...
А у меня с тех – теперь уже давних – пор лежит любопытная кассета. Нет, не та, где переговоры, другая. Она мне досталась по дружбе от одного телеработника. А ему эту кассету принес лаврищевский журналист. Может, Сундуков, может, кто другой. На этой кассете – видеозапись всего, что происходило в тот день на Торжество Православия в Рождественском храме.
Вот Филипп выходит с Чашей, вот Лаврищев ее у него отбирает, вот Филипп выгоняет Урфина Джюса, вот на него накидываются алтарники, бьют, пинают, валят на пол. Приезжает врач, щупает ему лоб, дает распоряжения грузить его в психовозку, крупным планом – два санитара, далее – его тащат по двору алтарники, запихивают в машину, монах кидается под колеса. Габриэль перегораживает путь, дюжие парни поднимают мой автомобиль и уносят его с дороги.
– Зачем он это снимал? Зачем принес на телевидение? – удивилась я.
Телеработник ответил:
– Так он считал, что все, отснятое здесь, играет им на руку. И просил, чтобы я крутанул в новостной программе. Ему казалось, что это должно всколыхнуть общественность и обратить ее на сторону Лаврищева. Но я его убедил, что это – настоящее свидетельство обвинения. И втихаря снял для себя копию. Вдруг пригодится...
Честно говоря, этот фильм, кроме самого последнего кадра, я не могу смотреть. Но этот, последний, вновь показывает мне мартовский черный снег, суетящихся странных людей, поднимающих машину, а в ней – отважного француза в православной монашеской скуфье. Он изумленно смотрит так, словно видит, как на его глазах у нас вырастает третье ухо или третья нога, и земля качается, уплывая прочь.
– Ортодоксикоз, – почему-то вспоминаю я, выключая видик.
НЕ ТЕ КИТАЙЦЫ
Преподобные старцы Свято-Троицкого монастыря предрекали, что в последние времена за кратчайший срок в монастыре сменятся три наместника. Первый – приведет монастырь в полный упадок, но и заложит фундамент его грядущего процветания. И будет он, хоть и весьма своеобразным, но и вполне благочестивым. Им, по всем признакам, оказывался архимандрит Нафанаил, погоревший за то, что он захоронил в святых пещерах главу воронежской мафии. При втором – монастырь будет переживать тяжелую пору духовного обнищания, но это продлится весьма короткое время. Сам же он будет лютым, и многие из братии хлебнут при нем вдосталь из чаши скорбей. И это, без сомнения, игумен Платон, веригоносец. Зато третий наместник, предрекали старцы, будет, как Ангел небесный – любящий, милостивый отец всем монахам. И при нем монастырь поднимется вновь, как кедр Ливанский, как древо, насажденное при «исходищих вод».
И вот действительно – при игумене Платоне в монастыре водворились почти всеобщее уныние и печаль. К власти пришла мордовская родственность, и монахи, которых Господь не украсил принадлежностью к оной, стали испытывать на себе гнет этой обширной семьи. Особенным прещениям подвергались те из них, которые пришли в обитель из крупных городов, особенно из Москвы и Петербурга. Они были на подозрении, числились у отца Платона в «неблагонадежных», и по отношению к ним почти открыто проводилась политика «выдавливания» их из монастыря на приходы...
А что за жизнь монаха где-нибудь на приходе? Что такое монах без монастыря? На приходе монах чахнет и тускнеет, выветривается, превращается в соль, потерявшую свой вкус. Неизбежно начинает жить своевольно. Теряет благодатные плоды послушания. И вместо жития ангельского, которого он так желал, он принимается вести наимирскую жизнь. Ведь он оказывается в миру, прямо в гуще его, прямо в самом вихре житейских попечений, хозяйственных забот. В самом горниле страстей. То есть именно там, откуда он уходил в монастырь. И мятется, одинокий, как оторванный лист на ветру. Ибо – «что добро или что красно? Но еже жити братии вкупе».
Да и женский пол получает к такому монаху весьма легкий доступ. Увидит его в храме – красивый, длинноволосый, глаза ясные, облачения золотые, холостяк. И начнет какая-нибудь поселянка ухаживать за батюшкой – носить ему молочко, яички, мести ему пол, и сам он и не заметит того момента, как вкрадется она ему в полное доверие. Застигнет его в минуту слабости, утешит в час скорби, полностью обезоружит в миг искушений. Вот уже беспрепятственно и по головке погладит, и за руку возьмет. То есть сама станет как бы частью его монашеского обихода; вот его четки, вот его полушубок, а вот – она. И как это произошло? Как она сюда попала? Так незаметненько, сантиметр за сантиметром, и вошла в его жизнь. И теперь можно только вытолкать ее в шею. Но без боя она уже не уйдет. И вот все-таки выгонит он ее, сядет посреди избы, а душевный мир уже потерян, где она, благодать? – тоска, тоска... Многие даже начинали утешаться от этой тоски – поначалу красненьким, ибо сказано, что оно веселит сердце человека, а потом уж и серенькой. И мне приходилось видеть таких монахов, которых переламывала эта приходская жизнь.
И вот были отосланы игуменом Платоном на приходы по деревням огромной епархии иеромонахи Амвросий, и Мелхиседек, и Агафангел, и Феофил, и Авель, и Севастиан. Все – монастырские духовники, крепкие, духовные, молитвенные люди – костяк монастыря. Иустин удержался в монастыре каким-то чудом. Старец Игнатий попросил наместника:
– Не забирай у меня мою радость.
Потому что иеромонах Иустин был светел лицом, и радостно было даже смотреть на него. Такой Иван-царевич – победитель Змея Горыныча... Часто, когда старец изнемогал в болезненной немощи, Иустин приходил к нему в келью читать монашеское молитвенное правило и зимой украшал ему келью маленькой рождественской елочкой, а летом – букетиком полевых цветов.
А сам наместник Платон стал готовиться к перезахоронению воронежского Витали. Уже и место подыскали на городском кладбище. Но приехали на сороковой день лысые да черноочковые на своих вольво и мерседесах, только шепнули ему что-то походя на ушко, мол, не трожь братана, и дело с перезахоронением как-то само собою заглохло. Отец Платон с монастырской братией отслужили по Витале панихиду, записали его на вечное поминовение, братва уехала с миром, а гроб мафиозо – странное дело – перестал вдруг вонять.
И иеромонах Иустин говорил:
– Судя по всему, отмолили мы этого разбойника. Видать, помиловал его Господь по монашеским нашим молитвам. То-то сатана лютовал и нам мстил за спасенную эту душу: наместника нашего снял, братию монастырскую разогнал.
И в подтверждение зачитывал истории из синодиков. Первая была про некоего Щера, ростовщика, решившего во спасение души построить на свои деньги храм. И что же? Душа его все равно угодила было в ад, но, по молитвам людей, молившихся за него в этом храме, участь ее была изменена. И хотя она и не достигла райских обителей, все же была извлечена из огня. А вторая история – про сына некоей вдовы, нажившей себе состояние блудодеяниями. Когда она умерла, сыну открылось, что попала она в самую геенну серную, и великое злосмрадие распространялось вокруг нее. Тогда благочестивый сын раздал все имение нищим и, придя к некоему старцу, попросил того помолиться вместе с ним о спасении матери. Стали они горячо молиться, так что разверзлись перед ними небеса, расступилась земля, и увидел сын свою тонущую в огне мать, простиравшую к нему руки. И он протянул ей руку, чтобы вытащить ее из кипящего зловония, и она ухватилась за нее и выбралась на твердую землю. И старец сказал: «Ну все – отмолили мы ее горючими слезами и милостыней». И возблагодарили Бога. И сын ликовал. Но та рука, которой он вытаскивал из ада несчастную мать, навсегда осталась у него обоженной, изуродованной, так что пришлось ему заматывать ее тряпицей, ибо невозможно было без содрогания даже взглянуть на нее.
И получалось, что и монахи вытащили из преисподней Виталю-разбойника, пострадав за него...
И вот как раз в эту пору приехал в Свято-Троицкий монастырь иеромонах Гавриил, Габриэль. Патриарх, после того, как тот отслужил несколько литургий на Светлой неделе в Рождественском монастыре, отослал его на неопределенное время в эту славную обитель, чтобы он здесь «надышался духом истинного Православия». Может быть, именно так бы оно и получилось, да попал он сюда явно не ко времени: у игумена Платона очень уж обострился «нюх на масонов». А тут Габриэль – нос с горбинкой, глаза с прихотливым разрезом, черные кудри, южный загар. Да и сам, поди, вчерашний католик, только давеча из Израиля, еврейский язык знает... Но куда ж деваться бдительному игумену от патриаршего благословения? Надо его посланца принимать, где-то поселять, приспосабливать к монастырскому послушанию. Ну отец Платон и поселил его – иеромонаха – в общую келью к новоначальным послушникам, крепко-накрепко им наказав «остерегаться масонского духа». А в качестве послушания поначалу дал ему допотопный ржавый трактор, у которого к тому же не хватало доброй половины деталей.
Но Габриэль что-то приладил-приспособил, подкрутил-подмазал, и трактор заработал, только уж очень неистово его трясло, и французский тракторист, скачущий на нем посреди рассветного гумна, напоминал скорее какого-нибудь мачо, укрощающего необъезженного мустанга. А кроме того, что-то в этом тракторе непрестанно бурчало и плевалось, а также стреляло, взрывалось и дымилось, превращая окрестность в настоящее поле брани с незримым противником. И все же настоящей битвы за урожай так и не получилось, потому что глупая машина оказалась ни к чему более не способна, кроме как бессмысленно и громогласно заявлять о себе.
Наконец наместник, объезжавший поля и привлеченный этой батальной страстью, сложив руки рупором и пытаясь перекричать мотор, грозно вопросил своего чернеца: «А где же твой КПД?» И когда Габриэль, стараясь удержаться в седле, напрягшись и превратившись в слух, думая, что речь идет о какой-то детали, звучащей к тому же на французский манер «капэдэ», стал беспомощно оглядываться и даже шарить вокруг, виновато пожимая плечами: мол, нету, куда-то запропастился, вроде был, но пропал, игумен Платон решительно приказал: «Кончай балаган!» И поставил его малярить под мостиком, соединявшим наместничий корпус с главным монастырским храмом. «Это тебе не Израиль», – походя бросал он Габриэлю. Потому что наместник Платон подозревал, что Патриарх поручил ему этого пришлого монаха исключительно для того, чтобы здесь из него выбили чужеродный дух и, как сказано в Псалтири, пасли его «жезлом железным».
Но Габриэль на него не обижался – у него за спиной была уже длинная, кропотливая и искусная школа монашеского послушания: он всегда оставался ясным, спокойным и благожелательным. Он помнил чудную историю из жития преподобного Серафима, которую ему рассказал в назидание его русский старец с Афона. Была она о том, как преподобный Серафим старательно переносил с места на место тяжелейшие камни. И когда его спрашивали, удивляясь видимой бессмысленности этого тяжкого труда (или, по наместнику Платону, «отсутствию капэдэ»): «Что же ты делаешь, честный отче?» – тот отвечал: «Я томлю томящего меня». Так и Габриэль понимал, что игумен Платон всего-навсего «томит томящего». И таким образом, он просто становится соработником своего чернеца и выполняет свой духовный наместничий долг... И, честно говоря, Габриэль был счастлив, как может быть счастлив лишь настоящий воин Христов, наконец-то выпущенный на поле битвы, видящий своего внутреннего врага и владеющий неотразимым оружием против него.
Вот потому он и хранил полное благодушие, которое, казалось, окружало его, как облако, распространяя вокруг себя почти осязательные волны умиротворения. Так что вскоре новоначальные послушники – его соседи по общей келье, затаив дыхание, слушали рассказы о его суровой жизни в униатском монастыре и особенно о его паломничествах на Святую Гору. Радость его омрачало только то, что наместник не ставил его служить, словно не доверял его священству...
И вот однажды, когда Габриэль в шапочке из газеты и в синем бумазейном халате, натянутом на подрясник, малярил под мостиком, ведущим в наместничьи покои, в монастырь приехала делегация французов. Собственно, она приехала не в монастырь, а в местную воинскую часть и представляла собой некую важную международную комиссию, ни много ни мало из НАТО, а уж наши военные шишки и повели этих знатных иностранцев в Свято-Троицкую обитель: а какие еще есть в Троицке достопримечательности, кроме знаменитых пещер и храмов?
Принимал их сам наместник – такие большие военные начальники пожаловали. И вот угораздило их остановиться на мостике, аккурат над тем местом, где трудился в поте лица своего смиренный иеромонах. Но проблема была в том, что переводчица накануне потравилась от щедрых возлияний, которые происходили в воинской части, и теперь она вела себя не совсем адекватно, то хватаясь за поясницу, то за лоб, то за живот, и казалось, совсем плохо понимала не только по-французски, но и по-русски.
– А что, кажется, у вас священникам разрешается жениться? – спросил наместника один из французов.
– Да, – сама отвечала переводчица, как в тумане, словно забыв, что ей надо переводить.
– А где же жены? – удивился француз.
– Священницы? А кто их знает, наверное, сидят себе по комнатам и шьют. – И она махнула рукой в сторону корпуса.
– Шьют? – удивился француз. – А что именно?
Вся группа уже с интересом прислушивалась к их разговорам.
– Да кто что. Что хотят, то и шьют. А что им еще остается делать? Гулять же им здесь запрещено... Никто их никогда здесь не видит.
– Так они что – держат своих жен в тайне?
– Полнейшей! – отрезала она, поняв, что завралась и борясь с приступом тошноты.
Наместник стоял рядом с ней и кивал, делая вид, что он тоже участвует в беседе, что он тоже в курсе...
И тут из-под мостика раздался голос, который на чистейшем французском языке произнес:
– Это монастырь, и здесь нет никаких жен. Эта женщина явно шутит.
Французы в изумлении перегнулись через перила и увидели какого-то мизерабельного, измазанного краской бородача с газетой на голове.
– Кто вы? – закричали французы. – У вас великолепный французский выговор, где вы научились так говорить?
Вытащили его из-под мостика, окружили, закидали вопросами и были просто потрясены. Ибо слово за слово выяснилось, что их самый главный француз, руководитель комиссии, был учеником родного брата нашего Габриэля – почтенного французского генерала Гастона Делакруа.
– Я так почитаю моего учителя! – объяснял всем самый главный француз. – Но вы, как вы сюда попали и что здесь делаете? И почему у вас такой плачевный вид?
Габриэль, кротко улыбаясь, сказал несколько слов. Про Иерусалим, про Афон, про русского Патриарха.
То и дело раздавалось это:
– О! О!
А наместник, которого эти басурмане оттеснили, стремясь как можно ближе протиснуться к Габриэлю, стоял на отшибе с военными шишками и делал свирепое лицо. Словно что-то почувствовав, его смиренный чернец вдруг спохватился, сказал:
– Ну, передавайте привет моему брату, Франции, а я пошел работать...
Но французы не хотели его отпускать, они наперебой стали упрашивать переводчицу передать и военным шишкам, и наместнику их просьбу, чтобы этот симпатичный их соотечественник, родной брат славного французского генерала, русский монах пообедал вместе с ними. И наместник вынужден был позвать Габриэля в наместничьи покои на трапезу.
А тем же вечером, как только монастырь покинул последний из натовских басурман, игумен Платон вызвал к себе Габриэля, объявил ему, что раз у монастыря от него «нет капэдэ», то пусть он «чешет на приход». Хотя Габриэль и уловил общий смысл – ну, что он должен уезжать куда-то из монастыря, но все же кое-что оставалось ему совершенно непонятным: вернувшись в келью, тщетно в отчаянии искал он это таинственное «капэдэ» в словаре, неясным также оставался вопрос и о том, что именно он должен «чесать».
Получил он назначение в сельцо со смешным названием Мымрики. Даже ландшафт вокруг Мымриков изменял себе – ни широкошумных дубрав, ни огромных красноватых сосен, ни озер и холмов, на которые так щедра прекраснейшая собой епархия: повсюду угрюмые тянулись поля, медленно перетекая в тяжелые низкие небеса, и лишь кое-где шустрил мелкий непроходимый кустарник, сам этакий мымрик. И черные унылые хаты выглядели тоже как настоящие мымрики, и – о, ужас! – даже и жители чем-то напоминали именно мымриков: они смотрели на Габриэля исподлобья, угрюмо и подозрительно, и казались единой семьей, ибо сама их мрачность была похожа на какую-то родовую черту. Почему-то они ни за что не хотели пускать к себе Габриэля. Самые решительные вышли с дрекольем к храму, крича:
– Сколько ты заплатил нашему владыке, чтобы он назначил тебя к нам в село? Вот и уезжай в свой Израиль.
Игумен Платон, что ли, успел их предупредить: «Будет вам иерей, только вчера с Израиля, по всему видно – масон», но тогда зачем же он сам отправлял сюда этого патриаршего ставленника, этого, по сути, «чужого раба»?.. И у отца Габриэля то и дело как-то само собой вырывалось из груди восклицание, обращенное вроде к нему самому, но такому давнему, прежнему, еще парижскому, ухоженному и благополучному юноше, родному брату французского генерала: «Поль Делакруа, как ты сюда попал?»
Но на самом деле мымриковцы так враждебно встретили Габриэля, потому что, оказывается, они ждали, что им пришлют священника-земляка – владыка Варнава его только-только рукоположил, и теперь они ожидали его к себе. Увы! – они еще не знали, что священник-земляк все-таки предпочел остаться в городе и уже, не без стараний с его стороны, получил там храм.
– Забот с тобой не оберешься! Видишь, сам церковный народ не хочет тебя принимать! – кричал на Габриэля отец Платон, когда тот вернулся через двое суток назад. – Ну ладно, пошлю тебя в Малую Уситву, но если и там тебя не примет церковный народ...
И послал его в село с полуразрушенным двухпредельным – зимним и летним – храмом: по всей видимости, когда-то здесь был небольшой монастырь. Называлось это все Малая Уситва. Но Большой Уситвы нигде не было, как Габриэль ни шарил по карте, изучая окрестность. Зато рядом располагалась деревенька, названная попросту Лев Толстой.
Место же было красивое – не то что Мымрики: озеро, в которое с крутого холма струились источники, сливаясь у подножия в небольшой водопад, густые леса, изрезанные ручьями и речками, образующими кое-где песчаные отмели... Порой он подолгу сидел здесь, слушая шум и звон воды и наблюдая, как она все убегает и убегает прочь.
Жить ему было практически и негде, никаких церковных построек не сохранилось, поэтому он снял угол за занавеской у старого грубого бобыля. Тот сам наказал:
– Как меня звать, спрашиваешь? А так и зови – Бобыль. – И говорил ему каждое утро: – Эх, француз, француз! Сидел бы у себя во Франции на печи да в ус не дул. А как мы твоему Наполеону наподдали, а? А западло он приперся к нам? Зачем было бузить? Вот и схлопотал.
А вечером, когда они пили чай, спрашивал:
– Нет, ну ты вот скажи, а зачем он сунулся сюда, твой Наполеон? Чего его понесло? Зачем надо было по нашей земле блудить? Чего ему там, во Франции у себя не хватало? Так нет – западло ему было лезть!
Почему-то этот Наполеон очень его волновал.
В конце концов этот Бобыль, у которого все причудливо переплелось в голове, так и стал называть Габриэля попросту «Наполеон». «Наполеон, надо бы дров наколоть!» «Наполеон, а принес бы воды». А Габриэль смиренно и откликался:
– Хорошо.
Первым делом помыл у Бобыля сортир и вычистил помойку. А потом принялся жечь мусор, мести двор, даже улицу перед избой...
Потому что даже и этот грубый Бобыль тоже ведь был не просто так, тоже ведь служил Габриэлю: томил томящего. Что на него обижаться, чего злиться? Ведь так можно и на Господа возроптать – зачем Ты меня сюда послал? Почто мучаешь меня как Мучитель! Почто истязаешь как Истязатель!
К тому же и этот неуемный томящий время от времени все спрашивал Габриэля, все восклицал:
– Поль Делакруа, как ты сюда попал?
А порой, так прямо и скатывался на вопросы Бобыля:
– Делакруа, а Делакруа, зачем ты сунулся сюда? Чего тебе не хватало?
И Габриэль просто перестал его слушать. Только тот за свое, а Габриэль хвать тряпку, хвать ведро и – мыть сортир, мести двор. Только тот загнусавит: «Делакруа...», а Габриэль на это: «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся?»
Крепко усвоил Габриэль это емкое слово – «западло». И еще выучил новый глагол – «бузить». И, бывало, кротко вразумлял старушек:
– Бабулья, западло ты мстиль соседка! Зачем бузиль?
– Что ты, что ты, батюшка, каюсь, просто грех был, а не западло, – пугались они. – Тут уж не до бузы.
Но его полюбили. Хороший батюшка, простой. Чудно так говорит, словно чирикает, а иной раз и крепким словцом не брезгует – как сказанет! Любая бабка при нем себя вроде как профессором филологии чувствует – снисходительно кивает да мысленно ошибки его у себя в уме поправляет. И вот ведь еще – не пьет батюшка. А глаза веселые. А сам – ни-ни. Прежний-то вон как закладывал – и полугода не продержался, убрали его. А с другой стороны – что тому было делать, когда все мужики в Уситве пьют да пьют? Сами ему подносят, а не выпьешь с ними – обидятся: ты нас не уважаешь, поп. Только один Бобыль и не пьет. Так на то он и Бобыль.
Вот и на Габриэля эти мужики стали коситься: может и хорош, да не наш человек. Себе на уме. И зачем он к нам в Уситву из своей Франции прикатил? Может, и шпион... Может, Франция его послала присмотреть для нее посевные земли и тайком их все скупить... Все скупить – и Уситву, и Мымрики, и Лев Толстой, и сам Троицк. Вот оно как! И Габриэль чувствовал на себе эти подозрительные взгляды мужиков.
– Нет, Поль Делакруа, все-таки объясни, чего тебе не хватало в твоем Отечестве, на Святой Земле, на Афоне, что ты сюда-то полез, как ты сюда попал? Тоже мне нашелся – Наполеон!
В такие минуты, честно говоря, даже и хотелось Габриэлю выпить – не водки, конечно, – вина, вина. Терпкого такого, густого вина, которое на бокале оставляет свой пунцовый след, а на языке подрагивает и чуть-чуть горчит... Которое разогревает, веселя сердце, подгоняет кровь и делает ярче взгляд... Но, во-первых, такого вина в сельпо нет как нет, а во-вторых, если и Поль Делакруа начнет здесь пить, то – пропал иеромонах Гавриил, пропал западло...
Но все это исчезало, обращаясь в ничто, как только он распахивал ветхие и почти срывающиеся с петель Царские врата и возглашал, переполняясь уже нездешним блаженством: «Благословенно Царство Отца и Сына, и Святаго Духа!» И это благословенное Царство воистину наступало, обнимая и Уситву, и Мымрики, и Лев Толстой, и Иерусалим, и Афон, и вообще весь мир. Ах, нигде, наверное, нигде и никогда не молился иеромонах Гавриил так истово, так слезно, так горячо. Никогда так не устремлялся от земли к небесам, никогда столь беспомощно не умолял Господа: «Помилуй нас!» Никогда с таким страхом и трепетом не приступал к Евхаристии, как в алтаре поруганного храма села Уситва, где шатался под ногами пол и куда сквозь дырки в куполе капала дождевая вода.








