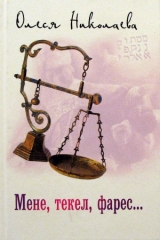
Текст книги "Мене, текел, фарес"
Автор книги: Олеся Николаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
По ночам, читая за занавеской Псалтирь, он особенно остро чувствовал, что все здесь сказано исключительно про его заброшенное Бог весть куда одиночество, про эту пронзительную богооставленность маленького Поля Делакруа. Но и про великую любовь Божию, поднимающую свое творение из самых бездн, из роковых теснин и возносящую его к самому Престолу Господа Сил.
Здесь, за ситцевой засаленной занавеской, в утлой темной хате он всем сердцем чувствовал присутствие Самого, в умилении взирая на странный образ, привезенный им с Синая: лицо Христа на нем строго и асимметрично, и трагично, и одушевлено. Душа изнемогает, истончается перед Ним, делает самовластные радостные попытки его вместить. И, трепеща, отступает в смиренной немощи, ожидая Его, умоляя, чтобы Он Сам прикоснулся к ней... Он смотрит со властью: «Аз есмь Бог», но это власть великой любви...
С блаженным жаром в сердце лепетал Габриэль: «Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя. Господь утверждение мое и прибежище мое, и Избавитель мой, Бог мой, Помощник мой, и уповаю на Него, Защититель мой, и рог спасения моего, и Заступник мой».
И все исчезало – и хатка, и занавеска, и даже сама Псалтирь. Оставались только душа и Бог. Душа, изнемогающая от любви, и Бог, любящий ее до смерти. Душа и Бог. А это, по присловью Афонских старцев, и есть монах.
Как-то я заехала к нему по пути в Преображенский скит. Отец Филипп узнал, что нашего француза отправили из монастыря в какую-то Уситву и отметил ее для меня кружком на карте, – иначе бы я не нашла. Мужик на бензоколонке, которая, по моим расчетам, была уже совсем рядом с этой Уситвой и возле которой начиналась развилка, ответил на мое «где?» весьма загадочно, как в волшебной сказке: «Ну если по той дороге поедешь, будешь блудить, а если по этой – за семь верст киселя хлебать».
...Был уже вечер, и по уситвенским улицам клубились сумеречные возду́хи, летали длинные дымки, в одном из дворов курились костерки – по ним я и нашла Габриэля. Он жег мусор, стоя с граблями посреди двора и глядя куда-то вдаль. Увидел мою машину, узнал, кинулся отворять ворота, благословил меня крестным знамением, спросил, словно перекликаясь с тем мужиком с бензоколонки:
– Ты как, не очень долго блудиль? Долго искаль? А у меня тут большой успех в русский язык, в народний речь.
Провел меня в избу, поставил на стол миску огурцов, нарезал большими ломтями хлеб, принес граненые стаканчики. Я вспомнила, что когда он жил у меня в Москве, то все недоумевал, почему это у нас чашки подают мокрыми. Теперь, должно быть, он оставил этот свой предрассудок, этот «цирлих-манирлих».
Я привезла ему от отца Филиппа бутылку французского вина и изрядный кусок козьего сыра: мол, утешься, друг! Рождественский монастырь ждет тебя не дождется. Мы выпили по стаканчику, и он рассказал мне и про отца Платона, и про французского генерала, и про Мымрики, и про Бобыля... Вздохнул, переходя на русский:
– Жизнь здесь очень суровий. Я венчаль жених и невеста, и вся Уситва пиль три дня, так что жених вдруг умираль. Я его отпел. И вся Уситва – скорбель. И тогда опять пиль два дня. А сейчас уже третий день. Опять пиль. Суровий жизнь!
И уже по-французски добавил:
– Проповедь хочу сказать. У меня уже все и приготовлено – здесь и здесь. – И он показал на свой лоб и на сердце. – А ты мне помоги все это по-русски сказать. Скумекаль? – вставил он вдруг между французских слов. – А то бабулья не поймет (baboulia ne comprendra pas).
Ну хорошо. Взяла я у него с полки словари, разложила, раскрыла тетрадь:
– Давай!
Он улыбнулся, начал что-то говорить, но почти сразу замахал руками: не то.
Тогда поднялся из-за стола, встал передо мной, как на амвоне, как на облаке, как на воздусех, даже крест иерейский надел, вновь улыбнулся, откашлялся, сделался вдруг серьезным и словно обо мне забыл:
– Как же любит человека Бог! А человек все не доверяет Ему, не верит в Его любовь.
Я добросовестно все это записала большими русскими буквами.
– Бог с самого начала учил человека любви. Можно сказать, что Он только и учил его – любви. Только любви. Одной любви. И Сам терпеливо ждал ее, ждал, когда человек, наконец, поймет, что это такое, когда он, наконец, полюбит...
– Помедленнее, – попросила я.
– Но на протяжении первых двадцати двух глав Книги Бытия человек все никак не может ее почувствовать, все никак ее не узнает, все никак не полюбит. Первый, кто дорос до любви, – Авраам. Бог сказал ему: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Первая человеческая любовь – любовь отеческая и жертвенная, это та же жертвенная Божественная любовь, любовь, какой Бог возлюбил мир, возлюбил каждого, каждого человека.
– Ну куда ты загнул – какой еще Авраам, Исаак, кто это здесь поймет? – Я даже отложила тетрадь и ручку.
Но он уже не слушал меня, продолжал, вдохновляясь:
– Ну все равно. Если слова не поймут, то поймут смысл. Если не поймут смысл, почувствуют энергию смысла. Если не поймут головой, поймут душой... Потом Бог раскрывает человеку супружескую, материнскую, братскую любовь. Исаак возлюбил Ревекку, жену свою. Ревекка любила Иакова, своего сына, и Иосиф любил Вениамина, который был его брат: «Удалился Иосиф, потому что вскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату, и плакал там».
Но я уже и не пыталась переводить – так вдохновенно он говорил, да и текст был сложен, я просто сидела и слушала.
– И вот, лишь когда люди вкушают этой братской любви, Господь начинает им говорить о любви к Богу. Но братская любовь появляется у человека раньше – любящий Господа прежде возлюбил своего брата, и эта – вторая – любовь, любовь к Богу – служит доказательством первой. Только тогда и звучит это: «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим». И тут же – неразрывно: «Возлюби ближнего своего как самого себя».
Он посмотрел восторженно и отчужденно – словно заглядывал к себе внутрь.
– И далее – заповедь новую даю вам: «Да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».
Вздохнул, переводя дух:
– И вот я хочу сказать им, именно это переведи, это очень важно: это все одна и та же любовь, заповеданная еще Моисею на горе Синай. Это – АХАВА. Это – любовь к Богу и ближним. Да, это одна и та же любовь! И тот, кто любит Бога, тот любит и тебя, моя дорогая маленькая бабулья на кривых ногах.
И тут он взглянул на меня и даже сделал жест в мою сторону, но, видимо, нечто промелькнуло в этот момент в моих глазах. И он засмеялся:
– Да не ты, не ты! То есть и ты, конечно, и ты... Но это одна и та же любовь! Одно и то же! C'est la même chose!
На этом проповедь кончилась, и мы выпили еще по стаканчику.
– Но разве это одна и та же любовь? – спросила я. – То – Бог, а то – человек.
Но он замотал головой:
– Это – одна и та же любовь. Это – не отношение, это совсем другое. Это – иная субстанция, иное поле, это – новая жизнь. Ведь сказано же: пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть любящий уже обожен. Он сам становится Богом по благодати.
Я попыталась остановить его, мол, что значит любящий, в каком это смысле? Может, в мирском: «Make love not war» или в католическом – начиталась же я всяких латинских житий, в которых святые испытывают к Богу какое-то почти эротическое чувство. Одна святая Анжела чего стоит! Все время тает в сладкой истоме, не может найти себе места от любовного томления, да что там – сам Крест Христов представляется ей брачным ложем. «Я же от сладости Его и от скорби об отшествии Его хотела умереть! Могла я всю себя ввести внутрь Иисуса Христа», – кричит она и при этом в ярости бьет себя так, что монахиням приходится силой выводить ее из костела...
Я взглянула на Габриэля, но лицо его было столь чисто и целомудренно, что я устыдилась своему уточнению.
– А кстати, почему ты оставил католичество? – вдруг спросила я.
Он поморщился, ответил нехотя, произнес по-русски:
– Ну это совсем другой мистик, другой аскез.
Замолчал, подыскивая слова, снова перешел на родной язык:
– Все очень по-мирски: небо приспособлено к земле и начинает жить по ее законам. Папа становится наместником Христа. Церковь превращается в государство. Дух подменяется воображением. Человеческий ум претендует на статус Божественного. Подвижники, думая, что умерщвляют плоть, лишь распаляют в себе чувственность... Ты знаешь, что они потеряли уже Европу?
– Кто потерял? – испугалась я.
– Католики. Европа уплыла из-под них, и они остались кучкой стоять на маленьком островке. Европа больше не желает их слушать, не желает их знать. Она говорит: вы – такие же, как я, – так почему я должна слушать вас? Что знаете вы, чего бы не знала я? Что есть такого у вас, чего бы не было с избытком и у меня? И если я сейчас начну вас гнать, кто из вас прольет за Своего Бога кровь? Так где же ваша любовь? Где же ваша жертва? Кто из вас положит душу свою за ближнего? А какая любовь без жертвы? Так говорит Европа.
А католики разводят руками: но мы ведь так хотели понравиться тебе, слиться с тобой, тебе угодить, заслужить твою похвалу... А в Православии все не так.
– А как?
– В Православии земля должна преобразиться в небо, моя Уситва должна вознестись, как Илья-пророк... Мымрики, посыпав голову пеплом, – просиять, как Небесное Царство. А Троицк – предстать как собрание херувимов.
Он вдруг замолчал, почувствовав, что говорит со страстью. Потом прибавил, уже совсем спокойно, совсем тихо:
– Конечно, и среди католиков есть прекрасные, самоотверженные люди. Но я говорю о самом принципе, о самом устроении... Поэтому – это я уже продолжаю свою проповедь, предупредил Габриэль, – главный вопрос Бога к человеку: «Любишь ли ты Меня? Любишь ли ты Меня больше, нежели они, другие?» Потому что – если любишь, ты уже со Мною. Уже ничто не отлучит тебя от любви Моей: мы с тобой едины и потому ты тоже стал Богом.
Снова замолчал, сдерживая волнение. И снова заговорил:
– Да, ничто не отлучит – ни скорбь, ни теснота, ни комфорт, ни гонение, ни благоденствие, ни голод, ни пир, ни нагота, ни убранство. Потому что ты пребываешь во Мне, и Я – в тебе. Это, собственно, и есть жизнь, и нет никакой подлинной жизни, кроме этой, кроме любви... Все прочее – ад, смерть, тление, позор, вонь, деревенский сортир.
Такой словесный гибрид у него получился – «сортир villageois». К тому же по-французски его мысль звучала очень легковесно: «Dieu est Amour». Это в сочетании с гранеными стаканами, початой бутылкой, кривой лавкой и ржавым ножом тянуло на обычный русский застольный разговор.
– И что, ты здесь, в Уситве, – полюбил всех? Они хорошо приняли тебя?
Он махнул рукой:
– Это все равно, как они приняли, это все не то, не о том... Но я – да, полюбил. Иначе зачем я здесь? Зачем Бог меня сюда посылал? Зачем доверил мне их? Или так – доверил, а я их не люблю... Он любит, а я говорю – фи, я не люблю. Кто я? Разбойник и вор. Но я – полюбил! Каждую большую и маленькую бабулья, каждый дедок (это звучало совсем по-французски: dedoc) здесь полюбил, Бобыля, Мымрики, Лев Толстой, всю народность, которая называет себя mordva. Потому что понял, как всех любит Бог. Как же я могу не любить того, кого любит Он?
Меж тем – там, за окнами избы, начинало что-то твориться, происходить, послышался рев безумной машины с оторванным глушителем, визг тормозов, мельканье огней, крики людей... Я плеснула нам еще по глоточку, но он сказал:
– А как же проповедь? Ты лучше переводи и записывай. Давай сначала. Бог нас любит, как никогда никого никто. Да, именно так! Потому что именно нам Он благоволил дать Царство, украсить венцом, заколоть тельца упитанного...
Ну это уж было слишком!
– Не замай! – послышалось с улицы.
– Стоп, стоп, стоп, – сказала я, – так не пойдет. Так проповеди не пишут. Во-первых, ни твой дедок, ни твоя бабулья ничего не поймут. А во-вторых, если и поймут, как ты говоришь, душой, то сами испугаются – венец, телец... «Эх, куда загнул!» – подумает бабулья, не поверит. Нет, ты убеди ее чем-нибудь из ее жизни, из ее обихода. Ну вот, например, любит она своего драчливого петуха, гогочущего гуся...
Хотела еще сказать – грязного порося...
Но мне не дали довести до конца эту наглядную, но сомнительную аналогию, – в избу ворвался низенький лохматый мужик с небольшим горбом. «Бобыль, хозяин», – шепнул мне Габриэль.
– Наполеон, – закричал тот – посмотри, что там твои христиане творят!
– Что случиль? – вскочил испуганный Габриэль.
– Да Лexa, сторож твой церковный, дерябнул самогонки с шофером нашим и давай бузить. Влез в самосвал, завел его и теперь носится, как оглашенный. Никто не может его остановить. Собаку уже какую-то придавил. Глушитель, видать, сорвал: носится и ревет, носится и ревет. Тебя, Гаврила, зовут, чтобы ты их остановил.
Мы выскочили на улицу. Было уже темно. Габриэль погнался было за самосвалом, помчался в черную даль. Потом понял, что это бесполезно – гнаться. Лexe же самый интерес был носиться по деревне и потому он, выезжая из нее на шоссе, тут же круто и разворачивался, стремясь обратно. И Габриэль стал ждать. Караулить пришлось недолго: раздался рев, и самосвал с включенным дальним светом ворвался в село, подпрыгивая на колдобинах. Габриэль встал посреди дороги, поднял руки, требуя остановиться. Ночной пыльный ветер играл его подрясником, на котором серебрился большой иерейский крест. И вот Габриэль осенил себя крестным знамением, взялся одною рукой за крест, а другую, которой имел он власть благословлять и разрешать от грехов, выставил перед собой, и его ладонь приказывала: именем Господним говорю тебе – стой! Но безумец мчался, не сбавляя скорости, прямо на него.
– Габриэль, назад! – заорала я.
Но ему и самому вдруг показалось: вот оно, все, конец! Славно попутешествовал ты по святой Руси, Поль Делакруа, пер Габриэль, отец Гавриил, убогий француз, православный иеромонах, раб Господа своего! Славно попировал ты на Божественной Трапезе Господней! Много ты видел святых чудес и всяких земных диковин... Жаль только, не все успел сказать здесь о любви... Но всякому странствию на земле положен предел... Ибо сказано: «Кая житейская сладость пребывает печали непричастна; кая ли слава стоит на земли непреложна; вся сени немощнейша, вся соний прелестнейша: единым мгновением, и сия вся смерть приемлет...»
Чем-то таким на него вдруг повеяло – из иного мира, жаркой волной...
Но Господь сохранил. В самый последний момент выхватил его из-под колес, вдохнул силу и легкость отскочить в сторону, но так, что самосвал задел край развевающегося подрясника и обдал монаха своими парами, ветрами, гулом, безумием, грязью.
Габриэль, испуганно улыбаясь, вытер со лба испарину: «Слава Тебе, Господи!», сказал:
– Буду опять ждать здесь. Каждый раз буду так его останавливать, пока не придет в себя.
И он вновь перекрестился.
Действительно, минут через пять вновь послышался рев, и скрежет, и визг. И Габриэль вышел на дорогу, преграждая путь. Я кинулась к нему:
– Надо прямо на дороге развести костер! Не поедет же он в огонь.
Но было поздно. Грузовик уже шарахнул по нам дальним светом, и Габриэль пихнул меня в сторону, сам сделал в канаву сальто, а самосвал как ни в чем ни бывало лихо понесся дальше.
В сторонке сбились в кучу притихшие мужички и с интересом наблюдали картину.
– Обидно, – сплюнул один из них, по-видимому, шофер грузовика. – Только что заправил полный бак. Так что нечего рассчитывать, что бензин скоро кончится. Все три сотни километров может так гонять. Истратит весь.
– У тебя что, корова курит? – спросил у него Бобыль.
– Н-нет, – изумленно ответил тот.
– Тогда, значит, у тебя сарай горит, – хитро и многозначительно отрезал Бобыль.
Меж тем стали разводить костер. Наспех подкладывали в него бумагу, коряги, сучья. Бобыль приволок даже кусок старого штакетника. И теперь настоящее пламя бушевало посреди Малой Уситвы. А грузовик все не унимался. Словно Лехе даже и понравился такой дорожный бой. Он снова развернулся и помчался, как на тореадора разгоряченный бык. Но огонь преградил ему путь. И тогда он резко крутанул руль, засигналил, ударил по тормозам и врезался в сарай – прямо напротив избы Бобыля. И встал.
На него накинулись шофер и Бобыль, хотели было скрутить ему руки. Но он не сопротивлялся – он был мертвецки пьян. Достаточно было отворить дверь самосвала, чтобы он вывалился оттуда, как куль. Испугались даже, не помер ли он в аварии, уж не в обмороке ли... Потащили в избу, уложили на кушетку, и тут вдруг он раскрыл пьяные зенки и прохрипел:
– Врешь – не возьмешь!
Видимо, он, крутя баранку, действительно думал, что это такая игра, соревнование, мужская борьба...
Габриэль велел Бобылю запереть Леху в летней светелке, чтобы он проспался, а кроме того – хоть немножко побыл в заточении и почувствовал скорбь покаяния. Шоферу же, который все еще был очень даже не трезв, запретил до утра прикасаться к его самосвалу – пусть все так и останется, покуда не рассветет. Мужички нехотя разошлись.
Я отправилась ночевать в машину, загнанную во двор. Улеглась на заднем сиденье, подушечка там у меня красненькая, плед. Единственное, о чем я успела подумать, прежде чем уснуть блаженным сном, это о том, что ведь жития являют нам уже преображенный образ святого, жизнь его, очищенную от плевел: все там по своему чину, все на местах, сплошные колосящиеся злаки. А на самом деле, наверное, и к ним просачивался мир со своею непредсказуемостью, спонтанностью, с чем-то таким, что можно было бы назвать нелепостью, несуразностью, даже каким-то абсурдом, маразмом жизни...
Ну вот, скажем, какой-нибудь великий подвижник забрался на вершину, опустился в земную пропасть, укрылся в непроходимой пустыне, молится день и ночь, и вдруг кто-то его за плечо – цап. Нет, не искуситель, а так – озабоченный поселянин: «Мил-человек, ты тут не видел моей козы?» Начнет по келье шарить, под лавку заглядывать, в кружку смотреть, словно коза могла спрятаться там. Да еще привяжется – ну раз козы моей не видал, тогда купи у меня окуньков (грибков, войлока, ситца, пеньки, хомутов, сена, соли, кобеля, щегла). Словом, что-то такое повседневно-странное, житейски-нелепое, стойкое, живучее, пахучее, пресное, пряное, прорастающее через самые толстые стены и не ведающее – от лукавого оно или же от Творца, наверняка сопровождало и подвижника... И тут я провалилась в сон.
Но жизнь в Уситве все продолжалась. Только Габриэль наклонил голову к подушке, только закрыл глаза и начал было смотреть особые монашеские сны, как вдруг ему явственно послышался все тот же ужасный звук то ли мчащегося, то ли буксующего самосвала. Он полез в карман подрясника и нащупал ключ зажигания, который он взялся хранить до утра. Он с облегчением вздохнул и снова закрыл глаза. Но тут раздался ужасный треск, взрывы, рев мотора. Он вскочил и выглянул в окно – самосвал делал отчаянные попытки дать задний ход и выехать из сарая. В конце концов ему это удалось, и он вывернул на дорогу, переехал через потухший костер и унесся в даль. Габриэль как был – босиком метнулся к светелке. Дверь была распахнута. Лехи и след простыл. Но как же, – подумал Габриэль, – ключ-то ведь у меня! И тут, словно отвечая на его мысли, зевая и потягиваясь, Бобыль лениво проговорил:
– Да надо ж было скумекать! Он же народный умелец, этот Леха. Ему машину завести без ключа, как тебе два пальца, – тут он замялся, подыскивая слова, – приложить к третьему и перекреститься. Ей-богу, вот не сообразили. Да он проводки соединил напрямую – и был таков!
И Габриэль снова понесся в ночь. По счастью, самосвал был уже изрядно попорчен, и то ли бензин из него сам вытек, то ли что-то забарахлило в моторе, но он через сто пятьдесят метров намертво встал. Здесь Габриэль и отловил умельца. Взял его за ухо и привел назад.
И вот после этого случая с самосвалом все в деревне стали Габриэля побаиваться и уважать. Вот это по-нашему! Герой! Все-то, кто пил с Лехой, попрятались, а он... Ну, шофер – тот за свой самосвал переживал. А французу-то чего? Спал бы себе и спал. А он как наш славный Александр Матросов – грудью на амбразуру, как наш Гастелло – на таран... Пьяный Леха точно бы разбился, да еще покалечил бы односельчан... Даже Бобыль совершенно переменился к Габриэлю. Так наутро ему и выдал одобрительно, прищурясь хитро:
– А ты не так глуп, как я предполагал!
И никогда больше не дразнил его этим глупым Наполеоном, не тыкал ему ни битвой при Бородине, ни переправой через Березину, ни пожаром в Москве. А звал его почтительно: «отец Гавриил». И просил его забыть это глупое «Бобыль»:
– Павел я. Пашей и зови. И вот еще что, больше таких слов не употребляй, не надо тебе – все эти «западло», «бузить». Это все лишнее. Это не для тебя – у тебя ж сан!
Разобрал завалы в светелке, печку там выложил – живи, монах, а то все ютишься за занавеской, как мышь. Бабки стали молочко им носить каждое утро, яички, картошку, пирожки. Зачастили в храм. А службы там длинные, монастырские – целыми днями молился Габриэль, словно напрочь позабыв обо всем земном. Так и бабки по нескольку часов кряду по вечерам стоят... Габриэль пожалел их, соорудил, добрый плотник, скамейки – «бабулья, садись!».
Стали к нему, молитвеннику, заезжать паломники Свято-Троицкого монастыря... Из Льва Толстого ходили. Из Мымриков стали наведываться – то повенчать просили кого, то покрестить. И удивительно: так смотришь на них – ну вылитые мымрики, а как в храм Божий зайдут, как помолятся, как к иконе приложатся, как причастятся, так уже никакие вовсе и не мымрики, а прекрасные такие, пригожие люди, светлые лица, преображенные существа, можно даже сказать, «новая тварь»!
Потом из Москвы к нему потянулись. Стали в Уситве да в Льве Толстом заброшенные избы покупать... Тетушка из Франции прикатила, привезла денег на восстановление храма. Плавала в уситвенском озере, купалась в двенадцати источниках, стекающих в него и сливающихся в водопад. Похвалила:
– Да ведь эта вода целебнее, чем наша Виши.
Увезла с собой две бутылки во Францию, собиралась даже запатентовать...
А как же проповедь? Да никак. Так мы ее тогда и не сочинили. Потому что когда я наутро вновь приступила к нему – ручка, тетрадь, словари, он сказал, глубоко вздохнув:
– Ты прав. Тут нужен особый язык. А то они меня не поймут. Но это не французский, не русский, это другой язык, свой. Я еще не готов.
Открывая ворота и глядя, как я выезжаю на улицу, где вчера бушевал огонь, он вдруг крикнул мне:
– Но только это совсем не то, что ты сказаль – петух, гусь...
– Что-что? – сначала не поняла я. И вдруг вспомнила, засмеялась. Засмеялся и он, замахав рукой. Потом сложил пальцы, начертал в воздухе огромное крестное знамение:
– Чтобы ты не блудиль!
Так и стоял на дороге, глядя мне вслед, пока я не выехала на шоссе.
А между тем на Свято-Троицкий монастырь стали обрушиваться бесконечные несчастья. За мафиозо ли, за разгон ли монахов или за что-то еще – Бог весть. То на хоздворе взбесилась огромная монастырская собака – матерый «кавказец» – и загрызла насмерть молодого послушника. То в многовековой дуб ударила молния, и вниз рухнула огромная ветка, придавив садовника монаха Матфея, так что его, всего переломанного, уложили в монастырский лазарет. То послушник, оказавшийся из бывших уголовников, ткнул вилкой в бок своего соседа по келье – того самого старого чекиста, которого отец Филипп привозил к игумену Ерму.
Звучит это, конечно, очень страшно: бывший уголовник – ткнул вилкой в бок – старому чекисту – в монастырской келье – ай-ай-ай! Что же это за монастырь!
Но на самом деле этот грозный уголовник был несчастнейший человек. Угодил он в лагерь по «бытовухе» – за то, что дал в ухо своему соседу по коммуналке, между прочим, ударнику рок-группы «Паутина»: тот сидел у себя в комнате и постоянно репетировал на своих тарелках и барабанах. Все время слышалось его «бум-бах-трах-тарарах». И в конце концов схлопотал от соседа. А подружка ударника вызвала милицию и засвидетельствовала факт избиения, еще и навесила на него кражу денег. Вот он и загремел на три года. А они тем временем выписали его из квартиры, приватизировали ее и продали. И сами стали менеджерами этой рок-группы. А у него не осталось ни кола ни двора. По счастью, сидел он в лагере с каким-то верующим человеком, тот его и привел ко Христу. И он оказался в монастыре.
Вел он жизнь строгую и подвижническую – почти ничего не ел, не спал, не болтал, все только «да-да» и «нет-нет». Свою часть кельи занавесил простыней и молился за ней ночами, отбивая поклоны. Цепью вокруг чресел себя обмотал, по примеру древних подвижников. Говорил – самое слабое место это у человека: любая дрянь через это место к нему подход найдет. Но, по духовной неопытности, стал осуждать нерадивую братию: какие ж они монахи – вон брюхо себе набьют, языки начешут, спать завалятся – какая ж у них молитва? И подловил его лукавый на этом осуждении.
Как-то его сосед по келье – старый чекист – принес в келью четвертинку:
– Помянем мою жену, Катю-грешницу. Ни литургию по ее душе не могу заказать, ни панихидку, потому как сама на себя руки наложила. А так – по-свойски, келейно, почему бы не помянуть: сегодня ровно три года, как ее нет.
А уголовник, как пришел в монастырь, повторяю, ни капли не пил и жил впроголодь. А чекист ему:
– Ну не фарисействуй так уж. Сказано – надо душу свою положить за други своя... Понял? Душу! А ты глоток не можешь сделать по любви к ближнему!
После этого бывший уголовник сделал-таки глоток. А потом – еще один. А потом еще. Сидел, размахивал вилкой с соленым огурчиком. А у бывшего чекиста и еще один мерзавчик обнаружился... Ну и с пьяных глаз попер на бывшего уголовника:
– А ты что для Родины делал, когда я служил в разведке? Когда немецким коммивояжером притворялся? Когда шкурой рисковал, пробираясь в тылы врага? Ты на зоне грелся? У параши отлеживался?
Вот и схлопотал. Сбросил бывший уголовник с вилки огурчик да как ткнул ею в жилистый чекистский бок, – вилка аж погнулась, алюминиевая, хлипкая.
А старый чекист как заорет... На крик сбежались послушники, а Дионисий так даже подушкой стал вразумлять бывшего уголовника. А тот уже и сам сидит ревет в три ручья:
– Братия, простите меня, бес попутал! Это мне за то, что я вас осуждал! Только не сдавайте меня ментам!
Сдать – не сдали, но наместнику кто-то донес. И он устроил громкое разбирательство, так что история эта получила огласку вне монастырских стен.
Чтобы хоть на кого-то перевалить ответственность, наместник Платон влепил выговор иеромонаху Иустину – тот был духовником уголовника: «Как не предусмотрел?» А кроме того – «Каким образом оказался в чужой келье?» – наложил на Дионисия епитимью: ухаживать за больными чернецами в лазарете – мыть пол, выносить горшки.
Ну и хорошо. Там схимники лежат, немощные по плоти да полные духовных историй. Один все про апостолов рассуждал:
– Апостолы за Христом ходили, а ведь какие были еще несмысленные, дурные. Все сомневались, роптали, хотели раны Христовы руками потрогать... Иуда вообще продал Господа за тридцать сребреников, Петр от Него трижды отрекся, и все покинули своего Учителя еще в Гефсиманском саду. Грешные люди, простецы, мытари, рыбари... И что? Все, кроме предателя, покаялись, всем Господь дал силы пострадать за Него, всех спас, всех приблизил к Себе в Царстве Небесном. Вот и на нас, наверное, смотрят миряне, говорят меж собой: что такое эти монахи? Едят, пьют, суетятся, ссорятся, – какой в них прок? Чем же они лучше нас? Почему это Господь их так любит, почему это Он их слушает, освящает их Духом Святым?
– Да, вот именно, почему, за что? – неожиданно спрашивал Дионисий.
– За одно лишь твердое произволение Ему служить. Он позвал – ты пошел, не раздумывая. За то, что хотя бы раз в жизни имел решимость бесповоротно отказаться от мира ради Него. А там дальше – всякое с монахом может произойти: крутит его, вертит, трясет, мнет, гнет, ломает... Но если случится пасть – так сразу восстань и иди опять за Христом. Опять падешь – снова восстань. А снова падешь – опять восстань. А без этой решимости мы, монахи, кто? Так только – хорошие ребята, холостяки...
Подолгу сидел Дионисий при этом схимнике, воздыхал:
– Самое большое чудо состоит в том, что как бы христиане самыми хитрейшими способами ни пытались уничтожить Церковь, она – живет!
Потом монах Матфей его переманил. То все лежал, прильнув к радио, особенно его поразило пение скороговоркой, рэп. Он долго слушал, слушал, качая головой и ухмыляясь в бороду, наконец, пригласил и Дионисия, с уважением поясняя: «Дывись. Як пацаны балакають. Размовляють гарно». И вдруг решил, чтобы зря не терять время, обучить его китайскому языку – все равно хлопец без дела.
Китайский же язык отец Матфей осваивал когда-то в условиях пограничной службы на советско-китайской границе. Ему приходилось тогда часто ездить к китайцам и принимать их у себя, потому что на границе тоже шла нормальная жизнь: обмен товаров, перебежчиков и даже рыбацких лодок, заплывших в неположенные места.
Почему-то те два-три десятка слов, которыми располагал отец Матфей, настолько пришлись ему по сердцу, что он с любовью повторял их и в дни своей монашеской жизни.
– Ну що таке – янь? – спрашивал он Дионисия.
– Не знаю, – с улыбкой признавался Дионисий.
– Це – тютюн.
– Тютюн?
– Тютюн!
– Интересно, – качал головой Дионисий.
– Повторь ще раз, – требовал отец Матфей. – Янь.
– Янь, – послушно повторял Дионисий.
– Гарно, – одобрил его Матфей. – Ну а що таке, напрыклад, цин-нянь?
– Не знаю, – простодушно засмеялся Дионисий.
– Хлопец.
– Хлопец?
– Хлопец. Парубок.
– Хорошо.
– Як?
– Звучит, говорю, хорошо.
– Добре, – кивнул Матфей.
– Ну а як буде – добре?
Дионисий пожал плечами.
– Хао.
– И это неплохо, – хохотнул Дионисий.
И так они учили по-китайски и «ни-хао», что означало «здоровеньки булы», и «цун», то есть «цыбулю», и «ту-доу», то есть «бульбу», и даже «гу-нян» – «дивчину», но тут старый схимник не выдержал и запротестовал:
– Это-то зачем ему знать, монаху, тем более по-китайски!
А Матфей настаивал, что это очень даже может ему пригодиться, если ему придется эту китайскую «гу-нян» «врозумляты».
Словом, было там, в лазарете, Дионисию и спокойно, и хорошо. Казалось, наместник забыл, что есть такой монах – Дионисий, что в монастыре есть свой иконописец. Бессрочная какая-то получалась епитимья. А когда она кончилась, оказалось, наместник уже поменялся и пасет на дальнем пастбище коз.
Потому что первого сентября на открытии городской школы директор, учителя и ученики решили поставить нечто вроде спектакля. И вот собрался почти весь Троицк – дети, родители, члены городской администрации и просто все кому не лень. И директор стал приветствовать собравшихся, почему-то одевшись Зевсом, отцом олимпийских богов. А завуч изображала собой Афину-Палладу, мерзость языческую. А школьный бухгалтер была Геей, а учитель математики уверял, что он – Аполлон. А глава администрации был Прометей. И он зажег огонь, символизирующий олимпийский, и передал, как он сказал, «эстафету» первой ученице города. И дети, выстроившись линейкой, стали декламировать «монтаж» – какие-то стишки, где упоминался Храм Науки и фигурировали имена языческих богов. И на головах детей были надеты венки, как у мифологических героев. И все это шествие продефилировало в здание школы под бурные аплодисменты. И вот все это стало известно в монастыре.








