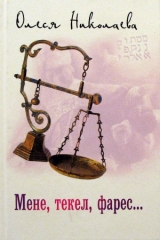
Текст книги "Мене, текел, фарес"
Автор книги: Олеся Николаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
– Номер один. У нас община разбита на десятки – для легкости административного управления. Во главе каждой стоит свой общинный пресвитер. А здесь у нас – десятка номер первая, которую возглавляю я. И потом она – эта из пятнадцатой десятки – пустила слух, что перед ее носом захлопнули дверь и что я был почему-то в лиловом фраке, а Павел Петрович называл меня то ли «мастер», то ли «маэстро»… Про нас много небылиц рассказывают. Так что вы уж сами понимаете – как говорится, ешь пирог с грибами, держи язык…
– За зубами! – угадала Анна. – Но заявление о вступлении к вам что-то уж очень меня смущает.
– Так было до революции, – пожал плечами отец Петр, – все были прикреплены к определенному приходу, существовали списки…
Меж тем стали пребывать члены десятки. Прежде всего – семейная пара журналистов. Он – длинный, нескладный, тонкая, бесконечная, готовая сломаться шея, бесцветные глаза-губы-волосы, дохляк; она – низенькая, румяненькая, плотненькая, испускающая флюиды уверенности и какой-то основательности своего существования.
– Журналисты. Муж и жена.
Они так и представились нам с Анной.
Потом появился какой-то очень активный и очень сильно заикающийся молодой человек по имени Гриша, который сразу стал осаждать отца Петра вопросами:
– Что у нас сегодня на повестке? Будет ли доклад о ситуации? Есть ли план реагирования на инсинуации?
Все эти слова давались ему с великим трудом, а на «ситуации» и «инсинуациях» он и вовсе забуксовал… Судя по всему, был он человеком без определенного рода занятий, так – профессиональным лаврищевцем.
– Сильное-то какое заикание, – сочувственно кивнула на него вошедшая следом пожилая женщина.
И тут же отрекомендовала себя нам:
– Зоя Олеговна, заслуженный врач-психиатр на пенсии, эксперт высшей категории.
Отец Петр терпеливо дождался, когда Гриша наконец расправится со словом «ситуация», и ответил, зябко потирая ладони:
– Разумеется, о ситуации будет доложено и будут поставлены на обсуждение необходимые меры для ее устранения. Но четкой повестки у нас на сегодня нет. Будет собрание, будет трапеза любви, будет прием нового члена, будет нечто вроде экстренного доклада и прения.
Векселев меж тем поставил на стол огромный золоченый потир – церковную чашу, в которой содержатся хлеб и вино, пресуществляемые за Евхаристией в Тело и Кровь Христову. В чашу он влил две бутылки красного сухого вина и принес серебряный подносик с большой девятичинной просфорой – такой, на которой служат литургию. Возле нее на подносике лежало и копие – острый ножичек, которым она должна быть раздроблена. На противоположном конце стола появился другой серебряный поднос с горкой простых белых просфор, а кроме того он поставил по обе стороны стола два подсвечника с восковыми свечами.
– Письмо надо написать. Коллективное, – сказала журналистка. – Да, коллективное и открытое. Побольше знаменитостей. Надо постоянно будоражить общественное мнение. Будировать и будировать. Гласность. Артиста Быкова беру на себя, есть у меня кое-какие выходы на него.
Она возбужденно поглядывала в нашу сторону, словно пытаясь немедленно вовлечь нас в живую жизнь общины.
– Никулину можно дать, – присоединился к журналистке-жене журналист-муж. – Хороший мужик. Прийти к нему якобы за интервью, объяснить ситуацию, сказать: вот Быков уже подписал. Подпишет! Да и интервью заодно. Чтоб – без обмана. Чтоб – по-честному.
– Дельно, – согласился отец Петр.
– Конференцию бы устроить, корреспондентов пригласить, – вставил Урфин Джус. – Надо, чтобы прогремело.
– Прогремит, прогремит, – пообещал отец Петр
– Ухнет и разорвется, – в восторге подхватил Гриша. – Пойдут клочки по закоулочкам.
Все облегченно вздохнули, как только ему удалось закончить фразу: многословие в его случае томило и даже ранило.
– А что ваш муж – может, он подпишет? – мягко спросил Анну отец Пётр. – Стрельбицкий – это имя.
– Стрельбицкий? Это какой? Неужели Май? – вскинулась журналистка.
– Стрельбицкий – это марка, – кивнула Зоя Олеговна, врач-психитатр.
Словом, что-то здесь готовилось, помимо вечери любви, что-то происходило, какая-то борьба, какая-то акция, а мы с Анной пока еще ничего не поняли.
– Вы не знаете, нас гонят, нас притесняют. Мы восстанавливали Рождественский монастырь, а теперь его решили отдать другим! – разгадав наше недоумение, пыталась нам что-то объяснить Зоя Олеговна.
– Говорят, какого-то махрового ортодокса сюда назначили из Тьмутаракани, красного попа, – сжимая плотненький кулачок, обиженно проговорила журналистка.
– Но мы не сдадимся! – крикнул Гриша и заходил ходуном от речевых усилий. – Мы будем бороться! Мы будем реагировать релевантно! Мы ему такой прием окажем, что лучше бы ему не родиться!
– Вот, общественное мнение возбуждаем. Эти ведь закосневшие, а мы хотим реформ, за это на нас и гонения, – присоединился журналист.
– Похоже, мы попали к ним на летучку, – шепнула мне Анна. – А теперь они хотят отправить нас на театр военных действий. Во главе со Стрельбицким.
– Вы люди умные, интеллигентные, надеюсь, все станет вам понятно по ходу дела, – спокойно заметил нам отец Петр.
Меж тем гости пребывали. На сей раз двери распахнулись, и в них показался главный редактор Грушин. Обычно надменный, чванливый, сейчас он держался просительно и растеряно:
– Так боялся опоздать на столь важное священнодействие!
– Поздравляю вас с предстоящим вступлением в нашу общину, – поприветствовал его отец Петр. – Вы сегодня причастились у нас святых Христовых Тайн, а сейчас вы примете участие в восполняющей таинство трапезе любви. И вот – вы один из нас.
И тут Грушин увидел меня и Анну. Изумление изобразилось на его холеном лице:
– Как, и вы с нами? И Стрельбицкий! Ну вот сюрприз так сюрприз!
– Мы сами по себе, – дернулась вдруг Анна, поджав губки. – Просто сидим и смотрим. А что вам Стрельбицкий? Он все равно никогда не подписывает коллективных писем!
– Письмо может быть индивидуальным, – пожал плечами Векселев.
– Вот, прошу принять от меня заявление, – сказал Грушин, доставая из дипломата большой белый лист. – Прошу присоединить меня к полным членам святой Христовой Церкви в лоне Рождественского братства, состоящего под водительством иерея Петра Лаврищева. Так? Подпись. Дата. А что – и сам Михал Михалыч будет? Культурнейший человек.
– Один из основателей нашего братства, – кивнул отец Петр. – Только что прилетел из Бостона и сразу к нам. Академик Рачковский, слышали? – обратился он к нам с Анной.
– Здесь собирается цвет нашей интеллигенции, – вставила журналистка. – Самая, так сказать, элита.
– Духовная элита, – поправила ее врач-психиатр. – Элита элит. Ну что мы без нашей духовности, так ведь? А над чем сейчас работает Стрельбицкий, можно поинтересоваться?
– Стрельбицкий сейчас не работает ни над чем, – сухо ответила Анна.
Ей уже все здесь не очень-то нравилось, она терпеть не могла возбужденного духа общественной активности, она ерзала, ей хотелось уйти, но все же ее удерживала здесь надежда, что худо-бедно, а Стрельбицкого этот начальник общины все-таки покрестит.
– А что ж он делает? – спросил Гриша. – Как же он себя позиционирует?
– Да никак. Ест, спит, дышит, – отрезала Анна.
– Расскажите же о вашей общине, отец Петр, – попросила я, испытывая некоторую неловкость за раздраженный тон Анны, а кроме того – желая удовлетворить любопытство своего духовника.
– Весь наш приход, – с готовностью откликнулся отец Петр, – разбит на десятки. Во главе каждой «десятки» стоит пресвитер-харизматик. То есть канонически рукоположенный пресвитер у нас только один, ваш покорный слуга, но таких десяток у нас уже – сорок две, есть и в других епархиях открытые нами филиалы нашей общины… Понимаете, мы исходим из того, что община – это уже не часть целого, а сама являет собою это церковное целое, то есть она представляет собой уже не отдельный приход, а воистину Поместную Церковь во всей ее полноте. Исходя из этого, мы, уповая на харизматичность истинных рукоположений, позволяем себе как предстоятелю этой Церкви совершать хиротонию и поставлять своих пресвитеров. Ибо в любом случае ее единственным Главой является Сам Бог во Христе через дар и дары Святого Духа. А Дух дышит, где хочет, – мягко завершил он.
– Дух дышит, где хочет, – затаив дыханье, повторила врач-психиатр.
– Дух дышит, где хочет, – жестко произнесла журналистка и вдруг расплакалась.
– Дух дышит, где хочет, – торжественно возвестил Грушин, – Отец Петр, – это потрясающе! Это переворот в богословии! То есть вы и есть единственный епископ нашей Церкви!
– Релевантно! – выкрикнул Гриша.
– Наверное, это все-таки пятидесятники, – с сожалением прошептала мне на ухо Анна.
– Разумеется, внутри общины существует высокая морально-этическая дисциплина, постоянное обучение более слабых братьев по вере, система духовного образования, наконец, агапы – вечери любви. Наши ячейки множатся, и в скорости их сеть раскинется по всей России и даже зарубежью. Разумеется, все они включены в состав нашей единой Рождественской общины, которая интегрируется во Вселенскую Церковь. И кто знает, может быть, вскоре наша община вытеснит с исторической арены Русскую Православную Церковь.
– А теперь нас хотят стереть с лица земли! Раздавить! – закричал Гриша. Он так мучительно выговаривал последнее слово, что казалось, от этого страдало все его тщедушное тело.
– Это у него невроз, – кивнула своим мыслям Зоя Олеговна.
– Поход реакционных сил, – добавила журналистка.
– Действующих по указке КГБ, – пояснил журналист.
– Без них не обошлось, – понимающе кивнул Грушин.
Он вдруг почувствовал себя в центре внимания – действительно, все глядели теперь на него. Неожиданно он разволновался, машинально взял с подноса одну из небольших просфорок и стал грызть ее, как печенье.
– Так это ж на агапу, – вскричала врач-психиатр. – Это ж пища духовная…
– Ничего, – снисходительно отметил отец Петр, – не человек для агапы, а агапа для человека.
– Мы рассчитываем на вас, – сказал ему Урфин Джус.
– Понимаю, берусь опубликовать в журнале проблемную статью.
– Будем давить прессом прессы, – ухмыльнулся журналист.
– Четвертая власть, – пояснила журналистка.
– Хорошо б зарубежье откликнулось, – сказал Урфин.
– Это будет такой резонанс, – кивнула Зоя Олеговна и обратилась к нам: – А вы что скажете?
– Ах, так вы все в борьбе, гонят вас, – понимающе кивнула Анна. – Но как это все-таки не вовремя!
Наконец-то появился академик Рачковский. Дружно ухнув, все выбежали из комнаты его встречать.
– Пока шел к вам, братья и сестры, – начал он с порога, – у меня вертелась все мандельштамовская строка «Я буду метаться по табору улицы темной». Вам не приходило в голову, что по латыни Фавор читается именно как «табор»: То есть греческая фита, как мы ее читаем по Рэхлину, дает латинскую тэту в прочтении Эразма. У нас, выходит, фита, у них – тета. Теперь смотрите далее. У нас – вита, у них – бета. У нас – Фавор, у них – Табор.
– Так это что – даже табор темной улицы может быть преображен в Фавор? – спросил Грушин.
– Хотите с морозца чайку? – предложила Зоя Олеговна.
– Чайку, чайку, – кивнул отец Петр.
Она принесла Рачковскому чашку чая, положила в розетку варенье.
Все вдруг замолчали и дружно наблюдали, как Рачковский дует на кипяток, как накладывает варенье в чай. Как отпивает, морщится, приговаривает:
– Горячо, горячо.
– Михаил Михайлович, – нарушил паузу отец Петр. – Позвольте довести до вашего сведения некоторые подробности. С одной стороны, сейчас повсеместно, буквально во всех храмах, развилась новая ересь: послушание иерархии. То есть как иерархия скажет, так и поступай, так и служи. И этой ереси надо как-то противостоять. А с другой стороны, напомню вам, что наша община, состоящая из цвета московской интеллигенции, с самого начала своего существования находилась под пристальным вниманием органов и косыми взглядами священноначалия.
– Разумеется, – подтвердил Рачковский, – священноначалие поглядывало на наши реформаторские начинания подозрительно и, как вы выразились, косо. Как это у Овидия: ан нэсцис лонгас рэгибус эссе манус...
Все уважительно закивали и многозначительно переглянулись.
– Я по-латински ни бум-бум, – успела шепнуть мне Анна. – Но что-то у них явно не так. Еретики, может быть. Для Стрельбицкого все пропало. Не поведу ж я его крестить к раскольникам!
– Где больше двух, там говорят вслух, – укорила нас Зоя Олеговна. – Это признак невроза – шептаться в обществе.
– От косых взглядов они перешли к погрому, – выкрикнула в сердцах журналистка.
– Они у нас отбирают Рождественский храм, церковный дом, разгоняют общину, мы вот-вот окажемся на улице, – горячо продолжал журналист.
– Как, на улице, у нас же два храма, что, и Введенский храм тоже отбирают? – встрепенулся Рачковский.
– Михал Михалыч, простота, – печально покачала головой Зоя Олеговна. – Ну причем здесь Введенский храм?
– Ты что-нибудь понимаешь? – спросила меня на ухо Анна, тревожно поглядывая на Зою Олеговну. – Почему у них два храма? Говорю тебе – это секта.
– Так он принадлежит общине или нет? – спросил Рачковский, перекладывая в чашку остатки варенья. Большая густая капля, не удержавшись на краю ложки, шлепнулась на бархатную скатерть.
Рачковский чуть съежился и прикрыл ее блюдцем.
– Принадлежит, – ответил Урфин, – но, во-первых, тут дело принципа: раз они один храм отбирают, в любой момент отберут и другой…
– У вас вареньице капнуло, – заметила Рачковскому Зоя Олеговна.
– Где? – удивился он, оглядывая скатерть вокруг блюдца.
– А вы блюдце на него поставили, – не сдавалась она.
– Ты мне скажи, просить мне отца Петра покрестить Стрельбицкого или не связываться? А то втянут они его в свою борьбу, – снова боязливо шепнула мне Анна.
Я пожала плечами.
– Ладно, – вздохнула она, – что делать – буду тайно молиться отцу Киприану, чтобы он подал мне знак.
– Нас гонят, – простонала журналистка. – При чем здесь Введенский храм?
– Так он остается нам? – с облегчением вздохнул Рачковский, вытирая рот.
– Как вы не понимаете, – с досадой воскликнул Урфин. – Мы московскому духовенству – темному, необразованному, консервативному, как бельмо в глазу. Их раздражает, что у нас своя община, что мы все реформируем, что у нас свое богослужение, русский язык, агапы и, между прочим, и то, что вы, Михал Михалыч, у нас проповедуете и читаете лекции!
– Что ж, – заключил Рачковский – тут надо бороться. Мое содействие.
И он приложил обе руки к сердцу.
В конце концов чашка с розеткой были унесены, пятно оттерто. Урфин зажег семь восковых свечей.
– Формально вы еще, конечно, не члены общины, вы пока что не просвещены, не приобщены, но по закону любви, чтобы вы не остались обделенными на нашем празднике, вы тоже можете участвовать в нашей священной агапе, – обратился к нам отец Петр, – Милости просим.
– Большое спасибо за ваше великодушное предложение, но мы пока не готовы, – отозвалась Анна, которой отец Киприан, по-видимому, еще не подал знака.
– Но вам оказана такая честь, как можно, – покачала головой Зоя Олеговна.
Отец Петр медленно и торжественно влил вино в золотой потир. Все поднялись с места и пропели «Отче наш», после чего опять сели, сложив на коленях руки.
Стало так тихо, что часы в углу мгновенно наполнили комнату своим однообразным мерным звуком. Слышно было, как трещит горящий фитиль, оплывая воском, да шуршат за окном машины по мокрому асфальту осени.
– Господи Иисусе Христе, – начал отец Петр, держа на весу чашу и воздевая ее горе, – взгляни на нас, здесь сошедшихся на вечер воспоминания о Тебя, на трапезу любви, сделай нас достойными Твоего присутствия и причастия, пошли нам Духа Твоего Святого, – да осенит, да просветит, да подаст нам Свои святые дары в восполнение церковных таинств, да удостоит Своей харизмы, да причислит нас к царственному священству Небесной Церкви, да тайноводствует нами в деле познания дел и путей Твоих! Христос посреди нас!
– И есть, и будет! – глухо подхватил Урфин
– И есть, и будет, – нестройно зазвучали голоса.
– И есть, и будет – с расстановкой произнес Рачковский.
Отец Петр поднес чашу к губам и отпил, закрыв глаза. Когда он их наконец открыл, в них был какой-то новый блеск. Молча он вручил чашу Урфину. Тот что-то внутренне про себя произнес, перебирая губами, и благоговейно припал к чаше. Потом передал ее Зое Олеговне, и так – по кругу. Все сидели торжественные, напряженные, притихшие. Словно это действительно было подлинное церковное таинство... Наконец, чаша настигла Анну. Она взглянула на меня беспомощно, я поняла, что отец Киприан так и не открыл, как ей подобает действовать, так и не подал весть… Она подержала чашу перед собой, потом решительно тряхнула головой и спросила почти отчаянно:
– А как у вас дела с женским священством? Дозволено ли оно? Мне, например, можно когда-нибудь стать священницей или же нет?
– Ах, вот что вас волнует, о чем вы думаете перед чашей! – улыбнулся Лаврищев. – Хотя традиционная Церковь поставила на этом крест, мы полагаем, что это возможно. Во всяком случае, никаких догматических препятствий для этого нет. И наша община старательно вынашивает эту идею, полагая, что в скором времени она может быть воплощена. Вы хотите стать священницей? Так приобщитесь и станьте ей! Вы удовлетворены?
Анна торжественно поставила чашу и резко поднялась со стула:
– Благодарю вас за то, что вы были с нами столь откровенны и ответили столь искренно. Да, я удовлетворена. Мне все абсолютно ясно!
И она, как и благословлял ее когда-то отец Киприан, ринулась вон из комнаты. Я помчалась за ней.
– Что это с ними? – послышалось нам вслед.
– Это их благодать гонит отсюда. Невроз, – заключила врач-психиатр.
– Может, и невроз, – вздохнула Анна, когда мы выкатились на улицу, – но я им не могу доверить Стрельбицкого!
Вскоре они добыли ее телефон, звонили – и Грушин, и журналисты, и сам Урфин Джус. Просили что-нибудь новенькое из Стрельбикого – опубликовать, почитать, дать интервью, справлялись о ее здоровье, предлагали на подпись какие-то письма, звали на очередную агапу, приглашали Стрельбицкого выступить перед собранием общины, передавали поклон и благословение от отца Петра, но Анна отвечала им холодно и непреклонно:
– Новенького ничего нет, здоровье нормальное, коллективки не подписываем, Стрельбицкий сейчас не выступает, отцу Петру – ответный же поклон.
В конце концов, она сказала мне:
– Отвези-ка ты его к тому священнику, к игумену Ерму, который обещал ему когда-то беса показать. Все несчастья же с этого начались! Стрельбицкому он тогда понравился, говорит – интеллигентный, тонкий, большой церковный чин, а совсем не похож на попа…
И Стрельбицкий согласился. Во-первых, он любил путешествовать на машине, а во-вторых, это уж как-то очень романтично – суровый скит, занесенный снегом, кромешная тьма ноября, богослужения при свечах, монастырская трапеза, ночлег в келье, экзотика. Сказал – поедем, только на один день – переночуем и – назад.
Ехали долго, трудно – гололед, метель. Стрельбицкий без конца перечислял свои претензии к Церкви: вот он читает прессу, а там то епископ окажется голубым, то настоятель проворуется, то монах какой-нибудь сопьется. А сотрудничество церковников с КГБ?
Снег залеплял стекло, и дворники не справлялись с ним, расчищая лишь узкое оконце. Припав к нему и судорожно вцепившись в руль, я все-таки не выдержала, сказала Стрельбицкому:
– Так Церковь их сама и осуждает за это! А если они покаются, то простит. Простит совершенно. И если у вас такой строгий церковный взгляд на человеческие грехи, то приходите же вы со своей святостью, со своей чистотой, со своей любовью! Со своей аскезой, со своей милостью, со своей мудростью, и – вокруг изменится все! Может, этот епископ тогда пребудет в целомудрии, священник – в нестяжательности и монах – в трезвости. Тысячи спасутся вокруг вас.
Он хмыкнул.
Добрались к самому концу всенощной. Отец Ерм пригласил нас на скудную трапезу, но Стрельбицкому здесь уже все понравилось – и резной деревянный стол, и самовар, и скитский серый хлеб.
– Я была у Лаврищева, – шепнула я походя отцу Ерму. – У него все очень просвещенные и высококультурные. Во-первых, они молятся «о хорошей погоде», вместо «благорастворения воздухов», а во-вторых, я узнала, что могу стать священницей, если запишусь в члены его десятки.
Кажется, он ничего не понял. Сделал такие большие, просто огромные глаза.
– Я интересуюсь верой, – сказал ему Стрельбицкий, – и сам верую, но в меру. То есть в гору, которая может ввергнуться в море, если ее об этом попросят с верой, – никак не могу поверить, простите за тавтологию. Ну я вроде как Иван Карамазов. Он тоже в горе сомневался. Может, это какие-то фигуральные горы?
Анна встряла в разговор и пристыдила Стрельбицкого:
– Какие еще фигуральные, Май, что ты такое несешь? А Чермное море, которое расступилось, чтобы пропустить Моисея и снова сошлось, чтобы поглотить фараона? А Иисус Навин, остановивший солнце. А Петр, ходящий по водам?
Стрельбицкий поморщился:
– Это я знаю, ты сама мне рассказывала, – так вот: в такие чудеса я не верю.
– А во что вы верите? – серьезно спросил отец Ерм.
– Верю, что мертвые могут подавать знаки из загробного мира, – моей жене один покойный старец без конца дает какие-то указания с того света. Спросите у нее. Верю, что мысли могут передаваться на расстоянии: я вот сам хотел попасть в какой-нибудь такой тихий заброшенный уголок, не тронутый цивилизацией, и вот меня тут же под белы руки сюда и привезли. Верю, что много есть таинственного, необъяснимого в этом мире. Верю, что есть высший разум, который всем управляет. Но в такие материальные дива – нет, не могу поверить.
– Ну прямо как иудеи, которые просили у Христа знамения с неба, – опять, горячась, встряла Анна. – Говорили: дай нам знамение с неба, тогда уверуем, что Ты – Сын Божий.
– Да, – вскричал Стрельбицкий. – Именно так. Я хочу знамения с неба! Я хочу, чтобы гора на моих глазах сдвинулась и пошла. Чтобы море прямо передо мной расступилось. Чтобы солнце остановилось на небе.
– И тогда уверуете в Господа? – спросил отец Ерм, точно так же, как в прошлый раз.
– Уверую! – твердо произнес Стрельбицкий. – Тогда уж точно уверую.
– И покреститесь? – снова спросил отец Ерм.
– И покрещусь. Все сделаю, как подобает. Ничто меня не остановит.
И отец Ерм сказал:
– Ну, теперь ждите!
И он стал молиться за Стрельбицкого, чтобы Господь явил ему что-то в этом роде. Чтобы Господь снизошел к его немощи. Потому что ему было жалко, что эта душа может погибнуть из-за своего упрямства. Ну хочет он луну с неба, так дай ее ему, Господи, во славу Твою!
И что вы думаете? Господь услышал молитву игумена Ерма и через каких-нибудь два года исполнил то, о чем он Его просил. Летел Стрельбицкий в Гамбург по литературным делам. Было это бурным ноябрьским вечером, и облака клубились возле иллюминатора – багровые, оранжевые, ярко желтые и черные, тревожные черные облака: безумные тучи, через которые пробивалась буря, горела гроза, шел небесный бой. И внезапное волнение передалось Стрельбицкому. Он почувствовал, что и в нем идет битва, и в нем клубится чернота, горит смятенный огонь, ветер задувает свечу. И так эта картина за самолетным окном показалось сродной его душе, что решил он оставить ее себе навсегда. Он вытащил фотоаппарат и стал щелкать, щелкать: и так, и эдак, и вдоль, и поперек. И, отсняв пленку, отдал ее прямо тут же в Гамбурге проявлять и печатать. А сам свалился с безумной температурой, и дела его были так плохи, что пришлось срочно вызывать в Гамбург Анну. Когда она приехала, его уже перевезли в больницу. Какой-то острый воспалительный процесс… И вот почему-то, лежа в полубреду, он сразу попросил ее забрать из проявки снимки. А она все медлила, все не могла их забрать, потому что сидела возле него весь день, и лишь на ночь ее сменяла сиделка. А он спрашивал каждый раз:
– Ты забрала фотографии?
Наконец она ответила почти с раздражением:
– Какие фотографии? О чем ты? Подумай о себе!
Но все-таки забрала. Отдала их ему, даже не взглянув. И он сразу стал искать среди них свои воюющие облака. И, найдя, ахнул. Внизу все было черным-черно, но рваная тьма постепенно расходилась, и из нее появлялись кипящие и смятенные багровые, оранжевые, желтые клубящиеся тучи, сулящие бурю и великие потрясения. Но дело было даже не в этом: из них явственно выступала фигура в белом хитоне, спадавшем вольными складками. Именно она и рассекала кромешную тьму, готовую все поглотить. Именно она уже вела за собой эту мятущуюся охру, золото, воинственный пурпур. Было видно уже округленное плечо и широкий рукав, и даже тонкое запястье, и этот единственный, угадываемый, характерный шаг, принадлежащий Христовой поступи. И хотя лицо было сокрыто в облаках, но все Тело было уже явлено, Оно было одушевлено, Оно пребывало в движении. Оно все было обращено сюда, к Стрельбицкому, к нам. От Него исходила всепобеждающая Сила и Власть: казалось, то Сам Господь обходил Свое Царство и, желая спасти Свое создание, из самой бури являл Себя смущенному маловеру, дабы тот «не был неверен, но верен».
Потрясенный Стрельбицкий сказал Анне:
– Покрести меня. Я готов. Жалко, времени уже почти нет!
– Ты не умрешь! – закричала она.
Но он твердо повторил:
– Сделай со мной все, как подобает. Как должно. Как это делается в церкви. И пусть я буду Андрей.
Тем же вечером она достала в греческом храме крещенской воды и трижды покропила ею мужа, торжественно и отчужденно произнося над ним крещальную формулу.
Через три дня он умер, новокрещеный Андрей.
Его тело Анна перевезла в Москву. На отпевании в церковной толпе я увидела Урфина Джуса и Грушина. Грушин протиснулся ко мне и сказал, делая плаксивое лицо:
– Жаль, что он так и не успел приложиться к нашей общине!
Анна потом размножила эти фотографии, и они разлетелись по монахам и благочестивым мирянам. Одну из них я увидела совсем недавно в Подворье Троице-Сергиевой Лавры. Мы разговаривали с наместником, и тут, держа благоговейно на ладони снимок Стрельбицкого, вошел потрясенный молодой иеромонах, чтобы показать нам Живого Бога.
СКАЖИТЕ ЭТОЙ ЛИСИЦЕ, ИРОДУ
Некогда весьма долгое время моим духовным отцом был игумен Ерм, иконописец. Все вызывало в нем мое благоговение: и его целомудренная подвижническая жизнь, и его внутренняя крепость и цельность – без всяких там невротических двоящихся мыслей и расколотости воли, и его вдохновенный вид, и его безупречный вкус… Но может быть, более всего – его дерзновенное служение Христу, его готовность к подвигам: какая-то ослепительная грандиозность была всегда в его замыслах… Вот и своих духовных детей он воспитывал в этой готовности: мы вечно что-то преодолевали, бегали от мира, сражались с искушениями, пытались «отвергнуться себя» и совершить нечто, превосходящее человеческую норму. И мне это было очень по душе.
Потому что я, как и Алеша Карамазов, тоже не могла согласиться с тем, как можно евангельские слова Христа о том, чтобы раздать все, взять свой крест и следовать за Ним, понимать исключительно как указание посещать воскресную обедню и ставить перед распятием трехрублевую свечку. Нет, раздать все – значит не оставить для себя ничего, взять крест – значит страдать, и задыхаться, и изнемогать, а следовать за Ним – значит полностью отдаться в Его милосердные руки.
– Учтите, – говорил игумен своим ученикам, – в эти лукавые времена от Христа можно невольно отречься – так, между делом. Даже и не заметить этого. Важен непрестанный подвиг исповедничества.
На меня это произвело сильнейшее впечатление. И однажды, когда журнальный редактор прочитал мои стихи и спросил с ухмыляющимся, каким-то блудливым выражением лица: «И ты что, правда, веришь?», я ответила совсем не в тон его глумливой интонации, – серьезно и даже торжественно: «Верую и исповедую!» И при этом встала со стула.
И вот отец Ерм давал мне всякие трудноподъемные духовные задания. Даже то, что наказал мне приезжать к нему на исповедь в Лавру первой электричкой. Надо было выйти из дома часа в три ночи, доковылять до вокзала и к пяти часам утра – сквозь ледяную пургу – добраться до церкви, где уже поджидал меня мой духовник. И так – дважды в неделю. То он благословлял меня причащаться каждую великопостную литургию, и мы постились, как постятся отшельники, то молились до изнурения плоти…
– Причащайтесь, – говорил он, – только обязательно каждый раз тщательно готовьте себя к этому, чтобы это не превратилось у вас в привычку!
Много было у него ко мне практически невозможных поручений. То он собирался открыть скит на Мезени и посылал меня туда на разведку, то давал послушание выучить чуть ли не в одночасье древнегреческий. То поручил мне достать подложный паспорт кавказскому подвижнику. То дал мне задание расследовать… убийство Александра Меня и «отыскать убийц».








