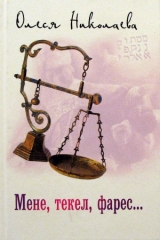
Текст книги "Мене, текел, фарес"
Автор книги: Олеся Николаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
И все же мне было не по себе. Какое-то было чувство, словно я солгала. Ни слова не сказала неправды, а солгала. Да, бывает и так... А что – разве я с этимехала к отцу Ерму, разве этосмущало меня?
Петрович, так наглядно, так образцово принявший добровольное мученичество и как бы даже склонившийся долу, вдруг вскинулся:
– Ну, теперь давай я тебе скажу, кто от Бога, кто нет.
– Да вы уже все мне сказали – в прошлый раз.
– Все равно – давай, задумывай!
Я подумала об Анне Стрельбицкой.
Он раскинул руки, воздел их горé и – просиял, закивал:
– От Бога, от Бога! А теперь – еще...
Я подумала об отце Ерме. И тут он затрясся, заходил ходуном, руки его неестественно вывернулись, и он заорал:
– Бруэ! Бруэ!
Я разозлилась:
– Тоже мне – духовидец! Нечестно! Только недавно было же все ровно наоборот!
Но он все кричал это свое «бруэ, бруэ!», как настоящий безумец, я даже испугалась – не вернулся ли в него старый бес, изгнанный старцем Игнатием. Но тут лицо его прояснилось, он опустился на стул и вздохнул:
– Даже не знаю, кто это мне все подсказывает? А хочешь, себя теперь загадай...
– А что, отец Ерм знает про эти ваши загадыванья?
– А как же, – он смиренно опустил глаза, – сразу, как услышал от меня про осенение, про Папу спросил.
– А вы что же?
Он замялся:
– Ну я и сказал: от Бога он. А отец Ерм кивнул с довольным видом: вот-вот. Но только, – и тут Петрович поднял глаза и неожиданно мне подмигнул... Такое заговорщицкое, лукавое сделалось у него лицо.
– Что? Что такое?
– Только дух мне тогда ничего про него не открыл. А это я сам, на свой страх и риск.
– Как это – сам?
– Ну, сам. А то бы мало ли что этот дух прорек... А отец Ерм бы разгневался. – Петрович тяжко вздохнул. – Иногда я и сам не понимаю его.
Было непонятно, кого – духа или же отца Ерма, но я предпочла больше ни о чем не спрашивать. Петрович снял с гвоздя ватник и куда-то ушел – в ночь, в снега. Я выплеснула остатки его дружественного, но нечеловеческого напитка в ведро, однако сумасшедший запах от этого лишь окреп. Теперь это была какая-то вонь.
Я вспомнила, как в каком-то житии разбойник, убегавший от преследователей, спрятался в разлагавшуюся тушу коня и возопил к Богу: «Спаси меня, Господи, ведь они же меня убьют!» И он услышал в ответ вроде бы даже Божий глас: «Ну и как тебе там, в этом гнилье?» И разбойник зарыдал: «Так мне здесь плохо, Господи, ибо невыносимо смердит». И вроде бы Господь ответил ему: «Хорошо, Я тебя спасу, но знай, что вот так невыносимо и мне, когда ты грешишь!» И после этого избавленный от преследователей и удостоенный вразумления Божьего разбойник больше никогда не грешил, а затворился в монастыре и стал святым.
...Наутро и чай и булочка после причастия фигурировали в разговорах послушников уже в прошедшем времени: мол, попили, поели, причастились и – «ничего». Да и не только ничего, но очень даже «чего», потому что тем самым выразили символический протест против магии и обрядоверия.
– Церковь – это никакая не магия, – сказал Валера.
– И не обряд, как думают некоторые, – многозначительно прибавил Славик. – Мы теперь всегда будем так. Хотя нам булки этой совсем не хотелось – не привыкли мы так рано питаться. Но – послушание! К тому же с суевериями надо же хоть как-то бороться!
А отец Ерм сразу после литургии закрылся в своей мастерской – стоял перед большой, лежащей навзничь иконой, ее золотил.
Когда я вошла, он, не оборачиваясь, сказал:
– А Великого Раскола никогда не существовало – вы знаете об этом? То есть он, конечно, был, но де-юре, а не де-факто. Потому что евхаристическое общение Церквей никогда не прекращалось...
Я сказала ему:
– Простите меня за эту семечку. Это все ложь.
Он ответил:
– Какая еще ложь! Я таких историй – знаете, сколько наслушался! И потом – это все модернизм. Я имею в виду, ничего не вкушать перед причастием – это позднейшие придумки. Когда было установлено Христом таинство Евхаристии? Не помните? Во время последней пасхальной трапезы – прямо как продолжение ее. Поели и причастились. Так было и в первых христианских общинах – почитайте апостола Павла: все вместе поужинали за агапой и потом приступили к Христовым Тайнам. А у нас все перевернулось. Но надо же иметь мужество, чтобы вернуться назад!
Я спросила:
– Скажите, а искушение может пахнуть, ну, издавать какой-нибудь запах, смрад?
Он ответил:
– Это скорее всего метафора. Знаете, говорят, что деньги плохо пахнут... Простите, видите – я работаю...
И я ушла.
А Николай Петрович совсем куда-то запропастился, совсем пропал. Как вышел во тьму, так и канул в нее. Одну ночь не возвращался, потом другую... Ну не за ягодами же, не за грибами же отправился метельным вечерком! Запер дверь в свою комнату – и был таков. Может, потравился он своей холодящей жилы грибной настойкой, упал в обморок и замерз? А может, этот сомнительный дух куда-то его увлек за собой? Ходила, искала его по ледяной округе, видела вдалеке каких-то собак, а может, волков... И все-таки поначалу я себя успокаивала – допустим, он ушел в Троицк петь на ранней литургии, там остался до вечерней службы, а потом и заночевал в храме: все-таки семь километров по лесной дороге. Но вдруг приходит из этого Троицкого храма священник, спрашивает:
– А где Петрович? Куда подевался? Мы на него рассчитывали – такие праздники, а его нет как нет.
Ушел недовольный.
Я кинулась вопрошать отца Ерма:
– Что делать? Петрович пропал! Может, в лесу замерз?
А отец Ерм махнул рукой:
– Найдется, куда денется? У него полный Троицк знакомых. Сидит где-нибудь и празднует. А вы знаете, что можно было быть православным, оставаясь католиком? И наоборот. Вот, например, Максим Грек – православный святой, но он же и католический монах. Да, об этом есть запись в книге Флорентийского монастыря, коим постриженником он являлся. А то, что он писал «Против латинян», – так это полемика. Вам что, не о чем со своими православными пополемизировать? Ну хотя бы вот об этом евхаристическом посте?
Я говорю:
– У меня очень нехорошее подозрение. В доме припахивает чем-то, грибами, что ли, а может быть, даже газом, сладковатый такой запах, дурной... А дверь в комнату Петровича заперта. Так может, это не газ никакой? Благословите, я подставлю лестницу и загляну к нему в окно, вдруг там что увижу?
А отец Ерм отвечает:
– Или Александр Невский... Да, он был православный, но в то же время и католик. А то, что он сражался на Чудском озере с крестоносцами, этими «псами-рыцарями», – так это политика. А в окно это, конечно, загляните. Так что Великий Раскол – с церковной точки зрения – фикция. Позднейшие модернистские выдумки.
В большом волнении я вернулась на хутор, а в доме еще пуще воняет. Теперь казалось, что это точно никакой не газ. Тлетворный такой дух, нехороший. Ну, честное слово, будто Петрович там, за стеной, в комнате, уже совсем того: разложился – Царство ему Небесное!.. А на дворе темно и страшно. И вокруг – ни души. Перекрестилась я, подставила лестницу и заглянула в черное окно. А оно – плотно так занавешено, ничего не видать. Тут ветер налетел, береза заскрипела, ворона каркнула – жуть.
Я не выдержала, побежала назад, к людям, в монастырь, к игумену.
Он сказал:
– Дело серьезное. Если завтра утром Петрович не появится, идите в милицию. Пусть они сами дверь ломают и ищут его. Мало ли что с ним может быть. В лесу у нас волки водятся, кабаны. Да и сам – болящий. Кто знает, что ему в голову могло взбрести. А между прочим, Флорентийская уния с католиками ведь была подписана восточными иерархами, да-да! И только малодушие константинопольских архиереев, спасовавших перед возмущением городской черни, позволило это все пустить насмарку.
Я вернулась, стараясь ни о чем не думать и ничего не бояться. Запах тления заполонил весь дом. Ни есть, ни пить было невозможно. Казалось, даже моя одежда отяжелела от этого тошнотворного духа. Я заперла засов, закрылась в комнате, и тут кто-то стал бешено стучать в дверь. Оказалось, бывший келейник архимандрита Нафанаила.
– Петрович просит завтра забрать его из лазарета. В монастыре он там у нас. А то его аж шатает. Змею, видишь, он нашел. Она замерзшая вся, спящая... Так нет, поднял ее из-под коряги, растормошил, отогрел, думал – самый умный! – яду добыть: им лечиться-то больно хорошо, радикулит или еще что.
А она – учудила – цапнула его. Гадюка. Искушение!
Зловещий запах словно улетучился в открытую келейником дверь.
– А наместника нашего разжаловали. Можно сказать, из генералов – в рядовые. Слышала? Лукавый ему отомстил. Он ведь, наместник-то наш, когда поклончики монахам давал, сам все за них клал, на всякий случай, а то вдруг его епитимья осталась бы ими неисполненной? А это нехорошо. Так вот, он вставал по ночам и – бух! Перед иконами. Бух! Бух! За каждого молился. А никто не знал, кроме меня. Вот как. Искушение! Ну, я пойду.
– Куда ж ты пойдешь? – сказала я. – Ведь ночь на дворе, а через лес такой долгий путь!
– Так наместник за меня молится, – ответил келейник. – Для Бога-то он все равно остался вроде как генералом. А если Господь за нас, то кто против нас?
– Подожди, – попросила я, – вот ты, поди, все про лукавого знаешь. А скажи, если человек находится в искушении, ну, в грехе, пусть даже мысленном, может он из-за этого чуять повсюду смрад?
– Чего? – удивился он.
– Ну, пахнет ли искушение? – смутилась я.
– Как пить дать, – тут же отрапортовал он, оживившись. – Ты понимаешь, лукавый, он же ведь и нечистый, так? Ну вот он и смердит, так смердит!
И ушел.
Чуть свет я отправилась к отцу Ерму:
– Нашелся Петрович. Еду за ним в Троицкий лазарет.
– Я же говорил, что найдется, – кивнул отец Ерм. И, продолжая вчерашний разговор, спросил: – А что, по-вашему, нужно, чтобы упразднить разделение, чтобы соединить Церкви? Лишь признать примат Папы Римского. И все. А что вы возмущаетесь?
Я пожала плечами, потому что я совсем даже не возмущалась. Я просто ждала, когда ветер переменится и отец Ерм постепенно начнет охладевать к Папе, так же как когда-то он охладел к старообрядцам и «цивилизованному миру».
– Это же канонически легитимно, – объяснял он, – ведь Римская Церковь – первая. Потом – Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Иерусалимская, а потом лишь Русская... Историю надо знать. Что вы заладили – Православие, Православие...
По лесной дороге машины в это время года уже почти и не ездили. Пришлось идти на шоссе и делать крюк в двадцать пять километров.
Мужик, который меня подобрал, наверное, решил меня развеселить и задал вопрос:
– Скажите, вы могли бы полюбить радикала?
– Что-что? – строго переспросила я.
– А вот и неправильно, – взорвался он вдруг бешеным хохотом. – Вы должны были спросить: ради чего-чего? Ну что – дошло? Это я вчера по телевизору слышал...
Троицкий монастырь было не узнать – монахи сновали мимо с каменными озабоченными лицами, а один – так даже шарахнулся от меня. Лишь Иустин помог найти монастырскую машину для Петровича.
– Она меня укусила, потому что я сам к ней полез, – объяснял Петрович. – Была уже замерзшая, безобидная, а я ее стал бередить, крутить, дразнить... Вот как. А не трогал бы, был бы сейчас целый.
Морщась, он поглаживал перевязанную корявую руку.
Вечером я пришла к отцу Ерму.
– Вы думаете, есть подлинное единство у Поместных Православных Церквей? – спросил он. – Ничуть. Каждая сама по себе. А почему? Потому что нет единого авторитета, каким бы мог быть Папа. Только он может в духе и истине соединить все Христовы Церкви, восстановить должную вертикаль власти, внести непререкаемое единоначалие и противостоять напору антицерковных сил. Его вселенскость должна положить предел секулярному глобализму...
Мы сидели с ним в его мастерской. Вокруг на скамейках, прислонившись к стене, стояли его новые иконы – святые были на них с католическими тонзурами на головах. Но я мысленно сказала себе, что они, может, просто пожилые – ну, Николай Угодник, Григорий Богослов, первомученик Стефан. Вроде как им так и положено, вроде как облысели, что ли.
– Нет, я в католичество переходить не собираюсь, – продолжал отец Ерм, – этого от меня никто и не хочет, это и не надобно: какие переходы, когда Церковь в мистическом плане – едина? У нас общий Символ веры – ведь они отказались от филиокве, вы знаете? Мы признаем их таинства, их священство, как и они признают наши. Так что – какие переходы? Ну что вы смотрите на меня с таким ужасом? Где вы видите измену вере? В чем это я предаю Церковь? Это все невежество. Бабкины пересуды. Кликушество. Что вы все время плачете, как будто у вас кто-то умер?
Ах, я не плакала, хотя мне вдруг стало ужасно грустно. Я просто вдруг поняла, что мне здесь совершенно нечего делать. Привезла человека из лазарета, и теперь все! Плачь, пой, гуляй, отдыхай, трудись... Но только – живи своей жизнью. Есть такое качество собственной жизни – «своя», «не своя», «чужая»... Это как в песне про какого-то казака. Вот он стоит, казак молодой, перед дверями, «убивается», а ему выносят каждый раз из этого дома что-нибудь этакое – то шапку беличью, то шубу соболью, то саблю вострую, а то и «сундуки, полны добра», а он на все это роскошество – «это не мое, это не мое!» То – «это батюшки маво», то – «это зятя моего», а то – «это враженьки маво», ну и так далее. А потом – «вывели ему вороного коня», а он опять – «это не мое, это не мое, это братушки маво». Много чего ему еще и выносят, и выводят, но все это он не принимает, все это, говорит он, «не мое». А что для него – «мое»: «это вот мое, это вот мое!»? Оказывается, некая Настасьюшка, – вот это, «Богом суженое, Богом ряженое». Прекрасная такая песня. Ее в свое время – еще на Афонской горке – чудно так певали на два голоса Дионисий и сбежавший из монастыря «ради бабы» византийский регент... Вот и допелся.
– Повторяю, я никуда не перехожу, – твердо произнес отец Ерм. – Единственное, что я не могу не признавать легитимность Первого епископа – Папы. Да, я собираюсь его поминать на литургии, я уже его поминаю! Вы слышите? И что?
Сделалось невыносимо тревожно, душно. Может быть, я все-таки отравилась газом у Петровича, да еще и почти не спала, вся энергия во мне застопорилась, я сникла.
– Вы бледны, – испугался вдруг отец Ерм. – Вам что, плохо? Пойдемте на воздух. Хотите, я вас провожу?
Мы вышли в мутную февральскую мглу. Ветер клубил по небу суровые тучи. В лицо хлестала морось. Меня бил озноб.
Отец Ерм сказал, уже очень мягко, безо всякого напора:
– Повторяю, без Папы мы пропадем! Что, Патриарх наш имеет хоть какой-то авторитет? У нас каждый священник на своем приходе – сам себе и папа, и патриарх, и старец. Что хочет, то и городит. Это же раскольничий потенциал! Успокойтесь. Я начну с малого – у меня будет такой православно-католический монастырь с единой Евхаристией. Из единой чаши и католики будут причащаться, и православные... Это и означает соединение Церквей. А о чем вы молитесь за литургией? О соединении святых Божиих Церквей... Вот они здесь у меня и соединятся. Уже соединяются, соединились! Да успокойтесь же, в самом деле!
Мы шли и шли в ненастную ночь. Вдали брехали собаки, и луна ощупывала нас ядовитым своим лучом. С неба лилась какая-то муть: вода – не вода, снег – не снег.
И вдруг что-то резко переменилось, понеслись ледяные потоки. Сначала застучал поодаль, потом посыпался повсюду огромный град. Град величиной с перепелиное яйцо. Он бил нас по головам, по плечам, ударял в ссутулившиеся спины, ледяная градина угодила мне за воротник. Я с брезгливостью достала ее и ахнула: она напоминала большой раскрытый человеческий глаз. Да-да, из нее на меня глядел черный зрачок.
Мы кинулись бежать назад, в монастырь. Но град не отпускал нас, и все падали, падали, сыпались с неба эти страшные глаза, покрывая стылую стонущую землю. Наконец мы домчались до мастерской. Я прихватила с собой градину, валявшуюся у порога. Мы положили ее на блюдце и долго разглядывали светлую роговицу, кропотливо сработанную радужную оболочку и бездонный зрачок.
– Что это за знамение? – поежилась я. – Древние халдеи так представляли смерть – она сплошь усеяна множеством глаз.
Игумен Ерм поморщился.
– Терпеть не могу такого рода мистики.
Положил глаз себе на ладонь и вдруг стал расколупывать его пальцами.
– Может, не надо, – попросила я. – Пусть себе лежит как лежал.
Но он с упорством принялся разламывать его, тереть, крошить...
– И все-таки, – сказал он, когда глаз почти растаял в его руках и он кинул его на блюдце, – советую вам пересмотреть свое отношение к Папе. Не ожидал от вас такой косности. Конечно, вам у Петровича неуютно. Я построю вам дом – прямо здесь. Пожалуйста, живите, читайте, пишите.
На меня в упор глядели святые с тонзурами на головах.
– Ну и где теперь этот пристальный глаз? – спросил отец Ерм, кивая на густую жижицу в блюдце с золотым ободком.
Действительно, все растаяло – и радужка, и зрачок.
– Поздно. Вы устали, – примирительно сказал он. – Завтра.
Град уже кончился, и повалил снег. Я шла, спотыкаясь об эти огромные глаза, посыпавшиеся вдруг с небес. По понятной причине я боялась на них наступить, и потому мне пришлось совершать нечто вроде танца: шаг в одну сторону и в другую – два.
Ах, все-таки был же какой-то символ в том, как они выглядели, в том, как глядели, в том, что покрыли землю именно в этот час!
И вдруг, даже и помимо этих обледенелых глаз, я отчетливо почувствовала, что нас всех ВИДЯТ. Нас видят со всех сторон. Мы все как на ладони. Словно убрали плотный занавес, и на нас направлены тысячи, тысячи глаз. Они глядят испытующе. Они просматривают нас насквозь. И значит, даже то, что мы думаем, даже то, что мы говорим, имеет зримый смысл, вплетается в общий сюжет, становится вещным, о которое можно преткнуться, сломать себе шею, упасть. Внешнее стало уже как внутреннее, внутреннее – как внешнее, и сама душа уже как судьба.
Именно это я и пыталась теперь сказать внутреннему своему соблазнителю, внушить «этой лисице Ироду». Нелепо, что я при этом все еще ухитрялась выделывать такие странные пируэты, прыжки. Словно мне надо было смириться так, чтобы и не бояться вовсе в этой почти трагической ситуации выглядеть перед ним столь юродиво, столь потешно, глупо, смешно.
Льстивый, лукавый, он действовал исподтишка, подлавливал в минуту немощи, под покровом тьмы, подвывал заодно с ветром: «Мы теперь сами можем вершить историю! Соединять Церкви! За нами сильный, богатый и щедрый Рим! Какие открываются перспективы! Сияющие вершины!» Я мысленно спросила его: «А как же тогда выкинутые в овраг униатские ангелы? А как же лисий иезуитский дух?» Мне показалось, он хмыкнул, совсем как тот глумливо посматривавший редактор. Зашелестел, заламывая кусты: «Ну тогда скажи: все пропало и все погибло... Далее ничего нет!»
Действительно, все терялось в густом снегу. Таким замерзшим вдруг показалось поле, таким мертвым – лес! Показалось, ничего вовеки не сдвинется с места, не воскреснет, не оживет. Но я сказала, как когда-то учил меня мой духовный отец, наперекор: «Неправда, все есть, есть! Ты всегда хотел, чтобы Его не стало, но Он тебя победит! Его же Царствию не будет конца!»
...Дома Петрович уже накрепко закрутил газовый баллон, открыл все форточки и вовсю топил печь. На ней закипал чайник.
– Кто чем искушается, тот от того и уязвляется, – назидательно произнес он, впуская меня. – Знаешь, почему я под корягу-то эту полез, где дремала змея? Потому что я деньги хотел отрыть, там они у меня, под корягой-то... А они – тю-тю! Сопрели в этой жестяной коробке, только несколько бумажек и удалось спасти. Как раз хватит на то, чтобы подлечиться да газовый баллон поменять.
Поставил со стуком эмалированные кружки для чая на стол. Внимательно посмотрел на меня:
– Ты, это, того, короче, больше при мне никого не загадывай...
– ???
– Старец Игнатий сказал, что это... ну, недоброкачественный дух ко мне пристал. Хочет, чтобы я пророком себя объявил. Ну, чтобы у меня гордыня и все прочее... Искуситель! Он-то мне и нашептал тогда: проверь клад, проверь клад...
К утру ветер утих. Все было завалено снегом, сияло солнце, и я, не заходя к отцу Ерму, отправилась домой, в Москву.
По вагонам ходили два глухонемых, продавали книжечки – и духовного содержания, и сонники, и гадания, и открытки с артистами и кошечками. Я купила книжечку «про последние времена». Там было написано, что святые отцы предупреждали, – монахи последних времен уже не будут жить, как им подобает: прикрывать немощную плоть травой ли, звериной ли шкурой, обитать в пустынях и пропастях земных, питаться акридами и диким медом, кротостью своей приручать львов. Монахи последних времен, оказывается, предупреждали они, будут жить, как подобает мирянам. А миряне будут жить, как бесы. Зато монахи последних времен, было сказано, будут претерпевать такие искушения, такие скорби, такие шатания в вере, рядом с которыми и спанье на голой земле, и лютая жажда пустыни, и даже многолетнее столпничество сочтутся за ничто...
Я отложила книжечку, стала думать – почему это так? Отчего такие уж искушения, такие уж скорби? Может, в последние времена какая-то особая будет чувствоваться богооставленность? Ну как у Спасителя в смертный час на Кресте. А может, в этом будет повинна сугубая, уже генетически накопленная разнузданность самодостаточной воли, и подвиг будет состоять уже в том, чтобы собрать ее воедино и отдать Христу?
В одном купе со мной ехала пожилая простая женщина, по-видимому, паломница – она возвращалась из Свято-Троицкого монастыря. Под нос она то и дело мурлыкала какую-то песенку. Прислушавшись, я поняла, что это какой-то акафист: то и дело звучало «радуйся! радуйся!».
– Ну что там, в монастыре? – спросила я ее: не то чтобы вправду интересуясь, а так, чтоб хоть что-то сказать.
Она блаженно закрыла глаза и с благоговением приложила натруженную руку к груди:
– Благодать!
ОРТОДОКСИКОЗ
Дело в том, что мой духовный отец игумен Ерм в свое время запретил мне общаться с иеромонахом Филиппом. То есть прямо, конечно, он не говорил: «Не смейте дружить с Филиппом!» – вовсе нет. Но весьма часто повторял: «Знаете, кого он ко мне привозил? Чекиста!» И смотрел выразительно. «Впрочем, – добавлял он, – как хотите...» И далее шло: «Я никому ничего не навязываю, никому ничего не запрещаю и никого у себя не держу». Этого было вполне достаточно, чтобы я никогда больше не искала встречи с Филиппом.
А ведь мы были с ним друзьями еще до его монашества, когда он был не отцом Филиппом, а просто Федей. И вот его назначили наместником нового московского подворья Свято-Троицкого монастыря. Подворье же располагалось в бывшем Рождественском монастыре, буквально в двух шагах от моего дома. Ну и отец Филипп взял и зашел ко мне – безо всякого даже предупреждения. Потому что у него с этим новым подворьем были очень большие скорби. А когда скорби, очень нужен дружественный человек...
Старец Игнатий, когда благословлял его на это новое служение, говорил:
– Помни наставления преподобного Исаака Сирина: пейте поношения как воду жизни. – И еще добавлял: – «Блаженны есте егда поносят вас и прорекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради...»
И Филипп, конечно, насторожился и приготовился к испытаниям, ведь его любимый старец ничего такого не стал бы говорить понапрасну.
Филипп когда-то рассказывал мне поразительную и даже забавную историю, связанную с прозорливостью старца Игнатия. Еще когда он был насельником Свято-Троицкого монастыря, выпало ему ехать ко Гробу Господню, и пришел он за благословением к старцу. Тот сказал:
– Ехать-то поезжай, да только не в Иерусалим, а в Москву, не ко Гробу Господню, а прямехонько в больницу и попроси их получше тебя обследовать.
Филипп удивился, ибо, несмотря на хрупкость и видимую немощь своей плоти, ощущал в себе богатырский дух и в больнице ему явно было нечего делать, а ко Гробу Господню очень ему хотелось попасть. И решил он так: приеду в Москву, быстренько – «за послушание» – сдам анализы у знакомого врача и улечу в Иерусалим. Однако на ступеньках больницы его вдруг стал колотить озноб, стало мутить, и когда он вошел в кабинет, врач, глядя на него, произнес:
– Ну все, братец, гепатит!
Так Филипп не попал ко Гробу Господню, а оказался в карантинном отделении. Там ему как священнику выделили отдельную палату – между прочим, с телефоном, который был спарен с врачебным, и даже с телевизором, к которому он постепенно и пристрастился, находясь в полнейшем затворе, и даже прикипел к какой-то многосерийке. И вдруг как-то раз около полуночи ему раздается междугородний звонок. Он взял трубку и услышал:
– Ну что, думал, сдам анализы, сбегу в Иерусалим...
– Отец Игнатий! – только и воскликнул Филипп.
А тот продолжал:
– Пост в самом разгаре, а он знай себе телевизор смотрит – все подряд – и сериалы, и про любовь, и про чекистов.
– И про Ленина, отец Игнатий! – в покаянии возопил Филипп. – Простите, больше не буду.
– Вот и правильно, – отозвался отец Игнатий.
Филипп провел всю ночь в мистическом трепете и восторге – откуда он узнал? Ну хорошо – этот знакомый врач, устроивший его сюда, – частый паломник Свято-Троицкого монастыря. Старец мог знать его телефон. Мог ему позвонить, а тот ему и настучал: «Лежит ваш монах, ничего не делает, целыми днями сериалы смотрит». Однако наутро врач наотрез отказался от предположения, будто бы он каким бы то ни было образом информировал старца.
– Да и зачем мне это нужно? – возмущался он. – Да я и не знал, что вам нельзя смотреть телевизор!
И Филипп успокоился. Но поразительно, что в этот самый день должны были показывать последнюю серию злополучного фильма, где должны были быть расставлены все точки над «i», и вот Филиппа одолел страшный соблазн все-таки узнать, чем там все кончится, кто убийца, в конце концов... Он изнывал от любопытства и томления. Наконец он решил, что ведь обещал-то он старцу больше не смотретьтелевизор, но ведь он же не обещал этот телевизор не слушать. К тому же, если бы он его сейчас включил и убрал бы изображение, это получился бы уже не вполне телевизор, а радио. А насчет радио у них с отцом Игнатием уговору не было. Поэтому он с замиранием сердца и врубил звук. Даже отвернулся для верности. Первые же и единственные слова, которые грянули ему в уши из запретного ящика, были: «...этого же нельзя слушать». Выхваченные из какой-то фразы, они громыхнули для Филиппа грозным предупреждением его всевидящего старца, которому он по свободной воле поручил свою послушную душу.
И вот теперь испытания, о которых предупреждал его старец, навалились на него со всех сторон. Прежде всего, выяснилось, что Рождественский монастырь уже был занят общиной некоего священника Петра Лаврищева. В перестройку, когда для того, чтобы открыть храм, требовалось всего-навсего двадцать подписей потенциальных прихожан, этот отец Петр открыл две прекрасные церкви – одну в Рождественском монастыре, другую – Введенскую – на соседней улице. В одной он служил, а в другой устроил нечто вроде лектория – катехизаторские курсы.
Но времена поменялись, и Патриарх решил, что в бывших монастырях все же должны возрождаться монастыри, а в приходских храмах – церковная приходская жизнь. Поэтому-то он и издал указ, в котором отцу Петру Лаврищеву с его общиной отходила Введенская церковь, а Рождественский монастырь объявлялся подворьем Свято-Троицкого монастыря с наместником иеромонахом Филиппом во главе.
Но отец Петр Лаврищев был особый священник, особый человек. И он как-то так настроил свою общину, словно Патриархия их вовсе выгоняет на улицу, и не просто так, а из-за того якобы, что они очень уж прогрессивные, и потому активное сопротивление иеромонаху Филиппу, который все время потрясал указом Патриарха, воспринималось лаврищевцами как религиозный долг, исповедничество и страстотерпчество. Филипп то и дело слышал от них, что он «большевистская сволочь», «апологет красного террора», а кроме того – «Каин» и «Иуда». Как так могло получиться?
Ну, может быть, потому, что отец Петр поддерживал некий сугубый дух в свой общине. Все время повторял:
– Наша община – элитарная, интеллектуальная. Самая интеллигентная община в Москве, а значит – во всей России. А церковным большевикам это не нравится.
Под «церковными большевиками», кажется, он подразумевал всех православных, которые не принадлежали к его общине. И так получалось, что он постоянно противопоставлял себя со своими прихожанами всей Русской Церкви. Ну, она дремучая, красно-коричневая, консервативная, а лаврищевцы – свет миру, соль земли. И его овцы ему верили. Да. Потому что это очень приятно осознавать себя таким «пупом земли». Ну и кроме того – он обещал им провести церковные реформы, и потому эти его лаврищевцы ощущали себя как бы некими мартинами лютерами, кальвинами и даже цвингли. Такой у них был дух избранничества, мессианства и реформаторского героизма. Такая щекочущая нутро эйфория...
А что? Этот соблазн элитарности и реформаторства – разве по своей мощи он не может поспорить с самим Эросом? Разве он сам – не искаженный Эрос?..
Концепция отца Петра была такова: историческая Церковь отяжелела от пустых ритуалов и осквернилась от общения с государством. Ее нужно заменить системой легких и подвижных общин, по типу первохристианских. Каждая такая община, во главе которой стоит епископ, по сути уже есть Поместная церковь и потому имеет в себе всю церковную полноту. И отец Петр устроил у себя именно такую общину, а себя почитал как бы ее тайным епископом. Какие-то у него ходили общинные – тоже тайные, не известно кем рукоположенные, скорее всего, им же самим, раз уж он возомнил себя архиереем, – доморощенные пресвитеры. Какие-то эмансипированные диаконисы... Но самое главное – у него, по примеру первохристианской церкви, устраивались агапы – вечери любви. В принципе, это существовало в древней Церкви, но у Лаврищева эти агапы приобретали качество какого-то нового восьмого таинства, призванного восполнить Евхаристию.
Для соблюдения церковной дисциплины вся община отца Петра, значившаяся у него в сугубых списках, была разбита на «десятки», во главе которых и стояли эти его «пресвитеры». И вот каждая такая «десятка» должна была после воскресной литургии совершить на дому агапу. Поразительно, что я, не будучи никаким членом общины, ухитрилась прямо накануне роковых событий попасть на какую-то самую важную, центральную или даже генеральную агапу. Поэтому-то я и узнала многие вещи о лаврищевцах из самых первых уст.
В общем, естественно, что при такой идейности, организованности, взаимосвязанности и целеустремленности лаврищевцы ни за что не хотели пускать иеромонаха Филиппа в Рождественский монастырь. А что? Они там прочно обосновались – в церкви служили, в церковном домике были у них собрания, а Введенский храм, повторяю, существовал для расширенных заседаний. Ну кому охота тесниться и переселяться? К тому же они воспринимали патриархийные притязания как открытые гонения на себя.








