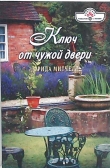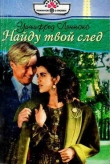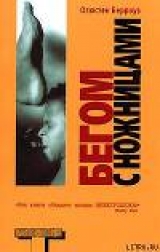
Текст книги "Бегом с ножницами"
Автор книги: Огюстен Берроуз
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Неопалимая купина
Ферн Стюарт была женой пастора и близкой подругой моей матери. Она отличалась белозубой улыбкой, которая обычно сверкала над блюдом румяных печений. Ферн пекла их специально для меня. Она жила вместе со своей семьей в Амхерсте в уютном доме на вершине небольшого, ярко-зеленого холма. Рядом с домом росла березовая рощица – так близко, что ветки деревьев касались черепичной крыши.
Ферн была образцовой женой пастора: вместе с моей мамой ходила покупать кольца для салфеток, сделанные из тикового дерева, обожала разговоры о современной поэзии и часто посещала местные картинные галереи. Она рано поседела, стриглась коротко, а украшением ее прически обычно служила широкая черная бархатная лента, которую она повязывала почти на лбу. Говорила с легким британским акцентом, хотя, насколько я знал, выросла в штате Калифорния, в городке Вакавилл. Семья Стюартов любила устраивать лыжные прогулки в Стоув. Еще они заказывали покупки по почте, в фирме «Петерман и Бин». Ферн носила удобные, без каблуков, мягкие мокасины из «Толботс» и маленький золотой крестик на шее, А когда ей что-то очень не нравилось, она не произносила грубых слов, а говорила «чепуха».
Когда мои родители разошлись, нам с мамой оказалось негде жить. Дом надо было продавать, а полученные деньги – делить.
И Ферн приютила нас.
Она устроила нас в доме по соседству с собой. Квартира располагалась в полуподвале, и мне очень понравились толстые оконные стекла, медные трубы и настоящие дубовые полы с широкими-широкими досками. В течение нескольких месяцев я одну часть своей жизни проводил в этой квартирке, а вторую – в доме Финчей, в комнате рядом с ванной, которую Хоуп специально для меня освободила.
Мы с мамой часто обедали у Стюартов. Семья эта действительно отличалась теплотой и гостеприимством. Казалось, все они целый день с нетерпением ждали, когда же я появлюсь.
У всех четверых детей были ослепительные, безупречные белозубые улыбки. Как на картинке. У девочек – ямочки на подбородках. Они были такими чистыми, розовыми, сияющими и безупречными, словно только что вылезли из горячего душа.
Ферн ставила на стол аппетитно дымящееся блюдо брокколи с домашним сырным соусом. Ее сын тут же брал мою тарелку и наполнял ее первой.
– Даже если ты не любишь овощи, все равно по достоинству оценишь мамино кулинарное искусство, – говоря это, он подмигивал.
Старшая сестра игриво толкала его в плечо:
– Да уж, Дэниел, мама научила нас и фасоль любить!
Все за столом смеялись. Потом брались за руки и произносили молитву.
Мне эти люди казались необыкновенными и экзотическими, словно звери в зоопарке. Раньше я никогда таких не видел. Я даже не знал, хочу ли я стать одним из них или предпочел бы просто наблюдать, фотографировать и делать заметки. Разумеется, Ферн, в отличие от моей мамы, никогда не сбросит с веранды рождественскую елку и не испечет никому из своих четверых детей на день рождения пирог из крахмала. Больше того, Ферн наверняка не способна одновременно курить и есть сандвич с копчеными устрицами.
На уровне мозжечка я чувствовал, что эти люди – нормальные, а сам я отношусь скорее к таким, как Финчи, чем к таким, как Стюарты.
Красивый выпускник частной школы Дэниел не мог бы сидеть у Финчей в гостиной, показывать пальцем на собаку и смеяться над маленьким Пухом – мальчишка лежал на полу со спущенными штанами и довольно хихикал, в то время как собака лизала ему пипиську. Трудно представить, что Дэниел полюбуется этим зрелищем, а потом спокойно повернется к телевизору – просто потому что он уже привык ко всему.
В конце концов мама нашла нам собственное жилье. Это была половина большого старого дома на Дикинсон-стрит, в нескольких милях от Стюартов, вверх по той же улице. Ей очень нравилось то, что буквально через дорогу от нас когда-то на самом деле жила Эмили Дикинсон.
– Знаешь, я ведь такая же блестящая поэтесса, как она.
И мне кажется, что в данную пору жизни я должна находиться именно здесь,
А мне нравилось то, что теперь мы живем намного ближе к Нортхэмптону и к Финчам. Теперь уже маме не обязательно было возить меня к ним, я мог самостоятельно доехать на автобусе. В новом доме мне достался какой-то угол, даже без двери – мама явно не рассчитывала, что я буду проводить здесь много времени.
Доктор Финч предложил мне считать его дом своим. Он подчеркнул, что я могу появляться в любое время дня и ночи, когда только захочу.
– Просто постучи посильнее в дверь, Агнес вылезет из постели и впустит тебя.
Кроме того, я чувствовал, что Хоуп любит, когда я у них бываю. И Натали тоже. Хотя постоянно она жила в Питтсфилде со своим официальным опекуном, тем не менее часто появлялась в Нортхэмптоне. А как-то раз она даже сказала, что если бы я там жил постоянно, то и она осталась бы навсегда.
Поначалу мне казалось странным, что у Натали опекун – ведь у нее есть родной отец. Но оказалось, доктор Финч считал, что человек имеет право выбирать собственных родителей. Поэтому в тринадцать лет Натали выбрала одного из пациентов отца, Теренса Максвелла. Ему было сорок два года, и он был богатым. Она жила с ним и ходила в частную школу, которую он же и оплачивал. А Вики вместе с компанией хиппи кочевала по всей Америке от амбара к амбару. Примерно каждые полгода Вики приезжала домой, в Нортхэмптон, на побывку.
Так я постигал, что жизнь диктует изменчивость условий. Значит, ни к чему нельзя ни особенно привыкать, ни тянуться душой. В каком-то смысле я ощущал себя путешественником, первопроходцем. А это соответствовало моей глубинной тяге к свободе.
Единственной проблемой оставалась школа. Мне только что исполнилось тринадцать – седьмой класс государственной средней школы в Амхерсте. Начальное образование потерпело полный крах – в третьем классе меня оставили на второй год. Потом, после развода родителей и переезда в Амхерст, я перешел в новую школу, но и там тоже ничего хорошего не получилось. Ну а теперь мне предстояло кое-что похуже.
С самого первого дня, как только я вошел в дверь и ощутил устойчивый запах хлора, я понял, что проучусь здесь недолго. Хлор означал бассейн. Бассейн означал принудительное плавание. А это, в свою очередь, означало не только необходимость ходить перед всеми в одних плавках, но снимать эти плавки на виду у других мальчиков, когда кое-что у меня съежилось от холода.
Вторую проблему составляла эстетика. В моем понимании большое серое одноэтажное здание более походило на фабрику, выпускающую мясные продукты или, в крайнем случае, пластмассовые глаза для меховых игрушек. Не то место, где мне хотелось бы проводить значительную часть жизни. А вот кинотеатр в Амхерсте казался как раз очень привлекательным заведением. В нем даже была комната для курения. А еще мне очень понравился магазин «Чесе Кинг» на Хэмпшир-молл. Там продавались блестящие рубашки и фантастически красивые белые брюки с раз и навсегда загла-женными складками.
Однако все эти радости бледнели перед главной, настоящей проблемой: жить приходилось в окружении самых нормальных американских детей. Сотни их толпами ходили по классам, коридорам, залам, по улице – словно тараканы по кухне Финчей; разница состояла в том, что тараканы мне докучали меньше.
С этими детьми я не имел абсолютно ничего общего. Их мамы грызли тоненькие, словно спички, полоски морковки. А моя мама ела спички. Они ложились спать в десять вечера, а я обнаружил, что жизнь вовсю продолжается и после трех ночи.
Чем больше времени проводил я в доме Финчей, тем яснее сознавал, какая нелепая трата времени – ходить в школу. Она представляла собой всего лишь место для детского времяпрепровождения – без значительных планов и идей. Даже Натали как-то сказала, что если бы ей пришлось посещать не частную, а государственную школу, она бы туда попросту не ходила.
Семья Финчей продемонстрировала мне, что, оказывается, можно устанавливать собственные правила. Жизнь каждого человека, даже ребенка, принадлежит лишь ему одному, и никто из взрослых не имеет права в нее вмешиваться.
Поэтому я ходил в школу только иногда. Один день, порой два дня подряд. А остальные двадцать восемь дней в месяц я занимался собственными делами, как то: вел дневник, смотрел фильмы и читал романы Стивена Кинга. Я очень аккуратно соблюдал правило не отсутствовать в течение тридцати дней кряду, поскольку в таком случае совет школы мог принять «кардинальное решение», вплоть до перевода в исправительную школу.
Фокус состоял в том, чтобы показаться на регистрации, в инспекторской комнате, а потом слинять. Это создавало неразбериху в школьных данных и позволяло улизнуть сквозь щель. А то, что я ни с кем не дружил, никого не знал по имени, делало меня практически невидимым.
Однажды я вернулся домой рано. Отметился в инспекторской, потом с независимым видом удалился с фабрики. День стоял прекрасный, в кармане у меня лежало семь долларов. Я намеревался отправиться в кино и посмотреть немецкий фильм. А по дороге решил завернуть на Дикин-сон-стрит и взять у мамы еще пять долларов.
Открыв входную дверь, я первым делом увидел Ферн Стюарт, уткнувшуюся лицом между ног моей матери.
Мать лежала на диване, раскинувшись, с крепко зажмуренными глазами. Голова Ферн двигалась из стороны в сторону – примерно как у собаки, когда та глодает кость. Обе были раздеты; голубая ночная рубашка матери висела на подлокотнике дивана; юбка и блузка Ферн кучей валялись на полу.
Мать меня не видела, но Ферн открыла глаза и повернула голову к двери, не убирая, однако, рот оттуда, где он находился. Она неподвижно смотрела прямо на меня, и на какое-то мгновение в ее глазах сверкнул истинный ужас.
Ошарашенный, растерянный и до глубины души потрясенный, я повернулся, чтобы уйти. Закрывая дверь, услышал, как воет Ферн – словно зверь; вопль рождался где-то в недрах ее тела. Мать кричала:
– Ферн, Ферн, все нормально!
Я вышел на крыльцо и остановился. Чувствовал я себя гадко, словно окунулся в кучу дерьма. В то же время мне почему-то было смешно. Улица выглядела тихой и безмятежной: двухэтажные дома, аккуратно подстриженные зеленые изгороди, дорожки. Идет кошка. Все происходит за закрытыми дверями. Глядя на желтый дом с зелеными ставнями и стоящий возле него коричневый «додж-аспен», вы никогда не представили бы ничего подобного.
Прошло всего несколько секунд, а потом я услышал, как дверь открылась. На мои плечи легли руки и повернули меня. Я увидел Ферн, одетую, но не успевшую привести себя в порядок, с взлохмаченными волосами. Она плакала, щеки ее блестели от слез, она пыталась прижать меня к себе, обнять, целовала меня в лоб и все время повторяла:
– Прости, прости...
Я вырвался. Мне было неприятно чувствовать на себе ее губы.
Потом я увидел, как Ферн бежит вниз по ступенькам, через лужайку – к своей машине, – прижав к груди сумочку и склонив от стыда голову, словно спасается от дождя.
Я подумал о ее безукоризненном, словно только что из химчистки, сыне Дэниеле. Представил, как за обедом он передавал мне корзинку с булочками.
– Мамины булочки волшебные. Попробуй.
Когда я вернулся в дом, мать сидела на диване, так и не одевшись, голая, скрестив ноги, и курила свои любимые сигареты «Мор». Груди у нее оказались большими и похожими на мешки; они лежали на коленях. Она шумно выпускала дым, а потом снова подносила сигарету к губам и жадно, словно младенец, присасывалась к ней. Мне трудно было представить, как кому-то может оказаться приятно делать с ней то, что сейчас делала Ферн. Наверное, в тот момент мне было бы легче освоить теорию квантовых струн.
– Жаль, что тебе не нравится в школе, – заметила мама. – Хоть я и понимаю, там не так интересно, как со мной. Будь добр, подай мне, пожалуйста, рубашку.
Ее спокойствие и отстраненность буквально свели меня с ума. Она не способна думать ни о ком, кроме себя самой. Я схватил рубашку с ручки дивана и швырнул в нее, едва не попав прямо в сигарету.
Аккуратнее, Огюстен! У меня в руке зажженная сигарета! – Мама посмотрела на меня внимательнее. – Не делай ничего в злобе. Если ты расстроен тем, что увидел, лучше скажи мне все, что думаешь.
Я просто тебя не понимаю. То есть зачем и почему.
И как я мог обо всем этом не знать... – Я запнулся. —
Сколько уже вы с Ферн... вместе?
Мама просунула голову в рубашку, потом встала, чтобы спустить ее.
О, я люблю Ферн очень давно. А физическую форму наши отношения приняли пару месяцев назад.
Когда мы жили с ней по соседству?
– Огюстен, это уже подробности моей личной жизни.
Она зажала сигарету между указательным и средним пальцем, а большой палец прижала к виску.
– Это касается только нас с Ферн. – Мама всегда говорила так, словно дает интервью женскому журналу. Так словно она – знаменитость.
Итак, Ферн с мамой уже несколько месяцев любовницы. Моя мать лесбиянка. Я когда-то слышал, что склонность к гомосексуализму может передаваться по наследству. Так что же, я получил это от нее? Интересно, а что еще я унаследовал? Неужели к тридцати пяти годам у меня тоже сорвет крышу?
Мама направилась в кухню, а я пошел за ней по пятам. Смотрел, как она насыпает в чашку растворимый кофе, потом добавляет горячей воды прямо из-под крана.
Я очень волнуюсь за тебя. – Она подула в чашку и громко отхлебнула. – Беспокоюсь о твоих взаимоотношениях со школой.
Терпеть ее не могу, – ответил я. – А доктор Финч всегда говорит: после того, как человеку исполнится тринадцать, нельзя заставлять его делать что-либо против воли. То есть когда тебе исполняется тринадцать, ты становишься свободным человеком.
Да, я знаю, что он так говорит. Однако закон говорит, что ты должен ходить в школу.
К черту школу. – Я вынул из ее пачки сигарету и закурил.
Пожалуйста, не кури мои сигареты. У тебя есть собственная пачка, хотя я вообще против того, чтобы ты курил.
Я все равно курю.
Я знаю, что ты куришь. Я просто сказала, что мне это не нравится.
Отлично, – ответил я, комкая сигарету.
Не делай этого. Дай докурю, – остановила она меня, протягивая руку. Потом продолжила свое: – Я знаю, что не могу заставлять тебя ходить в школу. Не могу заставлять делать то, чего ты не хочешь. Но прошу тебя хорошенько подумать.
Как она могла хотеть, чтобы я думал о школе в такое время? Больше того, если бы я сегодня остался в школе, то как много пропустил бы! Ферн, жена пастора, оказалась не только заправской лесбиянкой, но и любовницей моей собственной матери.
Ферн – из тех, кто любит полизать между ног. И она лижет между ног у моей матери.
А ее семья знает?
Нет, – совершенно точно и определенно ответила мама. Потом прямо посмотрела на меня и твердо отчеканила: – Очень важно, чтобы и дети, и муж не узнали о том, что происходит между нами.
Она сказала это так, будто я собирался прямо сейчас бежать к Стюартам и кричать: «Эй, послушайте! А вы знаете, чем занимается ваша мама, когда ждет, пока поднимется тесто?»
Потом обстановка внезапно изменилась. Словно пе-реключили софиты, и камера поехала по рельсам, переходя на крупный план и жужжа прямо ей в лицо. Музыка почти наполнила комнату. Мама стояла перед окном, так что рубашка ее просвечивала на солнце, и силуэт тела проступал сквозь тонкую ткань.
– Всю жизнь меня угнетали. И всю жизнь я упорно боролась, чтобы освободиться от этого угнетения. Когда я была маленькой и жила в штате Джорджия, в городке Кейро, у меня была черная няня, Эльза. Она жила в развалюхе на другом конце города. – Мать опустила руку в карман, достала сигарету, засунула ее в рот и начала театрально закуривать. Потом драматично выпустила в воздух кольцо дыма. – В те дни черных людей называли ниггерами. Я знала, что слово «ниггер» – плохое, грязное, наполненное ненавистью и злобой. И знала, что его говорят, когда описывают черных людей. А еще я знала, что Эльза – не «ниггер». – Она замолчала и посмотрела мне прямо в глаза. – Знала, что это не так.
Мама выдержала паузу, прошла через комнату и по-вернулась к стене.
– Мне потребовалась целая жизнь, чтобы найти себя в искусстве. – Она снова повернулась ко мне. – И осознать себя как женщину. Я боролась против диктата матери. Потом против диктата твоего отца. И вот сейчас впервые в жизни я чувствую, что действительно могу сказать о себе: я – это я.
Зачем слушать учительницу, рассуждающую о том, сколько монеток в двадцать пять центов потребуется Нэнси для того, чтобы купить шесть яблок по четыре с половиной цента каждое, если можно слушать такое?
– Огюстен, надеюсь, что могу рассчитывать на твою поддержку в отношениях с Ферн. Потому что на этом этапе своего пути я не потерплю угнетения. Я провела долгие годы, всю свою жизнь, в борьбе с насилием. Не хотелось бы бороться еще и с тобой.
Она выпустила дым, закрывая глаза и опуская подбородок на грудь.
Наверное, я должен был зааплодировать, но я этого не сделал.
Я сказал:
– Хорошо, мне, собственно, все равно. Ты мне можешь дать пять долларов?
Она улыбнулась.
– Надо сказать «Дай мне, пожалуйста, пять долларов». Да, конечно, я тебе их дам, если они у меня есть. Принеси мой кошелек, я посмотрю.
Чистейшее проецирование
Стоял сияющий субботний день, такой, когда высоко в небе плывут тонкие, похожие на дымку облака. Самый подходящий день для парада. Пока мы с Хоуп надували шарики и завязывали их цветными лентами, доктор расхаживал по дому в подштанниках и штиблетах с загнутыми носами и фальшиво распевал:
Мечтать о несбы-ы-ы-ыточном...
Пап! – позвала Хоуп.
Боро-ооться с враждебными си-и-и-илами...
Пап! Ты хочешь, чтобы мы привязали шарики к твоей шляпе или просто к зонтику?
Финч вошел в комнату.
– Я хочу, чтобы шарики были привязаны ко всему! Сегодня объявляется день радости. Цветные шары повсюду!
Хоуп улыбнулась:
– Хорошо.
Я надул синий шарик и отдал его Хоуп. Она перевязала его красной лентой, а потом зацепила всю конструкцию за ленту серой фетровой шляпы.
– Для этой шляпы нам потребуется еще несколько розовых шариков, – распорядилась она. – Розовый – папин любимый цвет.
В итоге мы надули примерно шестьдесят шариков и привязали их к шляпе и зонтику, просунули в петли черного шерстяного пальто, которое доктор собирался надеть, несмотря на жару. Привязали шарики к своим поясам, а два даже прицепили Агнес – по одному над каждой грудью.
– Я не могу выйти в таком виде на улицу, – жалобно протянула Агнес. – Дайте мне еще, я их куда-нибудь привяжу. Не могу идти только с этими двумя.
Подслушав слова Агнес, доктор вошел в комнату, теперь уже облаченный в костюм.
Нет, Агнес, – прогремел он. – Ты должна идти только с этими двумя шарами. Ты – глава большой семьи, Великая кормящая мать. Что и символизируют эти шарики.
Ой, ерунда, – возразила Агнес. – Не убедил.
Я сказал, что ты пойдешь с двумя шариками, и все тут. Они – твои нагрудные шары.
«Нагрудные шары» – это хорошо, пап. Мне нравится, – поддержала отца Хоуп.
Тебе нравится? – переспросил он, шутливо насупив брови. – Тогда и ты тоже должна идти только с двумя шарами.
Через полчаса доктор Финч выплыл из дома в украшенном разноцветными шариками пальто, держа над головой и без того яркий, да еще и с несколькими шарами зонт. Розовые шарики на розовой ленте свисали и с его шляпы.
В нескольких шагах за ним шли мы с Хоуп, неся плакат с надписью «Отцы мира, объединяйтесь! Сегодня – Всемирный день отцов!!!». Я оказался весь покрыт шариками: они были привязаны даже к дыркам на брючном ремне. Но у Хоуп было только два шара – по одному над каждой грудью.
Младшая сестра Хоуп, Энн, шла за нами вместе со своим маленьким сыном Пухом. Энн была недовольна тем, что ее обманом заманили на парад, и отказалась надевать нагрудные шарики; она несла в руке только один. Пух, разумеется, ухватил штук шесть-семь: привязанные к его коленкам, шарики волочились по земле.
Следующей шествовала Натали. Она согласилась на нагрудные шарики, но в то же время настояла на темных очках и большой широкополой шляпе, чтобы никто из знакомых не смог ее узнать.
Моя мама шла в самом конце процессии с чрезвычайно нервным и рассеянным видом. В одной руке она держала маленький белый шарик, а в другой – свою любимую сигарету «Мор». Она шла на почтительном расстоянии от всех остальных, как будто вышла на обычную прогулку и случайно наткнулась на маленький белый шарик, который и решила прихватить с собой. Я не знал, стыдится ли она принять участие в параде или просто пытается оправдать свои действия.
– Я сегодня что-то не чувствую склонности к подобным представлениям, – сказала она мне еще раньше. – Я сейчас нахожусь в середине новой поэмы, и работа очень иссушает.
Процессия направилась по Перри-стрит, через Холи и вверх по Мэйн-стрит, прямо по центру города.
Чтобы еще больше привлечь внимание, доктор играл на красной дудочке мелодии из «Человека из Ламанчи».
Видя его, дети визжали от восторга, и доктор обязательно останавливался перед ними, приговаривая: «О-хо-хо!» При этом он раздавал их родителям отпечатанный на ротапринте информационный бюллетень под названием «Как эмоционально незрелые отцы способны навредить собственным детям и обществу в целом. Автор – И.С. Финч, доктор медицины».
Родители вежливо, хотя и несколько нервно, улыбались, а когда мы проходили мимо, выбрасывали печатные материалы в урну. Еще я несколько раз замечал, что матери осматривали руки детей: не всунул ли он им что-то тайком.
Мне наше шествие совершенно не казалось унизительным и неприличным. Наверное, я просто легко воспринимал из ряда вон выходящие явления.
– Помогите моему отцу просвещать отцов Америки! – на полном серьезе взывала Хоуп к тем людям, мимо которых мы проходили. – Вступайте во «Всемирную организацию отцов»! Вместе мы сможем изменить мир к лучшему!
Мы прошли мимо небольшой группы студенток колледжа Софии Смит. Они, хихикая, прижались к стене, пропуская нас.
– Вы, юные девы, вы, невинные чистые создания! Кто из вас может похвастаться сильным, зрелым, состоявшимся отцом? Кто из вас хотел бы потрогать мои яйца? – игриво обратился к ним доктор.
Улыбки моментально поблекли, а в глазах появился неподдельный страх. Очевидно, их предупреждали о многих вещах, которые могут произойти в жизни. Но не о подобном.
А доктор шел, посвистывая, дальше, своей дорогой.
Пару раз нас останавливала полиция. Впрочем, как только доктор Финч показывал водительское удостоверение, подтверждающее, что он доктор медицины и врач, нам разрешали продолжать шествие. Даже удивительно, как многое может сойти с рук просто потому, что человек принадлежит к медицинскому сообществу.
Моя мать плелась сзади, останавливаясь, чтобы посмотреть на витрины книжных магазинов, а один раз забежала в обувной и успела примерить пару сандалий.
Что с тобой? – поинтересовался я.
Переживаю трудный период в отношениях с Ферн, – ответила она. – Я ее очень люблю, но ее ханжество ужасно действует на нервы. Ферн – очень властная женщина.
Жаль, что она оказалась такой сучкой, – заметил я.
Ну, – угрюмо ответила мама, – дело еще и в ее муже, Эде. Он совсем не поддерживает наши с ней отношения. А это лишь создает дополнительный стресс.
Ферн отказывается оставлять семью. Хотя там все уже достаточно взрослые, могут сами позаботиться о себе.
Ее младшая дочь – почти твоя ровесница.
Ну, Дейрдре, надеюсь, что ты с этим справишься. – Мама велела не называть ее мамой, а звать исключительно по имени. Ей нравилось думать, что мы с ней не столько мать и сын, сколько просто друзья. Она заявила, что это более здоровые и зрелые отношения.
Спасибо, – поблагодарила она. – Я тоже на это надеюсь.
Потом лицо ее просветлело.
– А я тебе говорила, что одно из моих стихотворений собираются напечатать в «Янки мэгэзин»?
Жизнь у Финчей состояла не только из парадов.
Как-то я сидел в своей комнате, слушая Донну Саммер и ублажая любовь к собственным волосам их укладкой. Тут я услышал звуки ссоры. Крик доносился издалека, приглушенно, очевидно, из другого крыла дома, тем не менее мне удалось различить кое-какие слова, звучащие громче, чем песня: «Все быстрее и быстрее в никуда».
Сука! – орала Натали.
Сама ты сука! – кричала Хоуп.
Я тут же снял иглу с пластинки и вышел из комнаты. Надо прокрасться по коридору и подслушать. Если ругань перекрыла даже Донну Саммер, то пропустить такое нельзя.
Ссоры представляли собой квинтэссенцию дома № 67 по Перри-стрит. Он был виноградником, а скандалы составляли его специальный резерв.
– Нет, Хоуп. Это тебя не касается. Ты считаешь, что все вокруг – твое дело, потому что ты такая жалкая и не имеешь собственной жизни.
– Черт подери, Натали! Почему ты так враждебно настроена? Что плохого я тебе сделала? Почему ты меня так ненавидишь?
Натали неприятно рассмеялась.
Чистейшее проецирование. Ты ненавидишь меня, но ни за что не хочешь этого признать, ты, сука с подавленным инстинктом.
Я вовсе не ненавижу тебя! – с ненавистью крикнула Хоуп.
Отрицание! – парировала Натали.
За последний год мой словарь существенно обогатился. В него вошли такие слова и понятия, как «проецирование», «отрицание», «подавление», «пассивно-агрессивный», «литий», «меларил».
Помимо использования обычных, широко распространенных ругательств типа «сука» и «шлюха», Финчи значительно расширили свой арсенал оскорблений за счет терминов стадий психосексуального развития по Фрейду.
Ты такая оральная! Ты никогда не дойдешь до гениталий! Самое большее, на что ты можешь рассчитывать, так это анальное – ты, незрелая, фригидная старая дева! – орала Натали.
Прекрати антагонизм! – кричала в ответ Хоуп. – Перестань выплескивать на меня свою злобу!
– Ваша тактика увиливания не сработает, мисс Хоуп, – предупредила Натали. – Я не позволю вам вот так просто от меня улизнуть. Вы меня ненавидите и должны уметь противостоять мне!
Я взглянул на рояль и вспомнил о более счастливых временах. Всего лишь на прошлой неделе одна из пациенток доктора, хроническая шизофреничка по имени Сью, играла самые популярные мелодии, а мы все – Натали, Хоуп и я – стояли вокруг и пели: «Ничего нет лучше сцены, лучше дела я не знаю...» Сью была готова играть сколько угодно, при условии, чтобы мы не называли ее по имени. Она требовала, чтобы ее называли «Доктор Ф».
– Тебе необходимо поговорить с папой, Натали. С тобой творится что-то неладное. Я это говорю потому, что я твоя сестра и люблю тебя. Ты просто должна попасть к папе на прием. Пожалуйста, запишись.
Я услышал, как топает Натали, и испугался, что сейчас она ворвется в гостиную. Она меня увидит и поймет, что я подслушивал, а потом как-нибудь втянет в скандал. Но топот вовсе не означал, что Натали идет в гостиную. Он означал, что она пытается опрокинуть сестру на диван.
Ну ты, сука, еще скажи это!
Отпусти меня! – потребовала Хоуп. Я слышал, что она задыхается. Натали была большой и сильной девочкой.
– Признай!
– Натали, отпусти. Ты меня задушишь.
– Значит, ты умрешь.
Наступила тягостная тишина, а потом прозвучал сдавленный голос Хоуп:
– Ну, хорошо, хорошо. Я тебя ненавижу. Теперь ты счастлива?
Натали коротко и грубо выругалась. Потом ее шаги протопали по коридору и по лестнице.
– Все это просто дерьмо собачье.
С верхней площадки лестницы она прокричала:
– Ты никогда не доживешь до эмоциональной зрелости!
Хоуп не смолчала:
– Я добьюсь для тебя ограничения режима, Натали. Ты не владеешь собой. Ты опасна.
Натали хлопнула дверью.
Ссора и драка закончились.
Шторм достиг всего-то примерно четырех баллов. Ну, может быть, четырех с половиной по десятибалльной шкале, в которой десять баллов – вмешательство полиции и заключение в психиатрической лечебнице. Беда в том, что больше не нашлось желающих присоединиться. Я заметил интересный принцип: чем больше участников, тем лучше и интереснее ссора.
Обычно двое начинали спорить из-за пустяка. Например, что именно смотреть по телевизору. Тут в комнату входил кто-нибудь еще и решал их помирить. Однако чаще всего этот третий принимал чью-нибудь сторону. Потом присоединялся четвертый и так далее.
В самых замечательных скандалах участвовало по пять-шесть человек, а то и больше. В конце концов все заканчивалось тем, чем заканчивалось в этом доме все: доктором Финчем. Или его вызывали звонком, или же вся враждующая группа в полном составе отправлялась к нему в кабинет. Спорщики выгоняли несчастного пациента, которого доктор принимал в тот момент. «Семейные обстоятельства», – решительно заявлял кто-нибудь. Пациент, будь то потенциальный самоубийца или человек с многочисленными проблемами личностного характера, покорно отправлялся в приемную пить растворимый кофе с сухими сливками. А Финчи тем временем выясняли отношения.
Доктор считал, что в основе всех душевных заболеваний лежит именно гнев. Не получая свободного выражения, он способен разрушить личность. Этим и объяснялись постоянно происходящие в доме стычки. С самого раннего детства молодое поколение Финчей поощрялось не только петь, танцевать и прыгать через скакалку, но и открыто выпускать пар.
Гнев воспринимался как краеугольный камень нашего существования. Его многообразие оказывалось поистине вдохновляющим. Существовал гнев, обращенный внутрь, подавляемый гнев, дезориентированный гнев. Существовали поступки, совершенные в гневе, слова, сказанные в гневе, и даже люди, которые могут умереть, если не справятся со своим гневом.
Поэтому мы постоянно друг на друга кричали. Это походило на соревнование, наградой в котором служило душевное здоровье. Поэтому же от доктора Финча можно было услышать примерно следующее: .– В последнее время Хоуп выражает немалое количество здорового гнева. Я считаю, что она поднялась на следующую стадию в своем эмоциональном развитии. Она уже покидает анальную стадию и подходит к фаллической.
И все сразу начинали ненавидеть Хоуп за то, что она ходит среди нас такая хорошая и эмоционально зрелая.
Надо сказать, что павлиний способ выражения доктором собственного гнева и огромное количество децибелов его баритона мешали остальным открыто противостоять ему. Однако иногда все-таки случалось, что и сам доктор становился мишенью чьего-нибудь «здорового само-выражения». Обычно на это отваживалась Агнес.
Доктор и Агнес были женаты, казалось, уже сотню лет. Когда они познакомились, он был красивым многообещающим студентом-медиком, а она – хорошенькой, воспитанной в старых добрых католических традициях девушкой. Разумеется, она и представить себе не могла, во что он ее втянет и во что превратит.
Она напоминала мне старый раздолбанный «кадиллак», который каким-то образом попрежнему тянет без лишнего шума и суеты. Как правило, Агнес держалась в тени, молчаливо соглашалась, вечно что-то делала и старалась ни во что особенно не вмешиваться.