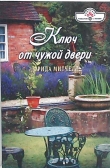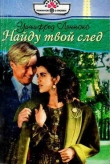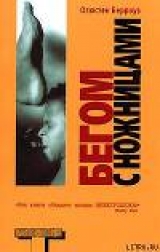
Текст книги "Бегом с ножницами"
Автор книги: Огюстен Берроуз
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)

Бегом с ножницами (Running with Scissors)
Что-то не то
Мама стоит в ванной перед зеркалом, окруженная ароматом духов и лака: «Жан Натэ», «Дипити-ду» мешаются с восковой сладостью губной помады. Белый, похожий на револьвер фен лежит на крышке бельевой корзины и тихонько щелкает, остывая. Мама, сосредоточенно втянув щеки, проводит руками по психоделическому платью от Пуччи.
– Черт возьми, – произносит она, – явно что-то не то.
Вчера она посетила модный салон «Плаха» в Амхерсте – тот самый, где ярко сияют лампы, а в огромных хромированных горшках растут фикусы. Прическу ей делал сам Себастьян.
– Эта гадюка Джейн Фонда, – возмущается мама, ероша волосы на макушке. – Посмотреть на нее, так все просто само собой получается. – Она слегка загибает кончики прядей вперед, чтобы сузить овал лица. Говорят, мама похожа на молодую Лорен Бэколл, особенно глаза.
Я не могу оторвать взгляд от маминых ног, которые она втиснула в красные лакированные туфли на предательски высоких каблуках. Обычно мама ходит в босоножках, поэтому сейчас кажется, будто ноги она взяла напрокат – может быть, у своей подруги Лидии. У Лидии взбитые черные волосы, кавалеры и собственный бассейн. Она всегда на высоких каблуках, даже когда сидит на краю бассейна в белом купальнике-бикини, курит ментоловые сигареты и болтает по телефону, темно-зеленому, словно оливка. А мама надевает модные туфли только на выход, поэтому для меня они означают ужас и одиночество.
Я не хочу, чтобы она уходила. Как будто пуповина между нами еще не разрезана и натягивается до предела. Меня охватывает паника.
Я тоже стою в ванной, возле мамы, я хочу оставаться с нею как можно дольше. До последней минуты. Может быть, она едет в Хартфорд, Коннектикут. Или в международный аэропорт Брэдли-филд. Я люблю аэропорт, люблю запах авиационного топлива, полеты на юг к бабушке с дедушкой.
Я люблю летать.
Когда вырасту, я обязательно буду таким, как те тети и дяди, которые открывают шкафчики над сиденьями и ходят в маленькую кухню, где все составлено аккуратно и плотно, словно серебряный паззл. Кроме того, мне очень нравится форменная одежда, у меня обязательно будет такой костюм, с белой рубашкой и галстуком. А на галстуке – булавка в форме самолета. Буду разносить арахис в маленьких блестящих пакетиках и предлагать пассажирам пластиковые стаканчики с газировкой.
– Может, хотите целую банку? – буду предлагать я.
Я люблю летать на юг к бабушке с дедушкой и запомнил уже почти все, что говорят эти люди – бортпроводники.
– Пожалуйста, проверьте, погасили ли вы сигареты и плотно ли закреплена крышка откидного столика.
Если бы у меня в комнате был откидной столик! И если бы я курил! Я бы тоже мог в ответственный момент погасить сигарету.
– А, поняла, в чем дело, – произносит мама. Она с улыбкой поворачивается ко мне. – Огюстен, будь умницей, подай мне вон ту коробку.
Длинным накрашенным ногтем она показывает на стоящую возле унитаза коробку с прокладками «Котекс». Я хватаю коробку и подаю ей.
Она вынимает две прокладки, а коробку ставит на пол, рядом с собой. Я замечаю, что коробка отражается в боковой поверхности туфли, словно в маленьком телевизоре. Мама отлепляет бумажную полоску от одной прокладки, а саму прокладку засовывает в вырез платья, на левое плечо. Разглаживает платье, потом точно также пристраивает вторую прокладку на правое плечо. Оценивающе смотрит на себя в зеркало.
– Ну, что скажешь? – восклицает она, в восторге от своей работы.
Как будто нарисовала красивую картинку и прилепила ее на дверь холодильника.
Здорово, – соглашаюсь я.
У тебя исключительно изобретательная мать, – замечает она. – Одно мгновение, и под пленники готовы.
Фен продолжает тикать, словно часы, отсчитывая секунды. Горячие вещи всегда так делают. Иногда, когда мама или папа приезжают домой, я спускаюсь к крыльцу и долго стою перед капотом машины, даже наклоняюсь к нему, чтобы лучше чувствовать тепло.
– Пойдешь со мной наверх? – Мама берет недокуренную сигарету из пепельницы-ракушки, которая стоит на сливном бачке. Она обожает покупать мороженых гребешков, а потом варить их и есть. Раковины мама не выбрасывает, а использует в качестве пепельниц – они у нас раскиданы по всему дому.
Я не могу отвести глаз от фена. В дырочках сбоку застряли волосы. Маленькие такие волоски. А еще белые пушинки. Что за пушинки? И как они попадают в фены и в пупок?
Конечно, пойду.
Свет погаси, – командует мама и выходит, обдавая меня сладким, немножко химическим ароматом. От этого аромата мне всегда становится грустно: ведь он означает, что мама уходит.
Хорошо, – отвечаю я.
На меня внимательно смотрит оранжевый глаз сушилки, которая висит на стене рядом с бельевой корзиной. Обычно он приводит меня в ужас. Но раз мама здесь, рядом, то все в порядке. Кроме одного: она очень быстро уходит, уже прошла половину столовой, уже почти подошла к камину, скоро завернет за угол и начнет подниматься по лестнице, и тогда я останусь в темной ванной один на один с ужасным оранжевым глазом. Поэтому я пускаюсь бегом.
Бегу и точно знаю: кто-то за мной гонится, пытается настигнуть и схватить. Я обгоняю маму, взлетаю по ступенькам на четвереньках, помогая себе руками. Оказавшись на верхней площадке первым, останавливаюсь и смотрю вниз.
Мама поднимается по лестнице медленно, торже-ственно, точь-в-точь кинозвезда на вручении «Оскара». Она внимательно смотрит на меня и широко улыбается.
– Ты летаешь по лестнице совсем как Крим.
Крим – наша собака, золотистый Лабрадор, мы с мамой ужасно ее любим. Она не папина. И не моего старшего брата. Это очень важно, что не брата. Ему уже шестнадцать, он на целых семь лет старше меня и живет вместе с друзьями в Сандерлэнде, в нескольких милях от нас. Он бросил школу, потому что считает себя слишком умным. Ненавидит родителей и говорит, что не может жить с ними в одном доме. А они говорят, что он совсем отбился от рук и с ним нет никакого сладу. В результате мы почти не видимся. И поэтому Крим – совсем не его собака. Она моя и мамина. Любит нас, а мы любим ее. А я очень похож на Крим, которую так любит мама.
Я улыбаюсь маме.
Не хочу, чтобы она уезжала.
Крим спит возле двери. Она знает, что мама собралась уходить, и тоже этого не хочет. Иногда я заворачиваю Крим в фольгу – целиком: и живот, и хвост, и лапы – и вожу на поводке по всему дому. Мне очень нравится, когда она блестит, как звезда, словно в «Шоу Донни и Мэри».
Крим открывает глаза и, подергивая ушами, внима-тельно смотрит на маму. Потом снова закрывает глаза и тяжело вздыхает. Ей семь лет, но по собачьим меркам это все сорок девять. Крим – старушка, поэтому она быстро устает и любит много спать.
В кухне мама берет со стола ключи и небрежно кидает их в кожаную сумку. Мне очень нравится эта сумка. В ней бумаги, кошелек, пачка сигарет. А на самом дне, куда мама никогда не заглядывает, валяется выпавшая из кошелька мелочь, забытые мятные пастилки, табачные крошки. Я иногда сую в сумку нос и вдыхаю как можно глубже.
Когда я вернусь, – говорит мама, – ты уже будешь видеть десятый сон. Так что спокойной ночи. Утром увидимся.
Куда ты едешь? – в сотый раз спрашиваю я.
В Нортхэмптон, – отвечает она, – читать. Там в книжном магазине «Бродсайд» поэтический вечер.
Моя мама – звезда. В точности как та тетя в телевизоре, которую зовут Мод. Вопит, как Мод, носит яркие платья и длинные жилеты ажурной вязки – тоже как Мод. Во всем похожа на Мод, только у нее нет всех этих лишних подбородков. Когда по телевизору показывают Мод, мама просто от смеха заходится.
– Люблю Мод, – говорит она.
Моя мама – звезда, в точности как Мод.
Ты будешь раздавать автографы?
Она смеется:
Наверное, подпишу несколько книг.
Моя мама родилась в городе Кейро, штат Джорджия. Поэтому все, что она говорит, похоже на узорную кованую железную решетку. Речь других людей мне кажется плоской; слова просто повисают в воздухе. Когда говорит мама, концы всегда изгибаются,
– А папа где?
– Где папа? – задумчиво повторяет мама и смотрит на часы. Часы у нее – «Таймекс», серебряные, на черном кожаном ремешке. Циферблат маленький и круглый. Без цифр. Зато тикают так громко, что слышно издалека, особенно когда в доме тишина!
Сейчас в доме тихо. Поэтому я хорошо слышу, как тикают мамины часы.
За окном стоят темные высокие деревья. Я представляю, как они склоняются к дому и тянутся к свету в окнах, словно мотыльки.
Мы живем в лесу, в стеклянном доме, со всех сторон окруженном деревьями. Соснами, березами, кленами.
От дома к деревьям ведет открытая веранда. На ней можно стоять и смотреть, а если повыше протянуть руку, то и сорвать с дерева листик или иголку с сосны.
Мама проносится по гостиной, за диваном, чтобы через раздвижную стеклянную дверь посмотреть на дорожку перед домом; обходит вокруг стола. Поправляет хрустальный набор: солонку и перечницу. Проходит через кухню – насквозь. Наш дом просторный и открытый, потолки очень высокие. Места много.
– Мне необходимы высокие потолки, – вечно твердит мама. Бот и сейчас она говорит: – Мне нужны высокие потолки.
И поднимает голову.
Шуршит гравий под колесами машины, потом на стене возникает свет фар. Он переползает на потолок, словно живой.
– Ну, наконец-то, – говорит мама.
Папа приехал.
Сейчас он войдет в дом, нальет себе выпить, а потом спустится вниз и будет в темноте смотреть телевизор.
А весь второй этаж останется в моем распоряжении. Все окна и стены, и весь камин – он прорезает дом снизу доверху, оба этажа, как раз посредине. Мне достанется и формочка для льда в морозилке, и шестигранный кофейник, в котором мама варит кофе гостям, черный проигрыватель, стереоколонки; все, что заключено в объемном, высоком пространстве. Все будет моим.
Я буду повсюду ходить, включать и выключать свет. Включать и выключать. На стене, там, где холл переходит в большие, с высокими потолками, комнаты, есть целая панель с выключателями. Включу лампы в гостиной – в ярком свете окажутся камин и диван. Потом выключу их, а включу свет в холле и в коридоре, как раз над дверью. Отбегу от стены и остановлюсь в освещенном пространстве. Словно звезда, буду купаться в свете и громко скажу:
– Спасибо, что пришли на мой поэтический вечер.
Я надену платье, которое мама сегодня не надела.
Длинное, черное, стопроцентный полиэстер. Это мой любимый материал, потому что он струится. Надену ее платье, ее туфли и стану ею.
В лучах яркого света откашляюсь и начну читать стихотворение из ее книги. Буду читать, как читает она – с отточенными и изящными южными интонациями.
Потом везде выключу свет, пойду в свою комнату и плотно закрою за собой дверь. Моя комната темно-синяя. По обе стороны окна – книжные полки на кронштейнах. Они украшены алюминиевой фольгой. Я люблю, чтобы все вокруг блестело.
На сверкающих полках—драгоценности. Пустые консервные банки, я их отмыл от наклеек и натер до блеска. Жалко, они не золотые. Там у меня хранятся кольца – я их привез из Мексики, давно, мне тогда было пять лет. А еще на полках приклеенные на картонки фотографии драгоценностей из журналов, красивая серебряная ложечка из тех, что бабушка прислала моим родителям на свадьбу (мама ненавидит серебро – «жуткая безвкусица»), и небольшая коллекция монеток – в пять, десять и двадцать пять центов. Каждую я тщательно вымыл, а потом до блеска отполировал, пока смотрел по телевизору «Донни и Мэри» или «Тони Орландо».
Я люблю блестящие вещи, люблю звезды. Когда-нибудь я тоже обязательно буду звездой, как мама и Мод.
Раздвижные двери шкафа покрыты зеркальными квадратиками, которые я купил на карманные деньги. Квадратики – зеркальные с золотыми прожилками. Я все это сам прилепил на двери.
Настольную лампу поверну так, чтобы она светила в центр комнаты, и встану в ее свете, глядя на себя в зеркало.
– Дай-ка мне вон ту коробку, – скажу я своему отражению, – что-то здесь не то.
Темно-синий пиджак для маленького мальчика Ч.1
Любовь к строгой одежде возникла у меня еще в материнской утробе. Когда мама была мною беременна, она включала на всю катушку магнитофон с записями оперных арий, а сама за кухонным столом писала письма в «Нью-Йоркер», вкладывая конверты с обратным адресом. На самом глубинном генетическом уровне я каким-то образом понимал, что громкую музыку, звучащую сквозь мамино тело, исполняют толстые дяди и тети во фраках и в платьях с блестками. В десять лет мой любимым костюм состоял из темно-синего пиджака, белой рубашки и пристяжного красного галстука. Мне казалось, что так я выгляжу солидно и значительно. Словно молодой король, который взошел на трон, потому что его мать обезглавили.
Я наотрез отказывался идти в школу, если волосы мои не лежали гладкой светлой волной. Я хотел, чтобы они выглядели в точности как у манекенов в магазине, где мама покупала одежду. Даже одна непослушная волосинка выводила меня из равновесия: расческа летела в зеркало, я со слезами выбегал из комнаты.
Белые ворсинки на одежде, которые мама не могла снять клейкой лентой, были более веской причиной прогулять школу, чем ангина. Вообще, с удовольствием я ходил туда лишь раз в году – когда нас фотографировали. Мне очень нравилось, что фотограф на прощание дарил нам расчески, как в телеигре.
Все детство, пока мои сверстники возились, гоняли мяч и приходили домой чумазыми, как поросята, я просидел в спальне, полируя золотистые «колечки настроения» (я выпрашивал их у мамы в «Кей-марте»). А еще слушал свои любимые пластинки – Барри Манилоу, «Тони Орландо» и почему-то «Одетту». Более современным дискам в восемь дорожек я предпочитал альбомы. Они продавались в конвертах, напоминавших мне о чистом белье. Да и картинки на них были больше, и легче было разглядеть каждый черный волосок на руках Тони Орландо.
Я бы отлично вписался в семейку Брэйди. Скорее всего оказался бы благовоспитанным белокурым Шоном, который всегда примерно себя ведет, помогает Элис по хозяйству и подрезает Марши посеченные концы волос. Я бы не только мыл Тигра, но и укладывал ему шерсть. И предупредил бы Джен, чтобы не надевала тот безвкусный браслет, из-за которого девочки проиграли соревнование по строительству карточных домиков.
Мама курила без остановки и сутки напролет писала исповедальные стихи, прерываясь лишь для того, чтобы позвонить подругам и прочитать новый вариант поэмы. Порою она даже спрашивала мое мнение,
– Огюстен, я сейчас работаю над стихотворением, мне кажется, оно все-таки пробьется в «Нью-Йоркер». И уж точно принесет мне славу. Хочешь послушать?
Я отвернулся от зеркала на двери шкафа и положил на стол расческу. «Нью-Йоркер» я любил за комиксы и рекламу. Может быть, мамино стихотворение поместят рядом с рекламой «меркьюри-гран маркиз»!
– Читай, читай, читай! – закричал я.
Она отвела меня в кабинет, уселась за стол и выключила «Олимпию» – белую пишущую машинку. Потом быстро проверила крышечку на корректирующей жидкости, откашлялась и вытащила из пачки очередную сигарету. Я сел на широкую двуспальную кровать, которую мама при помощи подушек и лоскутного покрывала превратила в диван.
Ну, готов?
Готов!
Она закинула ногу на ногу, уперлась запястьем в колено и, подавшись вперед, прочла: «Детство прошло. Юность. Порвана связь с любимыми. Горе мое восходит к облакам. Слезы, падая с неба, заново строят землю, и мертвые встают из могил, чтобы, шагая со мной, петь. И я...»
Мама читала подолгу – красиво, с отточенными интонациями, иногда, для тренировки, – в микрофон, который стоял у нее в углу комнаты. Когда мама уходила к Лидии или увлеченно обрезала в гостиной свой любимый хлорофитум, я брал микрофон и засовывал под ширинку, а потом разглядывал себя в зеркале.
Закончив читать, мама подняла глаза и, глядя на меня, серьезно проговорила:
– Ну а теперь скажи честно. Тебе это кажется сильным? Эмоционально напряженным?
Я прекрасно понимал, что ответ может быть лишь один:
– Здорово! Очень похоже на то, что печатают в «Нью-Йоркере».
Мама довольно рассмеялась:
– Правда? Ты действительно так думаешь? «Нью-Йоркер» ведь очень разборчив. Кого попало не печатает.
Она встала из-за стола и начала мерить шагами комнату.
– Честно. Я правда думаю, что они это напечатают.
Как твоя мама толкала тебя в пруд с золотыми рыбками и про парализованную сестру – это просто замечательно!
Мама снова закурила и глубоко затянулась.
– Ну что же, посмотрим. А то я как раз получила письмо с отказом из «Вирджиния квотерли». И расстроилась.
Разумеется, если «Нью-Йоркер» напечатает это стихотворение, твоя бабушка его увидит. Не представляю, что она скажет. С другой стороны, не могу же я из-за нее не печатать стихи!
Она остановилась – одна рука уперта в бедро, другая, с сигаретой, у губ.
Ты ведь понимаешь, Огюстен, твоя мать когда-нибудь будет очень знаменита.
Конечно, – отвечал я. При мысли, что когда-то перед нашим домом вместо ужасного «додж-аспена» будет стоять шикарный новый лимузин, мне хотелось кричать: «Ты обязательно прославишься! Я точно знаю!»
Еще я хотел, чтобы у лимузина были тонированные стекла и мини-бар.
* * *
Отец тем временем изображал спивающегося, но гениального профессора математики в университете штата Массачусетс. Он страдал псориазом, отчего походил на вяленую скумбрию в твидовом костюме. Любви и отзывчивости в нем было столько же, сколько в куске окаменелого дерева.
Давай поиграем в шашки, – ныл я, ходя вокруг, покуда отец на кухне проверял студенческие контрольные и стаканами глушил водку.
Нет, сын. У меня слишком много работы.
А потом поиграем?
Отец продолжал внимательно смотреть в листок, время от времени что-то отмечая на полях.
Нет, сын. Я же тебе сказал, у меня очень много работы. А когда я ее сделаю, то устану. Иди лучше поиграй с собакой.
Мне надоела собака! Она умеет только есть и спать.
Может быть, все-таки сыграем? Один разок!
Наконец он поднимал глаза.
– Нет, сын, я не могу. Мне нужно проверить работы.
Я устал, у меня болит колено.
Колено распухало из-за артрита; отцу приходилось время от времени ходить к врачу и протыкать его длинной иголкой. Он хромал, а с лица не сходило страдальческое выражение.
– Если бы я мог спокойно сидеть в инвалидном кресле, – иногда говорил отец, – по крайней мере передвигаться было бы куда легче.
У нас было одно общее дело: отвозить на свалку мусор.
– Огюстен! – кричал отец из подвала. – Если загрузишь машину, я прокачу тебя до свалки.
Я напяливал на палец колечко настроения, которое как раз полировал, и летел в подвал. Отец, в черно-красной клетчатой куртке, морщась от боли, тащил на плечах два больших зеленых пластиковых пакета.
– Проверь, крепко ли завязано. Не хватало только, чтобы мусор рассыпался. Потом не соберешь.
Я брал пакет и тащил его к двери. Не волоки по полу! Порвешь дно, и все вывалится.
Я же тебя только что предупредил.
Ты велел проверить, как завязано, – парировал я.
–Да. Но ясно же, что тащить пакет по полу нельзя.
Он ошибался. Я видел по телевизору рекламу мусорных пакетов «Хефти».
Они не порвутся, – коротко заверял я, продолжая тащить.
Послушай, Огюстен. Пакет надо нести, понимаешь?
Если ты не в состоянии нести пакет в руках, как положено, я не возьму тебя на свалку.
Я глубоко вздыхал, поднимал пакет и нес его к «аспену», а потом снова шел в подвал, за следующим. Обычно мы неделями копили мусор, в подвале собиралось до двадцати пакетов.
Когда машина наполнялась, я втискивался на переднее сиденье между отцом и мусором. Кисловатый запах, настоянный на картонных пакетах из-под молока, яичной скорлупе и содержимом пепельниц, приводил меня в восторг. Отца тоже.
– Мне нравится этот запах, – признавался он, пока мы ехали шесть миль до общественной свалки. – Я бы с удовольствием жил поближе к мусорной куче.
Приехав, мы с отцом настежь открывали все двери фургона. Машина стояла на самом краю огромной ямы, расправив крылья, словно готовилась взлететь. Радиатор широко улыбался. Здесь я мог вытаскивать пакет, как хочется, и волочить его по земле, а потом бросать вниз.
Дальше мы ехали мимо цеха по переработке вторсырья, куда люди свозили сломанные детские ходунки, ржавые железные печки и ненужные кукольные домики.
Пожалуйста, разреши мне взять его домой, – заныл я, увидев хромированный кофейный столик со столешнией из выщербленного дымчатого стекла.
Ничего из этого хлама мы домой не потащим. Неизвестно, где это все находилось.
Он еще совсем хороший! – Я уже представлял себе, как прикрою щербины, разложив веером журналы – будто в приемной у врача. Ну а если часа три потереть столик «Виндексом», он наверняка станет чистым.
Нет, сын. А теперь перестань трогать грязь и возвращайся в машину. И не хватайся за лицо – у тебя все руки в микробах.
Колечко настроения на моем пальце сразу почернело.
– Ну почему нельзя? Почему?
Отец раздраженно вздыхал.
– Я тебе сказал, – цедил он сквозь стиснутые зубы, – неизвестно, кому принадлежал весь этот хлам. Мы только что вывезли мусор из дома, и незачем сразу тащить туда новый.
Я сидел, прижавшись к незапертой двери, и втайне мечтал, что она распахнется на полном ходу, я вывалюсь на шоссе и покачусь по асфальту – под колеса едущего за нами грузовика. Тогда уж отец точно пожалеет, что не разрешил мне взять кофейный столик домой.
Родители ненавидели друг друга и ту жизнь, которую построили вместе. Поскольку я появился на свет в результате сплава их генов, то неудивительно, что мне нравилось кипятить мелкие монетки на плите, а потом до блеска начищать пастой для полировки металла.
– Ты тиран, инфантильный тиран! – кричала мама, сидя на диване в любимой позе, поджав под себя ноги. – Чертов ублюдок! Добиваешься, чтобы я перерезала себе вены! – Она рассеянно потеребила кисточку на длинном вязаном жилете.
Крим восприняла слова хозяйки как сигнал к отступлению и, поджав хвост, отправилась вниз – спать возле бойлера.
Отец стал красным как рак и подлил в стакан тоника.
– Дейрдре, ради Бога, успокойся. У тебя просто очередная истерика. Просто истерика. – Поскольку отец работал преподавателем, у него выработалась привычка все повторять по несколько раз.
Мама поднялась с дивана и медленно пошла по белому пушистому ковру, словно ища место с наилучшей акустикой.
– У меня истерика? – спросила она ровным, тихим голосом. – Ты считаешь, истерика? – {Театральный смешок.) – Ну, ты и убожество! – Мама остановилась рядом с отцом и прислонилась спиной к книжному шкафу. – Твои желания настолько вытеснены в подсознание, что творческий порыв ты принимаешь за истерику. Именно этим ты меня и убиваешь. – Она закрыла глаза и сделала лицо, как у Эдит Пиаф.
Отец поднес к губам стакан и отхлебнул глоток. Обычно он пил весь вечер, поэтому слова его казались слегка скомканными.
Никто тебя не убивает, Дейрдре, поверь. Ты сама себя убиваешь.
Чтоб ты сдох! – завизжала мама. – Проклинаю тот день, когда вышла за тебя замуж!
Пока они так ругались, я сидел здесь же, в столовой, за столом, расстегивая и застегивая застежку на золотой цепочке, которую мама купила мне в Амхерсте. Я всегда боялся, что она свалится, поэтому постоянно проверял застежку.
Я поднял глаза и произнес:
А вы не можете перестать ругаться? Вы все время ругаетесь и мне тошно вас слушать!
Это наше с отцом дело, – холодно ответила мама.
– Нет! – заорал я сам удивляясь своей злости. – Не ваше, потому что есть еще и я! И мне тошно! Вы только и умеете, что кричать. Почему бы вам не оставить друг друга в покое? Хотя бы на время.
Первой подала голос мама:
– Это все из-за твоего отца.
Дело закончилосьтем, что ссора переехала в кухню. Там и свет был поярче, и кое-какое оружие под рукой.
– Только посмотри на свою рожу! – орала мама. – Ты выглядишь вдвое сташе своих лет. Тебе тридцать семь, а можно подумать, что все восемьдесят!
К тому времени отец успел как следует набраться. Он не придумал ничего лучше, чем схватить маму за горло.
– Убери от меня свои поганые руки! – вопила мама, вырываясь из отцовской хватки.
– Заткнись, сука, процедил он сквозь зубы.
Я, уже в пижаме, наблюдал за происходящим из дверей кухни.
– Прекратите! Прекратите немедленно!
Одним движением мать отпихнула от себя пьяного отца. Он стукнулся головой о посудомоечную машину, рухнул на пол и замер без движения. Под ухом у него натекла небольшая лужица крови. Я думал, он умер.
– Не шевелится, – констатировал я, подходя поближе.
– Этот слизняк просто ломает комедию. – Носком красной туфли она пихнула отца в больное колено. – Поднимайся, Норман, ты пугаешь Огюстена. Довольно фокусов на сегодня.
Отец в конце концов сел и прислонился головой к посудомоечной машине.
Мама с отвращением оторвала от рулона бумажное полотенце и протянула ему.
– За то, что пугаешь ребенка тебя нужно оставить истекать кровью.
Папа прижал к голове полотенце, пытаясь остановить кровь.
Увидев, что отец жив, я начал беспокоиться за маму.
– Пожалуйста, не обижай ее, – просил я, – пожалуйста, не убивай!
Меня пугало отцовское бесчувствие. Одно дело невозмутимое спокойствие человека, нарисованного на банке растворимого кофе, и совсем другое – пустое, отсутствующее выражение на отцовском лице. Я опасался, что он, как говорит мама, «лопнет от ярости».
Я снова подался вперед.
– Не убивай ее, пожалуйста!
– Отец вовсе не собирается меня убивать. – Мама зажгла ближнюю конфорку, вытащила из пачки сигарету и наклонилась, чтобы прикурить. – Скорее, он замучает меня своими издевательствами и дождется, что я сама перережу себе горло.
– Будь добра, заткнись, Дейрдре, – тихо проговорил усталый и пьяный отец.
Мать, с улыбкой глядя на него сверху вниз, выпустила дым через ноздри.
– Я буду добра заткнуться, когда ты будешь так добр сдохнуть.
Меня охватила паника.
– Ты правда собираешься перерезать себе горло? – спросил я.
Она улыбнулась и протянула ко мне руки.
– Нет, конечно, нет. Просто такое выражение.
Потом поцеловала меня в макушку и ласково почесала мне спину.
– Уже очень поздно, час ночи. Тебе давно пора спать, а то в школу не встанешь.
Я пошел к себе и тщательно выбрал костюм, который надену утром. Перевесил его поближе, в первый ряд. Завтра я надену свои любимые синтетические желто-коричневые штаны и голубую рубашку с пришитой жилеткой. Эх, сюда бы еще туфли на платформе!
Мысль, что костюм в порядке, успокаивала. Я мог добиться идеальной стрелки на брюках, даже если не мог остановить маму, когда та однажды выбросила за порог рождественскую елку. И мог сколько угодно полировать золоченое кольцо с печаткой, хоть пока позолота не сотрется, даже если не мог помешать родителям швырять друг в друга романы Джона Апдайка.
Именно поэтому меня так занимал вопрос, блестят ли мои драгоценности так же ярко, как у Донни Осмонда, и лежат ли мои волосы абсолютно гладко, словно пластмассовые.
Помимо одежды и драгоценностей я ценил в жизни еще две вещи: врачей и знаменитостей. Мне нравились в них белые халаты и лимузины. Я точно знал, что хочу стать или врачом, или знаменитостью. А лучше всего – исполнять роль врача в телевизионном шоу.
Хорошо, что мы жили в лесу, в окружении сосен. В самом крайнем, отчаянном случае сосны могли заменить собой камеру «Панавижн». Сломанные ветки играли роль микрофонов. Я мог ходить по лесу или по грязной дороге перед домом так, словно на меня постоянно направлены телекамеры. Их жужжание раздавалось совсем близко, почти над ухом: ведь они старались не упустить выражение лица.
Поднимая голову, чтобы взглянуть на птицу, я неизменно думал, хорошо ли освещено мое лицо и точно ли передает его вон та направленная на меня ветка.
Я жил в иллюзорном мире, наполненном высокими деревьями, следящими за мной через мощные объективы. Упавшая ветка оказывалась вовсе не веткой; она отмечала мое место на съемочной площадке.
Если я не участвовал в съемках, швыряя бионической рукой ветки или снимая рекламу зубной пасты перед каким-нибудь булыжником, то пытался обманом заставить маму отвезти меня к врачу.
К десяти годам мне уже понадобились еженедельные антиаллергические уколы, по одиннадцать в каждую руку. На пальцах у меня постоянно торчали бородавки, которые требовалось прижигать, а горло все время болело, оттого что я набирал в руки пыль и вдыхал ее.
Я любил накрахмаленные белые халаты и серебристый блеск стетоскопа вокруг шеи. Еще я знал, что врачи свободно могут ставить свои машины, где захотят, и превышать скорость – никто их не оштрафует. Все это казалось верхом привилегий в то время, когда президент Картер за-ставил нас ездить со скоростью сорок километров в час и жить в полутьме.
У меня было два доктора, которых я посещал регулярно. Доктор Лотье – у него на руках и в носу росли длинные волосы – и очень уважаемый аллерголог, индиец доктор Нупал. Доктор Нупал ездил на белом «мерседесе» (я его спрашивал) и пах так, как пахнут только что вымытые руки, с тонкой примесью «Аква Велва».
При одной мысли о врачах мне вспоминалась приятная картинка: флуоресцентные лампы над головой, новые блестящие иглы, ботинки, начищенные до такой степени, что во мне просыпалось чувство благоговения, как если смотришь по телевизору церемонию присуждения «Оскара».
А еще был доктор Финч.
Когда настроение в нашем доме перешло от простой ненависти к возможному двойному убийству, родители обратились за помощью к психиатру. Доктор Финч выглядел в точности как Санта-Клаус. Копна буйных седых волос, пышная белая борода и брови, больше всего напоми-нающие щетину зубной щетки. Вместо красного полушубка с белой меховой оторочкой он носил коричневые синтетические брюки и белую рубашку без пиджака. Иногда, правда, он надевал шапку, как у Санта-Клауса.
Впервые я увидел его, когда он появился в нашем доме посреди ночи, после особенно яростной драки между родителями. Мама, лежа на диване, дымила как паровоз, и тут раздался настойчивый звонок в дверь.
– Ну, слава Богу! – Она быстро встала и пошла в прихожую.
В руке доктор держал воздушный шарик, а на лацкане его пиджака красовался круглый значок с надписью «Всемирная организация отцов». Он посмотрел через мамино плечо, прямо на меня.
– Привет!
Я в растерянности слегка попятился.
Входите, пожалуйста, – пригласила мама, подкрепив слова жестом. – Я вас заждалась, просто не знала, куда деваться.
Уже все в порядке, Дейрдре, – успокоил ее доктор. Потом он опустил руку в карман и протянул мне точно такой же, как у него самого, значок. – Хочешь? В подарок?
Спасибо. – Я взял в руки значок и внимательно рассмотрел.
Потом доктор снова залез в карман и вытащил целую горсть шариков.
– И вот это – произнес он.
– Спасибо, – снова поблагодарил я. Разноцветные шарики никак не гармонировали с маминым настроением, но мне все равно понравились. Их можно будет надуть, связать в букет и привязать к ошейнику или хвосту Крим.