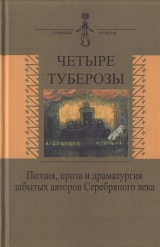
Текст книги "Четыре туберозы"
Автор книги: Нина Петровская
Соавторы: Иоганнес фон Гюнтер,Сергей Соколов,Александр Ланг
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
(Из Mary Coleridge. С английского)
Мало ль я слышал, как пели птицы,
Мало ль я видел, как цвели цветы,
Но я не слышал чудесней певицы,
Но я не видал нежней красоты.
Чудо! Она цветёт… как птица.
Чудо! Она поёт… как цветок.
Бросит слово – лечу, как птица,
Кинет взгляд – дрожу, как цветок.
(Из Alfred Noyes. С английского)
Месяц… Море… Звёзды ясны…
Вольный ветер веет нам.
Путь бездумный, путь прекрасный
По серебряным полям.
Старый мир нам сер и тесен,
Легкокрылы корабли.
Царство золота и песен
Там, в неведомой дали.
Мы ушли от лицемерий,
От улыбок и от лжи.
Боже Правый! В тихой вере
Наше сердце освежи.
Прочь от жизни, где оковы,
Где любовь на торг свели!
Век златой найдём мы снова
Там, в неведомой дали.
И за лунною оградой,
Дальше, дальше, чем мечта,
Нам откроет Эльдорадо
Златоцветные врата,
Чтобы те, что так устали,
Вечный светоч обрели
За чертой земной печали,
Там, в неведомой дали.
(Из W. Yeats. С английского)
Тяжёлые дни для неё прошли,
Тело её в бессилье покорном
Лежит под мирным кровом земли,
В тиши, под зелёным дёрном.
Пойте, подруги, над ней торжество
В одеждах светлых и новых!
Больше не нужно ей ничего
В гробу, меж досок дубовых.
За Девой Марией, узкой тропой,
Душа её всходит к небесной выси,
С грацией скромной, робкой стопой,
Туда, где лазурь и бисер.
И ножки, белее ангельских ног,
Скользят вперёд без усилья.
Всё ближе, ближе святой порог, —
Огонь и белые крылья…
(Из William Canton. С английского)
Он шёл туда, где тучи плыли,
Ему вослед, сыны земли,
Мы силуэт его следили
На розовеющей дали.
И вот он мёртвый перед нами.
Вздохнул ли он перед концом
О тихих хижинах с садами
И с покосившимся крыльцом?
(Из Alice Meynell. С английского)
Домой, домой с чужого края!
И белых крыльев даль полна,
Дневных воспоминаний стая
Летит на голубятню сна.
Кто впереди всех осиянней?
– Взглянуть кружится голова. —
И всех быстрей, и всех желанней?
То ваши нежные слова.
(Из William Davis. С английского)
Что наша жизнь! Всё в путь да в путь.
Нельзя на миг передохнуть.
Захочешь в лес, в траву, к ветвям,
То можно птицам, а не нам.
Не нам глядеть, забыв про всех,
Как белка щёлкает орех.
Нам недосуг среди полей
Послушать, как журчит ручей.
Вот мчится в танце Красота,
О чём поют её уста?
Куда манит призыв очей?
Не знаем, некогда, скорей!
И так всю жизнь. Всё в путь да в путь!
Хотя б в могиле отдохнуть!
(Из Robert Bridges. С английского)
Вся в белом ходит Весна,
Белым увенчана маем,
Белых тучек волна
Кудрявится светлым краем.
Белых бабочек рой,
Поля маргариток белеют,
И нежно зефиры лелеют
Вишен убор снеговой.
(Из Mary Coleridge. С английского)
Века тому назад, такой же ночью ясной,
Здесь римлянин стоял, волнением томим,
И, глядя на холмы, шептал: Они прекрасны,
Но не твои, о Рим.
И я, народа дочь, в ком много римской крови,
Где Рима сын стоял, гляжу, чужая всем,
Как скалы на холмах всё так же хмурят брови,
Не тронуты никем.
Всё так же дальних звёзд сияния бесстрастны,
И то же мыслю я, что тот в былые дни,
И я кричу к холмам: Пускай они прекрасны,
Не в Англии они!
НИНА ПЕТРОВСКАЯ**
ОСЕНЬ
В те дни я был молод, ещё верил в любовь, и глаза мои, такие тусклые теперь, горели, как огни. Жизнь казалась прекрасной и заманчивой, как сказка, и каждый вечер в тёмном парке меня ждала красивая, влюблённая женщина.
Встретившись, мы, бледные от волненья, молча прижимались друг к другу и, притихшие, нежные, шли по аллее, где пахло скошенной травой и сладко благоухали липы…
Потом мы целовались, и высокие деревья в бешеной пляске кружились перед глазами, и синее ласковое небо заволакивалось туманом, в котором плыли и тонули блестящие огненные точки. И всё это мы называли любовью, и казалось, что она бесконечна.
Так шло лето.
Но скоро липы отцвели, и на широких лужайках стояли уже серые копны сена.
По вечерам парк хмурился и на жёлтый песок, тихо кружась, падали мёртвые листья. В цветниках запестрели последние цветы, и их яркие краски точно говорили, что они берут от жизни последние минуты с лихорадочной страстью существ, обречённых на скорую гибель.
Настали серые дождливые дни и туманные, сырые вечера.
Печальное небо целый день висело над парком, а вечером белый туман поднимался над прудом и, бесформенный, бледный, как привидение, медленно полз, цепляясь за кусты.
А мы всё ещё встречались, но какая-то мучительная, беспокойная тоска прокрадывалась мне в душу.
Прижимая к груди её руку, я тревожно смотрел в глубину мрачных деревьев, и мне казалось, что там вспыхнут сейчас зелёные огни, и по парку, спугивая сонных птиц, раздастся чей-то дерзкий, нечеловеческий хохот. Моё настроенье передавалось ей, но мы молчали, потому что звуки наших сдавленных голосов в эти минуты были страшнее молчанья.
Чтобы прогнать этот неопределённый, давящий страх, мы целовались страстно, безумно, как прежде, а ночь всё чернела, и деревья зловеще шептались над нашими головами.
Этот шёпот спугивал страсть. Отрывая от себя её губы, я слушал его, и мне начинало казаться, что, угрюмо шевеля тёмными ветвями, они вспоминают об улетевших годах, о тайнах, которые навеки умерли под их зелёным сводом, и о людях, которые когда-то, как мы, ходили здесь, опьянённые, с затуманенными страстью глазами, а потом забыли, разлюбили и ушли неизвестно куда.
Мне становилось страшно, точно присутствие какой-то неизбежной печали дышало над душой. Тогда мы торопливо уходили из темноты и облегчённо вздыхали, когда выходили на голые мокрые лужайки, где висело серое небо, в котором не было пугающих тайн. Порой мной овладевала странная усталость, только она ещё не понимала этого и по-прежнему хотела ласк, любви и поцелуев.
Один раз в чёрную августовскую ночь, незадолго до назначенного свиданья, когда я, тоскливо и бесцельно прислушиваясь к тиканью часов, сидел один в пустой неуютной комнате, пошёл дождь. Крупные капли злобно и часто колотили в железную крышу, а в окна сурово и бесстрастно смотрела тёмная холодная ночь.
Но я всё-таки знал, что она придёт, и оттого, что я знал это наверно, мне делалось скучно и большое стенное зеркало не отражало, как прежде, счастливого лица с яркими, как огонь, глазами.
Когда часовая стрелка подошла к одиннадцати, я всё-таки пошёл. Усталый, точно больной, я шёл, с трудом передвигая ноги, а кругом расплылись большие тёмные лужи и уныло шумели частые капли дождя.
Мы встретились и молча сели на мокрую скамейку, и казалось мне, что не было ни лета, ни солнца, ни серебряных нежных ночей, ни любви, а всегда и над душой, и над парком висела непроглядная, безнадёжная тьма.
– Ты любишь меня? – спрашивала она.
Я улыбался безжизненной улыбкой и целовал её холодными губами, и сам был такой же холодный и пустой, как мои бездушные поцелуи.
Как две тени, мы побрели по мокрым дорожкам, увязая в рыхлом песке, и на повороте, где кончались деревья и смутно рисовался цветник, вздрогнув от неожиданности, столкнулись с какой-то человеческой фигурой.
Я нагнулся и заглянул ей в лицо. Маленькая, сгорбленная, в мокрых лохмотьях она стояла перед нами, протягивая сморщенную руку, и невнятный голос точно шёл не из беззубого старческого рта, а доносился откуда-то издалека вместе с шумом дождя и унылым шелестом листьев.
– Подайте милостинку ради Христа, подайте на пропитание убогой старушке, добрые люди, – дребезжал этот голос вместе с жалобой ветра.
И вместо того, чтобы дать ей, я в безотчётном ужасе заглядывал в темнеющие впадины её глаз, и мне чудилось, что это тёмный дух ночи, смерти и разрушения явился из тьмы и воплотил в живом страшном образе то, что незримо ещё витало в моей душе.
Я отдал ей всё, что было со мной. В холодной руке слабо звякнули монеты, и чёрная уродливая тень заковыляла по аллее, пока не потонула в дождливой мгле ночи.
Полный необъяснимого страха, я всё смотрел ей вслед, а усталая, бледная женщина в промокшем платье с гневной тоской говорила мне жгучие ядовитые слова, от которых тяжёлая неподвижность, как кошмар, сковывала душу.
– Скажи мне правду, ты разлюбил меня? – молила она, и острые ногти впивались в мои вялые пальцы.
И я сказал ей правду.
И правда эта была такая же злая и беспощадная, как осень, которая с жестоким упоеньем искажала красоту парка и рвала с цветов последние яркие лепестки.
– Я не люблю тебя больше, – шептал я, – твои поцелуи лгут, как лжёшь вся ты. Разве то, что мы пережили здесь, обновило душу и окрылило её надеждой? Разве согрели сердце твои поцелуи? О, тогда бы я не был таким безжизненным, усталым и холодным, точно кто выпил из меня всю кровь. Разве между нами была та близость, та широкая человеческая близость, которая так нужна для жизни, и можешь ли ты, – ты, знающая только страсть, понять ужас души, от которой в первый раз оторвалась вера?
Умом я понимал свою жестокость, но в груди у меня было пусто и тихо, как будто ветер, который с яростью гнал по аллее жёлтые мёртвые листья, унёс оттуда и ласку, и нежность, и тепло, и там стало так же мрачно и бесприютно, как в оголённых цветниках, где в смертельном ужасе дрожали последние яркие цветы.
– Уйди, – просил я её, – твоё время прошло, не заставляй меня лгать, потому что я чувствую уже, как жалость тонкой паутиной опутывает сердце.
Она ушла……
Она ушла без слов, как умеют уходить смертельно оскорблённые женщины. Светлое пятно долго колебалось между деревьями, пока не слилось с мутным просветом аллей.
Я цепенел от страшного холода, а чей-то голос шептал мне: «Иди за ней, верни её, жизнь не отдаёт пережитого, лови прощальную улыбку лета, впереди холодно и темно». И я бросился за нею, но чьи-то ледяные, мёртвые пальцы сдавили сердце и задушили последнюю надежду.
Опять я был один. Чёрные растрёпанные ветви безобразно качались над головой, деревья тихо стонали, и, с отчаяньем впиваясь в темноту, я молил у жизни отдать мне что-то, а ветер злобно носился над парком и глухо хохотал над человеком, который поздней осенью тоскует о весенних цветах.
ОНА
Я встретил её вчера ночью. Бледный свет электричества, сливаясь с табачным дымом, лёгкой мглой висел в большой белой зале, уставленной столиками, и широкие, почти чёрные листья латаний и пальм траурным узором рисовались на белоснежных стенах.
Когда я вошёл сюда и, жмурясь от яркого света, искал глазами свободного места, на эстраду вышла какая-то женщина в красном и хриплым голосом запела скабрезную шансонетку.
И грязные, бесстыдные слова, как маленькие острые камешки, долетали во все уголки белой залы, а певица, улыбаясь детской улыбкой, серыми, наивными глазами обводила толпу, и с ярких накрашенных губ летел пошлый мотив, в ответ которому лица улыбались циничной улыбкой, и в глазах загорался тусклый огонь сладострастья.
Среди тёмной толпы мужчин яркими кричащими пятнами выделялись светлые платья женщин и громадные шляпы с колыхающимися, как на погребальном катафалке, пышными страусовыми перьями.
Я не был пьян, но то, что было кругом, мутной волной туманило голову и уносило от жизни.
В этом душном воздухе, пропитанном едва уловимым запахом вина и острых духов, в этом бледном свете, где лица казались мраморными, застывшими, точно лишёнными красок, и глаза горели диким экстазом пьяного вдохновенья, голос совести замолкал, и в душе поднимался какой-то безумный вызов жизни.
Когда певица кончила свой номер и, лениво волоча длинный шлейф, при громких аплодисментах сходила с эстрады, я сел к свободному столику и спросил себе вина. И в этот же миг, точно от внезапного толчка, я обернулся к дверям и встретился глазами с ней.
– Здравствуй, – сказал я просто, точно мы виделись вчера, и в ответ она так же равнодушно подала мне свою тонкую, сверкающую кольцами руку и села за столик напротив меня.
Теперь я смотрел на неё, и на душе у меня было холодно и пусто.
На ней было какое-то странное, бледно-жёлтое, узкое, как рубашка, платье с длинным, широким шлейфом. Пышные тёмные волосы двумя широкими прядями спускались на уши и красиво оттеняли правильное, как у статуи, лицо. А в глазах её было что-то мрачное и неподвижное. Точно глядел из них кто-то, всё изведавший и неумолимый, как смерть. И когда я заглянул в их глубину, острая боль сжала моё сердце.
– Зачем ты здесь? – спросил я её.
Она улыбнулась презрительно и спокойно и не сказала ничего.
В её ушах на длинных золотых цепочках, свешиваясь почти к плечам, сверкая и дрожа, горели два громадных бриллианта. Стараясь понять её жизнь, я смотрел на них, и мне казалось, что в них затаился ответ, что это не бездушные, сверкающие камни, а глаза того чудовища, которое жадно следит за своей жертвой и ждёт момента своего торжества.
Мы долго сидели молча, холодные и чужие, как два трупа, и высокая несокрушимая стена разделяла наши жизни.
– Ты помнишь? – спросил я её, и в этот момент чья-то жестокая рука сжала мозг, и в голове, против воли, цепляясь друг за друга, как звенья ржавой цепи, поплыли ужасные, отравляющие воспоминания.
– То умерло… – сказала она и поднесла к губам узкую, длинную рюмку с вином.
Острая боль сжала мне грудь, но я улыбнулся холодно и ядовито.
Я терял представление действительной жизни, и мне казалось, что это не она, не женщина, с которой вечными нитями связывает меня память пережитых дней, а только холодная укоряющая тень моего прошлого, и мне опять стало холодно и страшно, точно в душном воздухе залы повеяло ледяное дыхание смерти.
– Говори что-нибудь, – просил я её, – твоё молчание пугает меня.
Она подняла на меня свои огромные, загадочные, как ночь, глаза, и в них не было ни упрёка, ни тоски, ни сожаленья. Они были красивы и бездушны, как камни, которые горели в её ушах.
– Отчего ты как мёртвая? – спрашивал я её, и что-то едкое, злое поднималось в душе. – Ты любишь кого-нибудь?
Она засмеялась почти весело, и острые белые зубы, как у хищного зверка, сверкнули и скрылись за розовыми губами.
– Я любила тебя… – ответила она.
Мне показалось, что она хотела сказать что-то ещё, и, перегнувшись через столик, я долго в ожидании смотрел на неё, но она молчала.
Тогда я придвинулся к ней так близко, что с волнением чувствовал на лице её тёплое дыхание, и в этот миг что-то прежнее, горячее проснулось в душе…
– Я виноват перед тобой, – шептал я, и голос мой дрожал и обрывался. – Простишь ли ты меня?..
– То умерло… – повторила она.
И это меня отрезвило.
Я понял, что то жадное, слепое, что царило в этом зале, было сильнее и меня, и её. Я понял, что мой порыв к прежнему уже невозможен и смешон. Волна жгучей, ослепляющей ярости и на себя, и на неё, и на жизнь, которая с медленной жестокостью тянула меня ко дну, как приступ острого безумия, затуманила мозг. Мне хотелось кричать и выть от боли, молить кого-то о пощаде, отдать на суд мою больную и грязную душу кому-то чистому, прекрасному, с неземными глазами, кто бы понял всю скорбь и весь ужас нашей слепой и жестокой жизни.
И я застонал, как больной замученный зверь, а она, улыбаясь, смотрела мне в лицо своими равнодушными глазами, и с эстрады нёсся нежный тоскующий вальс.
Лёгкие волны звуков плыли по зале и с грустной жалобой говорили о чём-то забытом и потерянном навсегда… Они лгали, как лгало здесь всё, но ложь эта была прекрасна и сладко туманила душу.
И моя злоба сменилась печалью.
– Послушай, расскажи мне, как ты жила эти три года? – спросил я её.
Она облокотилась на стол, и в первый раз глаза её сверкнули острым вызывающим блеском.
– Тебе интересно это теперь?
Я молчал…
– Вот моя жизнь, – кивнула она головой на шумную залу. – Другой у меня нет.
Холодный ужас ледяным веянием прошёл у меня по душе. В этот миг я совсем не понимал жизни. Она казалась мне мутным бессмысленным вихрем, который губит всех без разбора. Я почувствовал себя слабым, больным и бесконечно усталым. Теперь музыка раздражала мне нервы, а белый сверкающий свет утомлял и резал глаза.
– Уйдём отсюда. – просил я, – уйдём туда, в темноту… Здесь страшно и пусто…
– От себя никуда не уйти… – сказала она твёрдо и спокойно…
Я опять терял сознание. Кровь стучала в виски, и сердце большое, горячее, больное тупо билось в груди.
Это была уже не она, не та, для которой я жил когда-то и которую сам погубил, а точно строгий укор моей жизни воплотился в этой женщине с равнодушными глазами.
Её слова жгли и терзали меня, и, что всего хуже, я чувствовал, что она права, что все то серое, мучительное, которое тянется день за днём, как бесконечная нить, – уже не жизнь, а мутный хаос изжитых чувств и ядовитых мыслей в минуты отрезвленья.
И в миг этого ужаса то далёкое, что мы пережили когда-то, яркое и нежное, прошло по душе режущим, как боль, воспоминанием…
Последним усилием я уцепился за него, как безумный.
– Возьми мою жизнь, всё, что осталось во мне, – говорил я, – но только не будь такой холодной и жестокой. Я создам тебе новое, где дни не будут походить один на другой. Мы обманем ту тьму, что поглотила и тебя, и меня, и опять будем счастливы…
Я лгал, но эта ложь согревала меня, она рассеивала страх и тоску, и я сам верил в свои слова.
С трусливой мольбой я заглянул ей в глаза, и в них не было ни радости, ни тоски, ни сожаленья. Она смотрела прямо и спокойно.
– Завтра ты будешь смеяться над собой, – сказала она.
И я понял, что она права ещё раз, и тогда в душе порвалась последняя нить.
– Прощай, – сказал я и, бросив на стол какую-то золотую монету, вышел из залы.
Потом я шёл один в темноте. Фонарь ресторана остался позади. Маленькие снежинки, острые, как иглы, кололи мне лицо и попадали за воротник. Ветер сбивал меня с ног. А я всё шёл вперёд, пошатываясь, как пьяный. Слёзы застилали мне глаза и твёрдыми каплями застывали на ресницах. В голове не было ни одной целой мысли, и даже самая боль пути была какая-то неопределённая, точно что-то огромное и жестокое раздробилось на тысячи колючих кусков, и каждый из них впивался в сердце, как тонкое ядовитое жало.
В этом вихре неясных ощущений была какая-то одна страшная нота, и мне казалось, что, если я пойму её, то умру от ужаса и горя, но в тот миг, когда всё как будто становилось ясным, в ушах начинал звучать мотив вальса, который играли на эстраде, и я напевал его, улыбаясь светлой улыбкой сумасшедшего.
Так шёл я один, увязая в снегу, по тёмной дороге, убитый, раздавленный и несчастный.
Я был один в целом мире. В голове моей бились тысячи мучительных вопросов. Ни впереди, ни в прошлом не было ничего. И ни там, в большой белой зале, где люди искали опьяненья, ни в городе, огоньки которого уже брезжили из мрака, не было никого, кто бы откликнулся на мою боль и понял, что я гибну.
Потом я смеялся над своими мыслями.
А до города было ещё далеко. Вправо по дороге, звеня бубенчиками, летели тройки, я слышал чьи-то весёлые голоса и, в бешенстве сжимая кулаки, я проклинал кого-то и грозил туда, в пространство, откуда неслись весёлые звуки чуждой и далёкой жизни. И я шёл опять, пока не наткнулся на какое-то низкое освещённое здание, откуда вырывались звуки гармоники и пьяные голоса.
Несколько мгновений я постоял перед полуразбитым фонарём, в котором, мигая от ветра, горела тусклая лампа. Потом, не раздумывая, толкнул низкую промёрзшую дверь.
С минуту я не различал ничего. Потом из-за сизой мглы табачного дыма я рассмотрел каких-то людей с потными красными лицами и, оглушённый диким гулом голосов, почти не соображая ничего, сбросил шапку и сел к маленькому грязному столу. Потом я спросил водки и залпом выпил большой чайный стакан.
Около меня совсем близко за пустой бутылкой сидел какой-то молодой голубоглазый парень. Я налил ещё стакан и протянул ему. Он улыбнулся бессмысленно-ласковой пьяной улыбкой и подсел ко мне. Тогда мы стали пить вместе.
Говорили ли мы, – я не помню. Всё, что мучило меня, медленно тонуло в волне мутного тяжёлого угара. Комната плясала и кружилась, голубоглазый парень орал какую-то песню, и дикий рой видений, страшных, как кошмар, вихрем проносился в голове.
Звуки гармоники и вопли пьяных голосов в моих ушах сливались с мотивом грустного вальса, который я слышал с эстрады, и во всём этом было что-то стихийное, и новое, и страшное, и чарующее.
Всё смешалось… Только далеко в воображении плыли картины чего-то дорогого, забытого, от которых мне делалось больно, и глаза наполнялись слезами.
Тогда я принимался петь, громко кричать, стуча кулаками по шаткому столу, и дикий хаос звуков заглушал мою боль. И вместе с комнатой, наполненной людьми, я летел в какую-то бездонную пропасть.
А потом меня кто-то целовал мягкими липкими губами, и мокрые жёсткие усы щекотали мои щёки.
И на душе у меня делалось радостно и тепло.
Мне казалось, что кто-то нежный и печальный, как было давно, склонялся надо мной, и сердце рвалось к нему навстречу.
А потом было пробуждение – страшное, белое утро…
Но я ещё живу и буду жить, пока прежде, чем я, не умрёт во мне слепая, животная жажда жизни.








