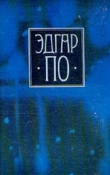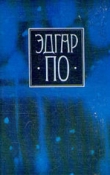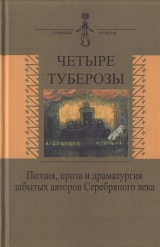
Текст книги "Четыре туберозы"
Автор книги: Нина Петровская
Соавторы: Иоганнес фон Гюнтер,Сергей Соколов,Александр Ланг
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Получив тяжёлое ранение (вернее контузию), в марте 1915 г. С. А. Соколов попал в германский плен, где более двух лет содержался в лагере для военнопленных офицеров, в котором находился вместе с будущим советским маршалом М. Н. Тухачевским. Здесь были написаны стихотворения, впоследствии составившие раздел «Лирика плена» третьего поэтического сборника «Железный перстень». В августе 1918 г. после заключения Брестского мира он был освобождён и доставлен в Москву, откуда в солдатской форме бежал на юг России, так как в Москве бывшему офицеру становилось небезопасно. С весны 1919 г. по март 1920 г. работал в литературно-политическом пресс-бюро при Отделе Пропаганды Добровольческой армии вместе с А. М. Дроздовым и А. Ветлугиным, сотрудничал в газете «Жизнь», выходившей в Ростове-на-Дону. Будучи редактором агитационных газет Добровольческой армии, в их печати выступал как идеолог Белого движения, лично написав около 40 статей. В декабре 1919 г. в Ростове-на-Дону совместно с известным художником Е. Е. Лансере выпускал журнал искусства и литературы «Орфей», единственный в своём роде на территориях Добровольческой армии. В марте 1920 г. С. А. Соколов эвакуировался из Новороссийска в Константинополь, оттуда перебрался в Париж, где писал статьи для парижской газеты «Общее дело» и пражской газеты «Русское дело».
Ещё во времена «Грифа» он увлекался спиритизмом и проводил совместную практику соответствующих сеансов вместе с Н. И. Петровской, А. А. Лангом и некоторыми другими «аргонавтами»[30]30
Подробнее об этом см. в кн.: Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. Исследования и материалы. М., Новое литературное обозрение, 1999.
[Закрыть].
Этим дело не ограничилось, и в Париже С. А. Соколов принял участие в деятельности московского мартинистского кружка и, по некоторым сведениям, за годы жизни переменил семь масонских лож. Как бы там ни было, В. С. Брачев определяет его как масона политического[31]31
Брачев В. С. Религиозно-мистические кружки и ордена в России (1900–1917 гг.) / Масоны в России – от Петра I до наших дней. Глава 17. СПб., Стомма, 2000.
[Закрыть]. Н. Н. Берберова также указывает, что в молодости С. А. Соколов был мартинистом, а в эмиграции принимал участие в создании первой русской масонской ложи в Париже «Астрея» [32]32
Берберова Н. Н. Люди и ложи. New York, 1986.
[Закрыть](ложа № 500), где с 1922 г., в первое десятилетие существования ложи, являлся одним из Досточтимых Мастеров, до 1924 г. состоял в ней в качестве оратора, после чего выбыл в Берлин, а в конце 1920-х гг. был радиирован (т. е. членство было приостановлено либо за длительную неуплату членских взносов, либо за продолжительное непосещение братских собраний).
Весной 1922 г. С. А. Соколов переехал в Берлин, где возглавил издательство «Медный всадник», в котором в том же году вышел его третий сборник стихов «Железный перстень», ставший последним и включивший стихотворения 1914–1922 гг. Название сборника может объясняться тем, что железный перстень представляет собой один из масонских символов, в контексте одноимённого стихотворения, открывающего эту книгу, могущий означать, по-видимому, некое преемство. Здесь же, в «Медном всаднике», вышел одноимённый альманах под редакцией С. А. Соколова. Платформа издательства заключалась в «объединении русских писателей национального настроения, принявших достижения мировой культуры, но рядом с этим не угасивших в себе пламень русского духа и верящих в его неистребимость и преемственное торжество в веках. Отрицая и осуждая кровавый коммунистический режим, поработивший нашу родину, „Медный всадник“ служит русскому делу, стремясь живым художественным словом укрепить в душах бодрый национальный дух и веру в конечную победу русской России»[33]33
Цит. по тексту рекламного листа в альманахе «Белое дело». Материалы, собранные и разработанные бароном П. Н. Врангелем, герцогом Г. Н. Лейхтенбергским и светлейшим князем А. П. Ливеном. I. Берлин, 1926.
[Закрыть]. В эти последние два года С. А. Соколов печатался также в журнале «Русская мысль» и в «Русском Сборнике».
О. А. Платонов[34]34
Платонов О. А. Тайная история масонства 1731–1996. М., Родник, 1996.
[Закрыть] и А. И. Серков[35]35
Серков А. И. История русского масонства. М., Издательство имени Н. И. Новикова, 2000.
[Закрыть] отмечают, что в Берлине С. А. Соколов стал «владельцем» русской эмигрантской ложи «Великий свет Севера», открытой в январе 1922 г., на несколько дней позже открытия ложи «Астрея» в Париже. В ней он занимал пост первого заместителя Досточтимого Мастера с 1927 по 1931 г. Также в рамках этой ложи он выступал с лекциями по оккультизму. А. И. Серковым[36]36
Серков А. И. Масонская ложа «Великий свет Севера» и русские писатели (1922–1933 гг.).
[Закрыть] приводится подробный очерк судьбы С. А. Соколова в этой ложе: крайне правое крыло ложи составляли монархисты, тогда как С. А. Соколов в то время придерживался более умеренных взглядов, которые, однако, с каждым годом становились всё более правыми. Членом ложи «Великий свет Севера» сделался и брат С. А. Соколова Павел, также являвшийся писателем и автором книги «Круги Судьбы». Братья Соколовы возглавили «консервативную группу» ложи. По рекомендации С. А. Соколова в эту ложу были приняты многие эмигрировавшие писатели, в частности, философ И. А. Ильин. 8 ноября 1922 г. в Берлине было создано литературное Братство круглого стола. Затем, 12 ноября 1922 г., часть литераторов из литературной группы «Веретено», в связи с несогласием с её просоветскими настроениями, перешла в возглавлявшееся С. А. Соколовым издательство «Медный всадник» и в существовавший при нём «тайный» антибольшевистский литературный кружок. В 1923 г. заседания этой литературной группы проходили в помещениях Русского национального союза и Русского национального студенческого союза.
В связи с изменением политического и финансового климата в Германии русские эмигранты начали разъезжаться. 10 марта 1932 г. С. А. Соколов покидает ложу «Великий свет Севера», объяснив своё решение тем, что сведения о его участии в ложах просочились в печать, и тем, что усилия масонства по борьбе с «красной угрозой» недостаточны. Между тем, А. И. Серков объясняет выход С. А. Соколова из ложи тривиальной боязнью преследований со стороны национал-социалистов. Однако, это лишь часть истины. А. И. Серков же рассказывает, что в январе 1933 г. ложа «Великий свет Севера» в знак протеста против попытки своей Великой Ложи (Трёх Глобусов), преобразовавшейся в Национальный христианский орден Фридриха Великого, «занять примирительную позицию по отношению к расизму» приостановила работу, а 10 апреля официально заявила о прекращении своей деятельности. Между тем, уже в это время С. А. Соколов в рамках деятельности БРП, о которой будет сказано ниже, публикует свои прокламации, приветствующие приход к власти национал-социалистов. Сопоставляя сведения, можно предположить, что в этом вопросе он разошёлся со своей ложей, чем и объясним его упрёк масонству в недостаточности усилий по борьбе с большевизмом. Однако масонское прошлое действительно не позволяло С. А. Соколову задерживаться в Германии. Возможно, он и был бы рад примкнуть к национал-социалистам, но недавняя масонская деятельность, от которой он на этот раз отошёл навсегда (что лишний раз подтверждает наши догадки относительно его разочарования в масонстве), перекрывала ему этот путь.
Параллельно своей масонской деятельности в 1921 г. С. А. Соколов вместе со многими другими именитыми реваншистами, в число которых входили донской атаман генерал П. Н. Краснов, основоположник русского фашизма А. А. Вонсяцкий, герцог Г. Н. Лейхтенбергский и другие, стал основателем благословлённой тогдашним главой РПЦЗ митрополитом Антонием (Храповицким) антисоветской белоэмигрантской террористической организации «Братство Русской Правды» (БРП), где занял положение «брата № 1», то есть, фактически, главы. Коммунистами БРП воспринималось не иначе как бандитское, белогвардейско-фашистское, черносотенное движение. Своей целью оно ставило насильственное свержение советского режима и восстановление абсолютной монархии, а впоследствии призывало русский народ следовать примеру Германии в деле строительства национального социализма. Для борьбы против большевизма члены БРП организовали подпольную сеть на территории советской России, нелегально переправляя своих соратников в СССР для проведения диверсионно-террористических актов. С. А. Соколов редактировал печатный периодический орган этого общества, также носивший название «Русская Правда (Голос вольной русской национальной мысли)», а также печатался в других эмигрантских периодических изданиях.
В связи с праворадикальными воззрениями «брата № 1» и его руководством БРП разворачивается второй уровень маргинализации С. А. Соколова. В советское время его предали забвению, и по сей день о нём вспоминают редко. На этом фоне «беспамятства» показательна статья О. Будницкого «Братство Русской Правды – последний литературный проект С. А. Соколова-Кречетова»[37]37
Новое литературное обозрение, 2003, № 64.
[Закрыть], пусть робкая и осторожная, но изобилующая интереснейшими фактами как о политической деятельности С. А. Соколова, так и о подрывной деятельности его наводившей тень на плетень организации. Однако приводимые факты интерпретируются автором статьи как почти полная фальсификация, как вымышленные едва ли не самим С. А. Соколовым, а потом публиковавшиеся в газетах сводки с мест диверсий «братчиков». В этом же очерке приводятся стихотворные и публицистические тексты С. А. Соколова, приветствующие приход к власти в Германии национал-социалистов[38]38
См. также публикацию подобных источников в ж. «Европеецъ», 2012, № 1 (с. 55–58).
[Закрыть] в начале 1930-х гг.
В конце жизни С. А. Соколов отошёл и от политической деятельности, посвятив себя изучению истории Византии. В 1934 г. он снова поселился в Париже, а 14 мая 1936 г. скончался в больнице от опухоли мозга и был похоронен на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа.
С 1902 г. вместе с С. А. Соколовым в кругах символистов начала появляться его молодая жена и помощница – «Грифиха», как её иногда называли, или же «русская Кармен» – Н. И. Петровская (1879 (по её собственной «версии», 1884) – 23 февраля 1928). Она была дочерью чиновника и окончила курсы стоматологов. «Я по профессии ещё зубной врач. Из ложного стыда потом это тщательно таила от всех… даже самой это хотелось забыть»[39]39
Письмо Ю. И. Айхенвальду от 29 июня 1927 г. // Минувшее. Вып. 8. М., 1992 (с. 133–134).
[Закрыть]. Стала известна как писательница, литературный критик, хозяйка литературного салона, очеркистка и переводчица. В дальнейшем печаталась в символистских изданиях «Весы», «Золотое руно», «Русская мысль», альманахе «Перевал», газетах «Утро России», «Голос Москвы», «Руль», «Новь» и др. Её перу принадлежат переводы романа французской поэтессы и писательницы-символистки Л. Деларю-Мардрюс «Исступлённая»[40]40
Москва, Кн-во «Польза» В. Антик и К°, 1911.
[Закрыть] и «Приключений Пиноккио» К. Коллоди[41]41
К. Коллоди. Приключения Пиноккио. Перевод с итальянского Н. Петровской. Переделал и обработал А. Н. Толстой. Изд. Акц. О-ва «Накануне». Берлин, 1924. Об этом подробнее см. ст.: Петровский М. С. Что отпирает золотой ключик? (Сказка в контексте литературных отношений) // Вопросы литературы, 1979, № 4.
[Закрыть]. Из разрозненных сведений можно предположить, что изредка она писала и стихи[42]42
«Красавицей Нина не была, стихи писала посредственные…» / Воронин А. Декадентская история // Газета «Маяк» Пушкинского муниципального района Московской области.
[Закрыть].
Вместе с мужем Н. И. Петровская была близка символистскому кружку «Аргонавты», считавшему своих участников «единственными московскими символистами среди декадентов». В отличие от многих современников, создававших для окружающих свой образ (наиболее ярко это, возможно, проявилось в фигуре В. Я. Брюсова), Н. И. Петровская отличалась врождённой экзальтированностью и с ранних лет чувствовала себя наделённой обострённым мистическим чутьём. Очевидно, более трезвым и практичным современникам она казалась несколько истеричной, а возможно и помешанной. Кроме того, пренебрежительное отношение знаменитых и состоявшихся авторов Серебряного века к своим маргинальным младшим современникам можно объяснить и тем, что если первые примерно исполняли принятую на себя роль, но, так сказать, не позволяли себе забываться, то для вторых эта роль оказывалась не ролью вовсе, а образом жизни и мысли, разыгрываемым не только на публике, а и в повседневности.
В частности, З. Н. Гиппиус (тогда ещё под псевдонимом А. Крайний), через несколько лет сама сотрудница декадентского журнала «Весы», выпускавшегося издательством круга В. Я. Брюсова «Скорпион», в статье 1903 г. «Два зверя»[43]43
Т. е. «Скорпион» и «Гриф».
[Закрыть] упрекает в банальности некую юную писательницу-декадентку из альманаха «Гриф», чьего имени он(а) не указывает, однако догадаться, о ком идёт речь, не представляет затруднений: «Вот рассказ „Осень“ – дамы-декадентки. Будь рассказ напечатан в „Ниве“, „Севере“ – никому бы и в голову не пришло, что тут „новая сила“ стремится к „неизведанному“. Вот послушайте: „Он – был молод, ещё верил в любовь“, „сладко благоухали липы“, „но скоро липы отцвели“, „настали серые дождливые дни“, „какая-то мучительная тоска прокралась ему в душу“, и когда она спрашивала: „ты любишь меня?“ – он уже „улыбался безжизненной улыбкой: твои поцелуи лгут“… „а ветер глухо хохотал над человеком, который поздней осенью тоскует о весенних цветах“. И кончено. Точка. Над этой осенью не захохочут даже присяжные рецензенты, считающие своим долгом над декадентами хохотать. Увы, печать проклятия, банальности лежит и на самых даровитых, „старых“ декадентских писателях»[44]44
Антон Крайний (З. Гиппиус). Литературный дневник. 1899–1907 гг. СПб., 1908 г.
[Закрыть]. Ещё в 1914 г. издательство «Гриф» готовило к выпуску вторую книгу рассказов Н. И. Петровской «Разбитое зеркало», однако ей так и не суждено было состояться, и думается, не только в связи с отъездом автора за границу и упразднением издательства перед войной, а и в связи с тем, что это попросту не представляло ни для кого интереса.
Сегодняшние мнения относительно одарённости рассматриваемой писательницы ничем не лучше: «Нина Петровская к моменту знакомства с Валерием Брюсовым была замужем за владельцем издательства „Гриф“ Сергеем Соколовым (Кречетовым), поэтому пробовала свои силы в литературе, но особых писательских талантов не проявила. Зато она прекрасно вписалась в богемный круг с его культами чёрной магии, спиритизма и эротики, бурлившей под соблазнительным и отчасти лицемерным покровом мистического служения Прекрасной Даме» (Е. Чиркова); «Практически полное отсутствие литературного дара не помешало ей написать и издать сборник рассказов…» (М. Куропаткина, «Тайны смертей русских поэтов»).
Написано о Н. И. Петровской достаточно много, прежде всего, в связи с её взаимоотношениями с А. Белым[45]45
В частности, см. о ней: Мочульский К. В. Андрей Белый. Париж, 1955; Дёмин В. Н. Андрей Белый. М., Молодая гвардия, 2007 (ЖЗЛ) (с. 72–77).
[Закрыть]и В. Я. Брюсовым[46]46
Из последнего – вплоть до отдельных фраз основанная на воспоминаниях Н. И. Петровской новелла «Бедная Нина или Куртизанка из любви к людям искусства (Нина Петровская)» из беллетристической книги Е. Арсеньевой «Русские куртизанки» (М., Эксмо, 2009). (Хотя мы бы поостереглись вешать на Н. И. Петровскую этикетку «куртизанки» – сост.).
[Закрыть], перемежавшимися кратковременными романами с К. Д. Бальмонтом, А. И. Тиняковым, С. А. Ауслендером… Её воспоминания, переписка, а также отрывочные и полные оценки и воспоминания о ней современников и исследовательские комментарии ко всем этим материалам сравнительно интенсивно публиковались. Однако её художественные произведения, прежде всего, вышедший в издательстве «Гриф» в 1908 г. единственный сборник рассказов «Sanctus Amor» («Святая любовь»), в течение столетия упорно обходились стороной[47]47
На тенденциозное игнорирование авторского голоса Н. И. Петровской и навязывание ей вместо него статуса «символа и жертвы эпохи» обращает внимание финская исследовательница К. Эконен в книге «Творец, женщина, субъект: Стратегии женского письма в русском символизме», М., Новое литературное обозрение, 2011. Пока настоящий сборник находился в процессе подготовки к печати, его выход опередила появившаяся в издательстве «Б.С.Г.-Пресс» книга Н. И. Петровской «Разбитое зеркало: Проза. Мемуары. Критика».
[Закрыть]. Отчего? Вероятно, оттого, что маргинальная уже при жизни фигура Н. И. Петровской после её смерти не представляла ни для кого особого интереса; важнее было дополнить оставленными ею свидетельствами сведения о знаменитых современниках. Единственное известное нам исключение составляют лишь три рассказа, в 1990 г. перепечатанные из второго выпуска альманаха «Гриф» в антологии прозы московских авторов рубежа XIX–XX столетий[48]48
Юлия, или встречи под Новодевичьим. Московская романтическая повесть конца XIX – начала XX века. М., Московский рабочий, 1990 (с. 213–225).
[Закрыть], а также рассказ «Бродяга» из сборника «Sanctus Amor», напечатанный в том же году в ещё одном подобном сборнике[49]49
Русская новелла начала XX века. М., Советская Россия, 1990 (с. 174–179).
[Закрыть]. Они также приводятся в настоящем издании ради полноты картины.
Маргинализации фигуры Н. И. Петровской поспособствовали, в первую очередь, два явления: её собственный образ жизни, в котором события, а затем и констатация их в воспоминаниях и письмах неотделимы от её литературного стиля, а также, несомненно, образ ведьмы Ренаты, чьим прототипом в знаменитом романе В. Я. Брюсова «Огненный ангел» она послужила. Надо сказать, что и впоследствии Н. И. Петровская сама приложила все усилия для того, чтобы поддержать этот образ: так, в итальянской эмиграции она перешла в католичество под именем Ренаты – поступок, казалось бы, двойственный: крещение, но крещение под именем ведьмы, пусть даже и вымышленной. Между тем, с маргинальной точки зрения, можно рассудить, что Рената являлась ведьмой только внешне, тогда как по символистским, декадентским, богоискательским и мистическим меркам такая ведьма – суть праведница.
Её жизнь была неотличима от её творчества: художественного, мемуарного – какого угодно. И художественные произведения, и журнальные рецензии, и письма, и воспоминания, и, наконец, сама жизнь Н. И. Петровской написаны единым почерком. А через строки лейтмотивом проходит страшная догадка: взаимопонимание двух любящих ныне больше не возможно. Дело в том, что к нашему времени сильнейшим образом девальвировались значения слов в языке. Они необычайно растянулись и, вместе с тем, соответственно, истончились. Сегодняшний любящий, равно как и сегодняшний автор, хоть однажды в жизни заметит, как ловит себя на том наблюдении, что он не в силах ничего выразить вследствие, нет, не отсутствия глубоких чувств, а… элементарной нехватки адекватных оным языковых средств. Исходя из этого, ему приходится прибегать к разного рода «плетениям словес», будь то бесконечные распространения, разъяснения, многочисленные средства для создания и передачи оттенков и впечатлений, и вот, как результат, – «толстовские предложения». Но тем ценнее и оказывается проза Н. И. Петровской – предельно лаконичная, нарочито сдержанная в речевом отношении и лишённая какой бы то ни было «плетистости» и витиеватости. Точно бы серая и неприметная – она этой своей неприметностью, этой своей незагромождённостью и непосредственно детской способностью к наблюдению над деталью наносит наиболее прицельный и выверенный удар. Её предельная экзальтация именно в этой неприметности. Блуждающими под слоем серо-снежного пепла беспробудного отчаяния угадываются бьющиеся взаперти воспалённые языки стеснённого пламени, живущего действием чар жрицы Огненного Ангела.
Автор статьи «Итальянские очерки Нины Петровской» Н. Р. Аляркинская указывает: «Герои Петровской <…> всегда находятся в кризисе, у края жизни. По этому краю постоянно ходила и сама Петровская. Через героев – своих двойников – она отражает собственное трагическое и безысходное мироощущение»[50]50
Италия Нины Петровской // Россия и Италия. Русская эмиграция в Италии в XX веке. М., Наука, 2003. Вып. 5. С. 133–149. См. здесь же о Н. Петровской: Бьянка Сульпассо (Bianca Sulpasso, Италия). Италия в жизни и творчестве Нины Петровской. Этого же автора см. кн.: «Разбитое зеркало. Литературный путь Нины Петровской» («Lo specchio infranto: II percorso letterario di Nina Petrovskaja». Roma, Aracne editrice, 2008).
[Закрыть].
На наш взгляд, наилучшим и подробнейшим образом проза Н. И. Петровской охарактеризована в ряде статей М. В. Михайловой, посвящённых русской женской прозе Серебряного века[51]51
Swiat wewnetrzny kobiety w utworach rosyiskich pisarek «srebmego wieku» (Внутренний мир женщины в творчестве писательниц Серебряного века) // Preeglad Humanistychny. Варшава, 1996, № 5. С. 75–85. Также см. её ст. «Лица и маски русской женской культуры „серебряного века“».
[Закрыть]. В них даётся исчерпывающая и «реабилитирующая» характеристика писательского метода Н. И. Петровской. Между тем, ещё одна исследовательница[52]52
Эконен К. Нина Петровская – декадент? / Часть третья // Творец, женщина, субъект: Стратегии женского письма в русском символизме М., Новое литературное обозрение, 2011 (с. 262–296).
[Закрыть] придерживается несколько иной точки зрения. Можно понять и её попытку «реабилитировать» Н. И. Петровскую, «вычеркнув» её из стана декадентов, однако с мнением о том, что Н. И. Петровская «клин клином вышибает», критикуя декаданс его же методом, согласиться сложно, поскольку нигде нет подтверждения того, что она ставит перед собой такую цель. Напротив, сама её жизнеформа скорее способна подтвердить обратное. Её творческий вектор – это не критика декаданса, а утверждение сверхлюбви, любви, в земном измерении заведомо невозможной или же практически не реализуемой. А любые утопические попытки её реализации, обречённые на кратковременность и болезненный распад, и будут являться декадансом. В этом смысле земное поражение Христа, крестная смерть – тоже проявление декаданса. И сетовать о тщете этого Акта возможно только, не принимая во внимание сверхзначения Его поражения, которое в метафизическом плане является несомненным триумфом. Не случайно А. Белый называл Н. И. Петровскую Настасьей Филипповной, интуитивно почти полностью приблизившись к сопоставлению её творческой идеи с образом князя Мышкина (не отсюда ли тенденция Н. И. Петровской к повествованию от мужского лица?). Если же кто и боролся с декадансом из-под личины декаданса, – так это, следует думать, были авторы вроде В. Я. Брюсова или З. Н. Гиппиус, сами любившие побыть «декадентскими Мадоннами», «сатанессами», «конями бледными» и «юношами бледными со взором горящим», но при этом с достаточной резкостью критиковавшие ту же Н. И. Петровскую – опять-таки за «декаданс». Сказать вслед за рассматриваемой исследовательницей, будто бы Н. Петровская в своём творчестве провозглашает новый тип женщины, также означает не сказать ничего. Даже если бы это была «русская Манон Леско», то «Манон Леско» далеко не нова сама по себе. Н. И. Петровскую пытались изображать как Манон Леско некоторые критики – и в своём внимании к этому факту К. Эконен, бесспорно, права. Однако из этого не следует, что, опровергая их пристрастное мнение, нужно в то же время идти у него на поводу. Настоящая Н. И. Петровская вполне способна подходить под архетип ведьмы Ренаты, сконструированный для неё В. Я. Брюсовым. Только там, где в магии рядовой ведьмы наличествует такая потенция, как воля, в магии Ренаты Петровской это место занимает любовь-как-воля, любовь, способная воскрешать или уничтожать объект своего направления – в зависимости от волеизъявления. Там, где для достижения цели будет необходима жертва, найдётся и жертва, равно как и в прикладном ведовстве, но также ещё и жертвенность, и жертвенность эта будет исключительно внутренняя и полная. Нередко такой жертвой становится гибель отношений, и она оправдана, так как только при условии их гибели способна сохраниться вся их магия, то есть их идеалистическая проекция, ради которой не жаль поступиться земной. И поскольку этот идеалистический план для Н. И. Петровской без всяких раздумий выше земной проекции, это является именно тем, что никогда не сделает её в чём-либо подобной «новой женщине émancipée» с её бытовыми или политическими требованиями некоего эфемерного равноправия, на что в произведениях Н. И. Петровской нет и малейшего намёка. Если применительно к её творчеству и можно заявлять о провозглашении «новой женщины», то таковой здесь будет являться не женщина, обременённая семьёй и бытом (это, если зреть в корень, тоже не ново), а своеобразная Медея или судьбоносная Вёльва с князем Мышкиным (через Настасью Филипповну и принятие мужского лица от имени повествователя) в едином лике – Рената, чьё имя, кстати говоря, и переводится как «возрождённая», потому как это не буквально новый тип вообще, а тип, новый для своей эпохи, в которую господство позитивистских взглядов оттеснило на периферию и мистику, и религию, и возможность нерегламентированного исповедания чувства. Любые же попытки исключить Н. И. Петровскую из декаданса ведут не к демаргинализации её, а к ещё большей маргинализации, не оставляя ни за ней, ни за её творчеством ничего самобытного, оставляя её вторичной рядовой писательницей, тогда как именно неноминальная принадлежность к декадансу и придаёт уникальность фигуре Н. И. Петровской и её творчеству. Поэтому можно без опаски заключить, что Н. И. Петровская, представляя собой некое атавистическое явление, на самом деле, была подобна практикующей ведьме, только волевой потенцией её магической практики выступала любовь, а планом выражения являлась не экстатическая пляска, не инвокация, не заклинание, а литературная форма, ритмически, впрочем, соответствующая и неистовой экспрессии ритуала, и вербальному его сопровождению, где, равно как и в рассказах писательницы, экзальтация сменяется меланхолией, меланхолия – депрессией, депрессия – апатией, а апатия – снова экзальтацией. Как бы мы ни упрекали В. Я. Брюсова за его отношение к Н. И. Петровской, – её суть безошибочно разгадать удалось единственно ему. Возможно, подтверждением признания этого является навсегда оставшееся особым отношение к нему Н. И. Петровской в течение всей её последующей жизни. Только в свете этих рассуждений нам открывается неслучайность общего названия сборника её рассказов «Sanctus amor», которое в любом другом случае лишь поверхностно указывало бы на общую тематику произведений.
В настоящем сборнике мы ограничиваемся лишь художественной прозой Н. И. Петровской, хотя безусловный (в том числе, и чисто художественный) интерес представляет книга её воспоминаний [53]53
Жизнь и смерть Нины Петровской. Публикация Э. Гаррэто // Минувшее. Исторический альманах М., ОО Феникс, 1992, № 8.
[Закрыть], а также обширная переписка с В. Я. Брюсовым[54]54
Брюсов В., Петровская Н. Переписка 1904–1913. М., Новое литературное обозрение, 2004.
[Закрыть]. Однако всё это, в отличие от большей части художественной прозы, ближе к нашему времени обрело своих публикаторов – ищущий да обрящет.
Картину гибели Н. И. Петровской не передать скупыми публицистическими фразами. Её современниками рассказано об этой трагической гибели достаточно. Остаётся добавить, что здесь писательница будто бы впервые изменила своей манере: взвешенное и выверенное, это самоубийство должно было быть свободно от обыкновенно присущей Н. И. Петровской экзальтации. Исчезая от нас на долгие десятилетия, она словно бы слилась с невидимым газом из открытой ею кухонной конфорки в комнате парижского общежития Армии Спасения.
Эпитафией жизнеощущению Н. И. Петровской (да и декаданса в целом), как думается, наилучшим образом могли бы послужить её собственные строки, взятые из рецензии на книгу Р. Соловьёва «Философия смерти»: «Есть вечно тревожные, горящие души; как жители неизвестной планеты, как чужестранцы, тоскуя, мечутся они на земле; словно остатки какого-то неведомого племени, над которым тяготеет проклятье вечного разъединения, живут они среди чужих, одинокие, печальные, непонятые. Кто отгадает, принадлежат ли они навсегда умершему, в веках позабытому прошлому, или беспокойным намёком на будущее проходят они среди людей, но источники их жизни, счастья и восторга в иных недоступных пределах, а здесь удел их – страданье, которое умеют любить они, как высший знак единения с небом. Навсегда отъятые от жизни, лицом к лицу стоят они перед вечной тайной бытия, и смерть, пугающий образ всего живого, близка им, как последнее желанное осуществление единственной надежды»[55]55
Золотое руно, 1906 г., № 4 (с. 108).
[Закрыть].
Если предыдущие герои нашего очерка мало-мальски удостоились внимания исследователей, то А. А. Ланга (поэтические псевдонимы А. Березин / А. Л. Миропольский) взгляд литературоведов почти полностью обошёл стороной. Дневники В. Я. Брюсова 1891–1910 гг., а также (как правило, сниженные и насмешливые – таков первый уровень маргинализации этого поэта) упоминания некоторыми современниками (в частности, Н. И Петровской, в которую он, по слухам, успел влюбиться) в лучшем случае дают лишь отрывочные сведения. Попытаемся суммировать то, что нам о нём известно[56]56
За подробностями отсылаем к замечательной статье (отсюда же позаимствована часть фотоматериалов для раздела по А. А. Лангу настоящего сборника): http://lucas-v-leyden.livejoumal.com/51591.html
[Закрыть].
А. А. Ланг происходил из старинного рода шотландцев, обосновавшихся в России при Петре I, и был сыном московского книготорговца А. И. Ланга. Его сестрой была художница и график Е. А. Ланг (23 мая 1890 г. – 1973 г.).
А. А. Ланг родился в начале 1870-х гг. (кое-где указывается 1872 г.). Был гимназическим товарищем В. Я. Брюсова, посвятившего ему свой стихотворный цикл «Chefs dʼoeuvre» (1894–1895 гг.), и стоял с ним у истоков серии самых первых в России символистских сборников «Русские символисты», а также являлся свидетелем основания и соучредителем издательства «Скорпион» (идейно, как мы помним, конкурировавшего с «Грифом»). Между тем, его первая книга стихов «Одинокий труд» под псевдонимом А. Березин вышла ещё в 1899 г. в «Русской» типо-литографии А. Спиридонова. В предисловии автор разразился гневной статьёй о плачевности ситуации с изданиями русской классической и новой поэзии.
Сведения об А. А. Ланге не слишком многочисленны. Его сближение с В. Я. Брюсовым «произошло на почве общего увлечения поэзией и спиритизмом, оба они посещали спиритические сеансы, в том числе и те, которые устраивались в доме Ширяевых, находившемся в переулке около Сретенки. Этот дом окрестные жители называли „дом пяти красавиц“, подразумевая хозяйку дома и её четырёх дочерей. Ланг был влюблён в Авдотью Павловну Ширяеву, которая потом стала его женой, а Брюсов увлекался Марией Павловной. <…> в первом выпуске „Русских символистов“ Ланг-Миропольский посвятил этюд „Лучи“ „Дуне Ш.“ <…>.
<…> Ланг на страницах „Русских символистов“ выступил не под своей настоящей фамилией, а под псевдонимом. Почему? Наверное, потому, что родители начинающих поэтов по-разному относились к их творчеству. <…> В семье А. А. Ланга, отец которого был известным владельцем книжного магазина на Кузнецком мосту, продававшим научную и художественную литературу, „символическая блажь“ встретила совсем иной приём. Е. А. Ланг, младшая сестра Александра Александровича, в мемуарах „Из воспоминаний детства“ писала: „Относительно Сашиных литературных произведений я помню разговор такой: Папа сказал, что пока твои стихи посредственные, возможно, ты со временем сделаешь успехи, но пока я не хочу, чтобы под ними фигурировала наша фамилия. <…> И Саша взял себе два псевдонима – А. Л. Миропольский и Александр Березин“.
Итак, выступить в печати под собственной фамилией Лангу помешал семейный запрет, но зато он мог в своём магазине предлагать покупателям выпуски „Русских символистов“. Псевдоним помог Лангу остаться в тени тогда, когда вокруг этих выпусков разразился самый настоящий скандал, всю тяжесть которого вынес на своих плечах один Брюсов» [57]57
Иванова Е., Щербаков Р. Альманах В. Брюсова «Русские символисты»: судьбы участников // Блоковский сборник XV. Тарту, 2000 (с. 33–76).
[Закрыть].
Серия сборников «Русские символисты» просуществовала с 1894 по 1895 г. Его преемником стал альманах «Северные цветы», выходивший в «Скорпионе» с 1901 по 1903 гг. В первых двух его выпусках под псевдонимом «А. Л. Миропольский» А. А. Ланг опубликовал стихи, а в третьем выпуске – рассказ «Митя, Божий человек».
Среди современников за А. А. Лангом закрепилась устойчивая репутация декадента, помешанного на спиритизме, не знающего иных, кроме спиритизма, тем и вдохновляющегося оным на собственное литературное творчество: «знаменитый спирит, чёрный маг, телепат, поэт-ультрадекадент…»[58]58
http://lucas-v-leyden.livejoumal.com/51591.html
[Закрыть]. А. Белый в своих воспоминаниях отмечал: «Был чернобородый Александр Александрович Ланг, сын книготорговца, один из могикан от „декадентства“ (псевдоним „Миропольский“), спирит с шевелюрой: длинный и бледный, как глист, со впалой грудью, узкими плечами и лукаво-невинными голубыми глазами, он производил впечатление добряка, словам которого нельзя верить: невинно солжёт и даже не заметит. Он сиял благоволением от… спиритизма, который, кажется, и пришёл проповедовать…»[59]59
Белый А. Гончарова и Батюшков / Глава первая. Аргонавты // Начало века.
[Закрыть]. Помимо этого, он пользовался славой «сильного медиума, рано познавшего состояние транса»[60]60
Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. Исследования и материалы. М., Новое литературное обозрение, 1999.
[Закрыть]. Его близость к В. Я. Брюсову, которого признавали едва ли не практикующим чёрным магом, отбрасывала тень и на него самого – его начинали обвинять в тех же самых пороках, а иногда даже с удвоенной силой, приписывая всё влияние на В. Я. Брюсова ему. Существовало даже мнение, будто бы его драма-поэма «Ведьма» впоследствии вдохновила В. Я. Брюсова на создание «Огненного ангела». «Ведьма» была издана в 1905 г., хотя написана раньше: если хронологически она отделена от «Огненного ангела» всего полутора годами, то литературно их разделяет целый период, за который русское «новое искусство» успело существенно преобразиться.
В 1903 г. в издательстве «Скорпион» под псевдонимом А. Л. Миропольский, который с тех пор уже не менялся, была издана поэма А. А. Ланга в семи главах под названием «Лествица», написанная в удивительной для того времени форме (пожалуй, нечто подобное могло в ту пору встречаться разве что у бельгийского кумира тогдашних русских декадентов Э. Верхарна): смешанным метром, хореем, ямбом, хореем, амфибрахием и опять смешанным метром – только в произвольной последовательности! Издание было снабжено обширным предисловием В. Я. Брюсова «Ко всем, кто ищет», где он с присущей ему позитивистко-мистической тональностью рассуждал о спиритизме как о науке будущего. Немногочисленные образцы поэзии и драматургии А. А. Ланга в действительности были всецело проникнуты оккультной и спиритуальной тематикой, замешанной на декадентских минорных нотах.