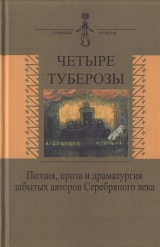
Текст книги "Четыре туберозы"
Автор книги: Нина Петровская
Соавторы: Иоганнес фон Гюнтер,Сергей Соколов,Александр Ланг
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
I
Тоска по той, что ушла из моей жизни навсегда, каждый год возвращается вместе с весной.
Весна всегда приходит в январе. Говорят, что она начинается в марте, но это неправда. Уже после нового года в слишком алых закатах проступает её воскресающий лик. В прозрачных сумерках длинного, тонко звенящего январского дня я чую её нежную поступь и говорю: слышите – весна!
Не верят, смеются как над безумным. Улицы в снегу и холодно – какая весна!
Пусть! Я дышу ею с января, они позже – не всё ли равно.
Эта весна третья без неё, а душа всё печальна и верна. По-прежнему висит её портрет, только я плотно закрыл его белой кисеёй.
Точно из гроба, смутно выступает высокий лоб, потемнели и впали глаза. Плечи, платье, нежная шея слились, их не различает взгляд.
Не нужно смотреть, довольно вспоминать. Моё горе смирилось и стихло за годы.
Но весной какой-то странный обман овладевает душой. Знаю, что не увижу, но жду. Приношу цветы – тоненькие, мучительно пахнущие нарциссы, спускаю зелёные шторы, по утрам не выхожу из дома – жду. К вечеру розовые отблески прощального солнца тихо догорают в небе. Над головой оно высокое, бледно-зелёное, как хрусталь, а горизонт в крови. Улицы такие широкие, словно раздвинулись, чтобы дать дорогу весне. На снегу воздушно-синие тени близкого вечера.
В этот час колокола поют нежными серебряными голосами, в этот час под тёмными сводами церквей зажигают высокие жёлтые свечи, а в голубеющие четырёхугольники высоких окон вдумчиво и грустно смотрит весна.
Хожу и жду её. Разве невозможна встреча? Вот в толпе мелькает её тонкая неловкая фигурка. Чёрная шапочка слегка сдвинута на затылок, нежный очерк бледного лица. В синих глазах весенняя ясная даль.
И кажется, что плывёт она выше земли, такая далёкая грубой улице, где звенят конки, кричат извозчики и из хлопающих дверей булочных пахнет свежим хлебом.
Я забылся, я странно вышел из круга точных впечатлений. Она впереди идёт навстречу.
Чёрная шапочка, тонкая фигурка. Ты! – вдруг безумно дрогнет сердце.
Проходит близко. У этой розовые щёки, чёрные глаза и рядом ребёнок. В толпе я не заметил ребёнка.
Встречаемся. Проходит молча, чужая. Не знает, что один миг была чьей-то прекрасной мечтой.
Ещё одна. Опять острый толчок в груди и грустный смех на губах.
Иду. В холодном мраке издрогло сердце. Улицы вновь тесны. Кое-где блеснули фонари, снег морозно горит.
Кто сказал, что весна? Просто зимний вечер и час обеда. Вхожу в ресторан. Режущий свет электрических ламп больно ударяет в глаза. Стонет румынский оркестр. Эстраду украсили камелиями, а их не бывает весной.
В руках длинный листочек – меню. Всё так просто.
Но ведь третья весна без неё. Сегодня вспомнил, что за три года не целовал ни одной женщины, и рассмеялся.
Опять были сумерки. Колокола звонили, небо гасло, тени близкой ночи ложились на снегу. Вспомнил её глаза, губы – детские розовые губы с приподнятыми уголками вспомнились так ясно.
Вышел на улицу. Опять верил. Хотелось идти с закрытыми глазами, чтобы где-то на повороте неизвестного переулка, около незнакомого дома, открыть их и сказать: ты!
II
– Не узнаёте меня? Мы встречаемся целую неделю каждый вечер, и вы ни разу не поклонились мне.
Вежливо извиняюсь, жму маленькую руку в белой перчатке. Остановились под фонарём. Тень падает ей на глаза. Какие они? Чёрные, синие, серые – не знаю.
Вообще я ничего не знаю о ней. Кажется, её зовут Ольгой. Где-то встречались, и я никогда не сказал с ней ни слова. Тень закрывает её глаза, освещены только губы и подбородок.
Грустно изогнутые розовые губы с тонкими уголками – я никогда не замечал их.
Смотрю на них, улыбаясь, и говорю:
– Вы знаете, я три года не целовал ни одной женщины.
– Правда? – спрашивает она серьёзно.
– Правда, – отвечаю я грустно.
Идём рядом.
– Весной хочется умереть, – говорит она. – Самое жестокое и горькое вспоминается весной – вы замечали?
Молчу.
– Какая тоска! – говорит она, стискивая зубы. – Нужно жить, чтобы от каждого мига где-то расцветали цветы. А вот мы с вами каждый вечер выходим на улицу и ждём чего-то. Может быть, нас много, но мы редко узнаём друг друга. Ходим и ждём. Чего ждём?
Останавливаемся у какого-то подъезда.
– Зайдите, – говорит она, отворяя дверь.
Поднимаемся по лестнице. Электричество ярко – не смотрю ей в лицо.
В незнакомой комнате темно, только из окон печальный пепельный свет. Садимся рядом, близко. Беру её руки. Они нисколько не напоминают те, о которых я тоскую три года, но от тёплых пальцев струится такая нежность, такая нежность…
– Нужна ласка, ласка, – говорит она, прижимаясь к моему лицу.
– Не твоя ко мне, не моя к тебе. Не знаю, чья – всё равно. Ласка и нежность, как дар нашей неведомой судьбы.
Если она не будет приходить, нас злобно стиснут стены, задушат улицы, нас убьёт одиночество, и нашего крика не услышит никто…
Говорит, а тонкие волосы, лаская мой лоб, договаривают что-то печальное и важное, чего не смеют сказать слова.
Пепельный свет тонким дымом окутал близко склонённое лицо. Что-то пронзительно-грустное, как надорванная струна, звенит в незнакомой комнате.
Немо, беззвучно, томительно длинными поцелуями мы рассказываем друг другу трагедии наших одиноких дней.
Мягкие волосы незнакомой женщины, прикасаясь к лицу, поют печальные мелодии.
– Должно быть, поздно.
– Я понял. Благодарю, – говорю я, прощаясь. От её пальцев струится такая нежность.
Электрическая лампочка на лестнице вспыхивает в последний раз. Улицы тихи и белы. Зимняя северная ночь сурово смотрит в глаза.
Я И СОБАКАЖдём её – я и собака.
Дрогнем в ноябрьском тумане – две жалкие чёрные тени. Я на скамейке, Локи у ног. Моё пальто отсырело и тяжело давит плечи. Локи грязен, как бесприютный уличный пёс.
Ждем её четвёртый вечер, четвёртую ночь.
В поздний час в конце бульвара меркнет жёлтый четырёхугольник кафе. Кто-то маленький и юркий быстро гасит длинную цепь фонарей, и над нами опускается серый безрадостный мрак.
Тогда мы уходим до завтра. По тротуару тянутся две медленные тени – моя и собачья, со смешными вытянутыми лапами, с уродливо-мохнатой головой.
Дома нас не ожидает никто. На столе четвёртую ночь стоят нетронутые приборы и полная бутылка вина. А на постели мёртвыми углами белеют несмятые подушки.
Дни исчезают. Я не знаю, куда деваются дни. Может быть, сплю я днями, и мне видятся странно-блаженные сны. А как стемнеет, мы опять на бульваре.
Я жду, потому что она сказала: «Приду».
Если бы Локи умел говорить, в эти смертельно-холодные безжалостные ночи мы вели бы длинные, печальные беседы. Одно и то же каждый раз.
Мы говорили бы о страданье, о тёмном терпеливом человеческом горе, вспоминали бы прошлую радость – её синие глаза, её руки… Жестокие нежные руки в колючих сверкающих кольцах, которые ласкали мои волосы и его мягкие кудрявые уши.
Быть может, мы плакали бы вместе горестно, тихо и сладко. Но Локи молчит, и в тоскливо-красивых собачьих глазах лишь мёртво дробятся жёлтые весёлые огни.
…Она пришла, когда я перестал уже ждать.
Так же ярок был четырёхугольник кафе, так же бледен и холоден туман.
Локи бросился к её ногам. Я взял руку и укололся о кольца.
Стоим под фонарём. Вижу лицо её. Страшное лицо женщины, которая перестала любить.
– Я еду на один вечер, – говорит она небрежно и смотрит дерзко, прищурив глаза.
– Отчего ты молчишь, точно не радуешься нашей встрече? Убери собаку, – просит она, с отвращением подбирая шелестящие юбки. – Не понимаю, зачем ты всюду таскаешь его за собой!
Мне хочется схватить и сломать её руки. Вот так – сжать выше локтя и услышать хруст костей. Хочется дико закричать, сцепиться в один безобразный клубок и валяться по грязи вместе с ней, красивой, нарядной, в шумящих шёлковых юбках.
Хочу боли, ужаса и уродства, но складываю губы в спокойную, приветливую улыбку. Закуриваю папиросу и отвечаю:
– Правда, Локи мне самому надоел. Я подарил его одному приятелю, и он возьмёт его на днях.
Но она уже забыла о собаке и смотрит в лицо мне острым подозрительным взглядом, как пойманный хищный зверок. Может быть, она думает, что я хочу её убить. Но вид у меня безопасный. Я не прячу рук и вообще не похож на убийцу.
Всё обошлось так просто. Она успокаивается и небрежно бросает:
– Ну, прощай! Как-нибудь зайду к тебе. Ты бываешь дома по вечерам?
Я наклоняю голову церемонным поклоном:
– Конечно, и очень часто. Я начал одну большую работу и к тому же, кажется, немного простудился. Ты застанешь меня в любой час.
Чуть касаюсь губами руки. Веду до экипажа. Заботливо укрываю пледом платье, снимаю шляпу и смотрю, как, быстро вращаясь, исчезают в тумане жёлтые спицы колёс.
Мы стоим долго. Может быть, слишком долго для прощального приветствия на улице.
Волосы у меня совсем мокрые. Я забыл надеть шляпу и никак не могу понять, зачем она в руках, почему так странно смяты сырые поля.
Домой мы не идём, а едем. У меня явилась упорная мысль – в эту ночь хочу быть там, где она.
Одеваюсь долго и тщательно. Чёрный сюртук сидит на мне, как хорошо прилаженный футляр.
Чёрные сюртуки так сидят на покойниках, – думаю я, оглядывая себя в зеркало. – А надевают мёртвым белые галстуки? Совсем не знаю, принято ли надевать им белые галстуки?..
– Прощай, Локи, – говорю я и беру его тонкую, мокрую лапку. У него влажные печальные глаза.
Я приехал поздно. Уже кончался их весёлый праздник. По белой лестнице спускались нарядные женщины, но из зала ещё неслась музыка.
Прислонился к высокой колонне. В зеркале напротив моя прямая траурная тень.
Глаза со странной верностью отыскали её.
Кто-то высокий и стройный уверенным движением обнимал её талию, и всякий раз, как на повороте совсем у моих ног лёгким облаком взлетало её платье, сердце делало острый безумный толчок, и, чтобы не упасть, я плотней прислонялся к колонне.
Последние медленные звуки нежно вздохнули на эстраде.
Она совсем рядом. Вижу лицо её – бледное, со слишком алыми жадными губами, со знакомым выражением в опьянённых счастьем глазах.
Она увидела меня.
– Ты здесь? – говорит она, пытаясь улыбнуться. Зрачки её сузились, губы побледнели. – Но ведь у тебя большая работа и ты болен?..
– Всё это правда, – отвечаю я просто, – но мне вдруг захотелось увидеть тебя ещё!..
В её глазах вспыхивает что-то низкое, трусливое.
Наверно, она думает, что я хочу её убить. Может быть, ей хочется позвать на помощь того, нового. Мои руки в карманах. Что я там прячу?
Я медлю, улыбаюсь, мне нравится эта игра.
Наконец, вынимаю руки и поправляю волосы. Ничего нет. Её губы складываются в презрительную усмешку.
– Уже поздно, – говорит она и ищет кого-то глазами в редеющей толпе.
Тот высокий и красивый, что будет ласкать её до утра, накидывает ей на плечи пушистый мех.
– Уже поздно, – повторяю я за ней и в последний раз укалываюсь о кольца.
По лестнице за ними я иду медленно и важно.
Но почему я один в опустелой прихожей? Кто-то с длинными торчащими усами держит моё пальто. Долго не могу попасть в рукава. С трудом застёгиваю пуговицы и выхожу.
Туман совсем закутал улицы и дома. От тусклых отсветов фонарей он кажется жёлтым и густым, точно липнет к телу и лицу.
– В такую погоду ужасно легко простудиться, – говорит кто-то около меня.
– В такую погоду ужасно легко простудиться, – повторяю я и смеюсь. У меня совсем мокрая голова. Я опять забыл надеть шляпу.
Я иду. Мне кажется, что тянется всё одна улица. Всё будет длиться ночь, никогда не увижу ни солнца, ни неба. Мне холодно. Мне так холодно, что пальцы мои перестали двигаться и стали как деревянные. Я так одинок, что если я умру сейчас, то завтра никто не вспомнит моего имени.
Вспоминаю о Локи и ускоряю шаги.
Вот мы опять вдвоём. Он тихо и радостно визжит. Белый фонарик ярко вспыхивает над столом, где всё так же чинно стоят нетронутые тарелки. В углу холодная несмятая постель.
– Локи, – говорю я серьёзно, – мы будем ждать её и сегодня, и завтра, и всегда. В светлое безумье ожиданья превращу я всю мою жизнь. Может быть, она вернётся, может быть, туда, где дико ликует пьяная страсть, холодным, нежным облаком приникнет к изголовью моя покорная любовь, и она вспомнит меня и тебя, и эту комнату, и розовые блески камина на белой постели… Может быть, Локи?
Собачьи глаза в тёмном раздумье смотрят на огонь.
БРОДЯГАМоё счастье было кратко. Я принял его как чудесный неожиданный дар, и оно покинуло меня, ещё юное, живое, навсегда озарив мои дни.
С этой женщиной, о которой я говорю, мы встречались в продолжение двух лет.
Иногда я видел её мужа – всегда мрачного молчаливого человека. Иногда слышал какие-то странные рассказы об их жизни, но, встречаясь, не замечал её глаз, быстро забывал лицо и никогда не предчувствовал нашей любви.
Началось это на каком-то ужине в ресторане, куда мы оба попали случайно.
За столом оказались рядом. Почему? Я никого не просил об этом.
Долго не замечали друг друга.
Потом говорили о чём-то пустом, обоим ненужном, и она скучала.
Вокруг было шумно, но не весело. Пели цыгане. Ночь проходила незначительно, плоско, подобная многим, о которых так легко забываешь наутро.
Но я замечал: особая грусть в какой-то час всегда опускается над рестораном.
Может быть, это только утомление, ядовитый звон отравленной крови, которая хочет под утро покоя, а может быть, что-то иное, всегда сторожащее за сознаньем, говорит людям: вы хотели забыть… но я здесь. Я всегда с вами, я всё вижу!.. Не знаю, что это, – но этот час отмечаю всегда.
Тогда усталая певица со слишком подведёнными глазами непременно поёт какой-нибудь надрывающий избитый романс.
Тогда женщины со странной дрожью в пальцах отвечают на ваше пожатье, и в глазах их вспыхивает печально-нежный растроганный блеск.
Они шепчут вам ночные лживые слова, над которыми вы безжалостно смеетесь наутро.
Но здесь, под безвкусно яркой люстрой, на мягких захватанных диванах готовы дать самое безумное обещание.
У той, что сидела рядом, было неподвижно-спокойное лицо. В первый раз я заметил её глаза. Так смотрят маньяки – упорно, долго, в одну точку.
– О чем вы думаете? – спросил я с любопытством. Она взглянула и улыбнулась – грустно, красиво.
– Я думаю о любви, – ответила она просто. – Всегда о любви. Смотрю в глаза, угадываю тёмные тайны душ, слушаю мелодии голосов и всё спрашиваю – не здесь ли?
– Кто? – спросил я, не понимая.
– Любовь.
Тогда я засмеялся и сказал:
– Посмотрите так и на меня. Может быть, здесь?
Она посмотрела. Внимательно, вдумчиво, строго, точно не слыша шутки, и ответила:
– Может быть. Трудно угадать, кого уже отметила любовь.
Из-за стола вставали. Электричество погасло. Принесли свечи. Красные стены кабинета потускнели. На столе апельсинные корки и недопитые стаканы. У женщин смятые причёски, под глазами синие тени.
Поздно. Но отчего мне так не хочется прощаться?
– Мы вместе? – спросил я несмело.
– Да.
И вот на рассвете по синим оснеженным аллеям мы ехали вместе. Она мне казалась прекрасной. Я держал её руки и восторженно смотрел в лицо.
– Может быть, здесь?.. – спрашивал, сжимая её пальцы.
– Может быть, – отвечала она просто. И лицо у неё было чуть-чуть грустное, чистое и покорное, как у монахини.
Я проводил её до подъезда. Звонили к заутрене. Улицы были пусты и белы. Холодная утренняя грусть сжимала сердце.
– Придёте? – спросил я робко.
И голосом ясным, торжественно простым, от которого рассеялось последнее впечатление случайности этой ночи, она сказала:
– Приду.
Так это началось.
Она пришла вечером, на другой день. Всё было так просто. Светила луна. Перекладины рам чёрными крестами лежали на полу. Всё та же моя комната, каждый уголок которой я знаю наизусть. Но в неё уже вошло что-то новое, тревожное. Тайна чужой неизвестной души.
– Кто вы? Откуда вы? Почему я не знаю о вас ничего?
И она ответила:
– Не нужно спрашивать. Всё внешнее обычно до тоски, и оно, как всегда, ложь. А правду я уже сказала. Я бродяга, скитаюсь по душам и всё жду встречи с той любовью, что вижу только во сне.
– Какая же она, эта любовь? – спросил я, и у меня дрожали губы. Она наклонилась. Близко. Я видел странные, сосредоточенно блестящие глаза. Такого выражения я не видал уже после ни у кого, никогда, всю жизнь.
– Моя любовь то, что называют «безумием». Это бездонная радость и вечное страдание. Когда она придёт, как огненный вихрь, она сметёт всё то, что называется «жизнью». В ней утонет всё маленькое, расчётливое, трусливое, чем губим мы дни. Тогда самый ничтожный станет богом и поймёт навсегда великое незнакомое слово «беспредельность».
Я встал перед ней на колени и ответил:
– Та любовь, о которой ты говоришь, – чудо, и я чувствую – оно уже коснулось моей души. Вот я перед тобой. Возьми меня, веди, учи.
Её глаза широко раскрылись и загорелись, как огромные, чёрные камни. Губы изогнулись в истомлённо-жадной улыбке, точно хотела она выпить, как острое душистое вино, всю мою душу, весь трепет первой мучительной страсти.
Такая была наша первая ночь.
Я не знал её жизни.
На рассвете провожал до подъезда. Грубо хлопала дверь. Замирали шаги, и я оставался один. Помню, ещё подолгу стоял под фонарём. Изумлённый, выхваченный из обычного строя чувств. Точно хотелось проснуться, но не мог.
Она приходила. Я запирал двери и тушил огни. Исчезала комната. Становился далёким и чуждым весь мир.
– Тот ли я, кого ты ждала? Та ли это любовь? – спрашивал я с тоской. – Видишь, я весь твой. Без тебя нет ни жизни, ни чувств, ни желаний.
С белых подушек смотрели неподвижные, жадные глаза, и в тёмной комнате, далёкой миру, звучали безумные, странные речи:
– Так, так нужно. Говори, не умолкай. Ты чувствуешь, как в твою душу вонзается что-то острое, режущее, как нож? Ты хочешь умереть? Вот здесь, сейчас, рядом со мной?
И смеялась тихо и жутко:
– О, милый, милый, милый!..
Так прошло много дней. В них утонуло прошлое и закрылось туманом будущее. Может быть, это длилось бы бесконечно. Может быть…
Но я не сумел… Захотелось чего-то прочного, на долгие дни. Душа не выдержала остро-блаженных мук, и я сказал ей однажды:
– Останься со мной навсегда, будь моей женой.
Как в первую ночь, мы сидели на диване, не расплетая рук, а перекладины рам крестами лежали на светлом полу.
Я сказал, и стало страшно тихо. И мне показалось, что кто-то прошёл по коридору и встал у дверей.
И вдруг разорвалась пелена жуткой тишины. Я услышал множество звуков, которых при ней не замечал никогда.
За окном скрипели полозья саней. Из умывальника с ритмическим стуком падали редкие капли. За книжным шкафом, шурша обоями, скреблась мышь.
Она освободила руки и отодвинулась. В светлой полосе фонаря я увидел её лицо, и оно было такое, как в первый вечер, – чуть-чуть грустное, строгое, покорное, как у монахини.
– Теперь я уйду, – сказала она спокойно. – Этого не может случиться никогда. Мы оба узнали многое. Предстоит идти ещё дальше, ещё выше. Ты поймёшь это после, без меня.
– Будь моей женой, – повторил я тупо, с отчаянием, не слушая её слов. – Разве возможно нам расстаться? Твоя любовь беспощадна, как палач.
Она прикоснулась к моим волосам, и в той же полосе фонаря я увидел её улыбку, грустную, светлую, и глаза, полные слёз.
– Разве я жена? – сказала она. – Ну, посмотри – разве я жена! Как только ты произнёс это слово, я опять увидала себя на длинной пустынной дороге. Смотри. – Её глаза расширились. – Смотри вдаль.
Вот мы больше не встречаемся в этой комнате, а живём где-то вместе, и я твоя жена.
У нас несколько больших комнат и общая спальня. Ночью, привыкшие друг к другу, мы раздеваемся равнодушно и бесстыдно.
Медленно, день за днём, словно неизлечимая болезнь, жизнь входит в те неотвратимые сцепленья, что люди называют «обычными нормами». Ты опять много работаешь. У тебя в кабинете висит мой портрет. На него ты смотришь чаще, чем на меня, потому что у тебя так много, много работы.
У нас родится первый ребёнок. И жизнь меняется просто, без боли. Мы сказали все слова о любви. Спели её единственную песнь, и нам говорят: «Вот теперь начинается настоящее».
Большие печальные глаза прошлого смотрят откуда-то издалека с горестным укором. От этого взгляда снится иногда эта комната, голубые окна и чёрные кресты на полу. Но редко. После спокойных ласк мы спим крепко. Проходит ещё год. Может быть, у нас второй ребёнок. Я полнею. Говорят, что это красиво, и за мной ухаживают твои приятели. У меня есть любовник.
Ты очень любишь детей, но вечером избегаешь быть дома. Ночью я встречаюсь с твоим виноватым взглядом и делаю вид, что сплю.
Иногда ещё мы ласкаем друг друга привычно знакомыми ласками, но никогда уже не повторяем слов, что звучали в этой комнате.
Проходит ещё год, а может быть, пять – уже не всё ли равно! Что сделали мы с любовью? – спрошу я тебя однажды и увижу в твоих глазах тупую покорную тоску. – Тебе больно? Ты плачешь? – Она коснулась моих век грустно-волнующим прикосновением. – Так нужно. Так суждено всем, полюбившим Любовь…
Я встал на колени. Помню её серое мягкое платье и свежий холод спокойных рук.
И, как ученик, узнавший большую сокровенную тайну, благоговейно и восторженно поцеловал её ноги в маленьких чёрных туфлях.
На другой день я уехал далеко. Мы расстались навсегда.
Но теперь она не одна идёт своей вечной дорогой. Мы далеки, но вместе. Мы вдвоём чутко слушаем вечно призывающий голос Любви.
И когда в поздний час одинокого томления чьи-то большие тоскующие глаза с тихой мукой заглядывают мне в лицо, я покорно приближаюсь к Любви и говорю, как она…
– Может быть, здесь…








