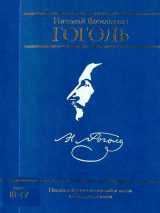
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том III. Повести. Том IV. Комедии"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 47 страниц)
Кстати добавить, что согласно монтировке первой постановки «Ревизора» на сцене Александрийского театра в 1836 году (см. в т. 7 наст, изд.), к заступничеству Государя от произвола городничего обращалось, в числе других просителей, не принятых Хлестаковым, и лицо духовного звания – пономарь «в костюме Кутейкина из комедии Недоросль» (в «дьячковских» сапогах и парике «с косичкою»), – прямой «прототип» гоголевского семинариста Хомы Брута. Надо подчеркнуть, что именно власть законного монарха представляет «ревизор» Хлестаков в уездном городе. Предполагая дать ему взятку, чиновники, например, рассуждают: «Опасно… раскричится: государственный человек. [Скажет: “что вы, кому вы, да как вы смеете, хотите, чтоб я изменил Государю?”]». В то же время обращение духовного лица к мнимому ревизору означает, вероятно, и апокалиптическое «прельщение избранных». Согласно строкам черновой редакции, герои комедии помещики Бобчинский и Доб-чинский, как лица прельщаемые и прельщающие, получив известие об инкогнито-ревизоре, намеревались даже отправиться с этой вестью прямо к местному протопопу. Желание прельщенных, чтобы их помянули у престола самого царя – для них как бы престола Самого Бога (вопреки заповеди: «Не надейтеся на князи, на сыны человеческия…»; Пс. 145, 3), в свою очередь, высказывает в комедии Бобчинский, когда обращается к Хлестакову с неожиданной – вроде бы совершенно нелепой и вызывающей лишь смех – просьбой помянуть его имя в Петербурге (в Санкт-Петербурге) у разных «вельмож», – сказав, если случится, «и Государю, что вот, мол Ваше Императорское Величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский». Для гоголевских героев это, очевидно, и означает: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи…»
«Непросвещеньем» своим гоголевские провинциальные типы, а в не меньшей мере и «приезжий из столицы» Хлестаков, и подают руку грибоедовским героям «дурно понятого просвещения»: «принятия глупых светских мелочей наместо главного», следования европейскому вольнодумству, пустому секуляризованному образу жизни с его городским бездельем, потребительством и «просвещенной» роскошью. Сравнивая героев «Горя от ума» и «Недоросля» – упоминая, в частности, о превозносимых Фамусовым обычаях его круга: преклонении перед иностранщиной, либеральных замашках и «мастерстве» пообедать, Гоголь замечает: «Так же наивно, как хвалится Простакова своим невежеством, он хвалится полупросвещеньем…» Этими же «достоинствами» столичной «цивилизации» хвалится Хлестаков в «Ревизоре»: «Да, деревня… тоже имеет свои пригорки, ручейки… Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом!» В этой «просвещенности» не отстает от своего барина и его слуга Осип: «Право, на деревне лучше… лежи весь век на полатях да ешь пироги… Ну… конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего». «В существе своем, – продолжает Гоголь в статье о русской поэзии характеристику Фамусова (и вместе Хлестакова), – это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском comme il faut <комильфо; фр. буквально: как надо, как следует>, не осталось ровно ничего, которые своим пребываньем в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своей неслужбой и огрубелым пребываньем в деревне».
«…Хочу, чтобы наш дом был первый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти…» – мечтает в свою очередь в «Ревизоре» Простакова-городничиха, «просвещенная» «совершенным comme il faut» Хлестаковым и теми светскими романами, которые удалось ей прочесть между хозяйственными хлопотами. Так характеризует эту героиню Гоголь в заметке «Характеры и костюмы»: «.. Провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей».
Подчеркнем здесь еще раз, что если смотреть на гоголевских героев исключительно сверху вниз, с чувством несомненного собственного превосходства, то понять проблемы, которые ставит, изображая своих «уродов», Гоголь, будет невозможно. К числу таких ускользающих от поверхностного рассмотрения проблем или загадок человеческой души относится и это – на первый взгляд, только комическое – сочетание в героине «Ревизора» черт узкой практичности и романтической, «возвышенной» мечтательности (в этом она как бы предвещает собой в одном лице будущих гоголевских помещиц – «хозяйственную» Коробочку и «нехозяйственную» Манилову в первом томе «Мертвых душ»). Следуя пожеланию Гоголя исполнителям его комедии замечать прежде всего «общечеловеческое выражение» каждой роли, попробуем извлечь такой урок и из этой характеристики.
Гоголь много размышлял о том, что человеку, погруженному в повседневную житейскую суету, свойственно искать утешения в призрачной мечтательности. За полгода до создания «Ревизора», 12 апреля 1835 года, он, в частности, писал матери, огорченной неудачей с осуществлением в Васильевке, патриархальном родовом имении Гоголей, вполне «мечтательного» проекта – заведения доходной «фабрики кож» (шарлатан-«заводчик> этой фабрики бежал, растратив деньги; Гоголь же с самого начала считал этот проект нереальным): «Я видел, что все предприятие было до крайности детское… Вы имеете прекрасное сердце и, может быть, это настоящая причина, что вас нетрудно обмануть. Я очень постигаю вас. Я знаю, что ваша вся жизнь была в заботах, что вы вечно должны были бороться с критическими обстоятельствами. От этого не мудрено, что душа ваша ищет успокоения в мечте и что вы любите предаваться ей как верному другу и не мудрено, что она вас завлекает иногда. Вам нужен советник, который бы практическим образом глядел на жизнь».
Еще более проясняют характер главной героини «Ревизора» строки письма Гоголя к М. П. Балабиной от 7 ноября (н. ст.) 1838 года, где он тоже предупреждает свою бывшую ученицу о ложной мечтательной духовности: «Конечно, не спорю, иногда находит минута, когда хотелось бы из среды табачного дыма и немецкой кухни улететь на луну, сидя на фантастическом плаще немецкого студента… но… та мысль, которую я носил в уме об этой чудной и фантастической Германии (являющейся «в сказках Гофмана». – И. В.), исчезла, когда я увидел Германию на самом деле… Я знаю, есть эта земля, где все чудно и не так, как здесь; но к этой земле не всякие знают дорогу. Вы, кажется, теперь стараетесь отыскивать эту дорогу… Трудно, трудно удержать середину, трудно изгнать воображение и… обратиться к настоящей прозе… труднее всего согласить эти два разнородные предмета вместе – и жить вдруг и в том и в другом мире».
В соответствии с этими гоголевскими размышлениями можно заключить, что мечтательность, нетрезвое стремление вознестись над «прозой» жизни, – представляющие собой, по Гоголю, попытку утолить духовный голод пищей, не сродной духу, и приобщает его героиню к плодам новейшего «полупросвещенья». По содержанию и истокам этого «полупросвещенья» можно догадываться и о том, на каких «возвышенных» романах воспитана гоголевская «провинциальная кокетка». «Ну, отчего не пишут у нас так, как французы пишут, например, как Дюма и другие? – восклицает подобная ей «светская дама» в «Театральном разъезде…» – Я не требую образцов добродетели; выведите мне женщину, которая бы заблуждалась… предалась, положим… непозволенной любви; но представьте это увлекательно… чтобы я побуждена была к ней участьем… полюбила ее… отчего у нас в России все еще так тривиально?»
В таком же свете Гоголь изображает и страсть Анны Андреевны к нарядам (согласно еще одной ее характеристике в заметке «Характеры и костюмы», «она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы»). В этом она, очевидно, задает тон и остальным дамам уездного города. Замечание об их «костюмах», сделанное в 1836 году, Гоголь как бы прямо продолжил в одной из «городских» глав первого тома «Мертвых душ»: «В нарядах вкусу было пропасть… как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж!»
Помимо мечты о петербургском «амбре», «увлекательных» романов и «парижских» нарядов, на пристрастие героини к «дурно понятому просвещенью» указывает также роскошная мебель красного дерева в ее доме (об этом также свидетельствует монтировка первой постановки «Ревизора» на сцене Александрийского театра). Очевидно, что в основании тщеславной мечты городничихи о том, чтобы ее дом «был первый в столице», лежит то, что он уже «первый» – в смысле роскоши – в уездном городе. Но щепетильная, мечтающая о «хорошем обществе» Анна Андреевна будто не замечает того, что многие из ее «просвещенных потребностей» удовлетворяются прямо за счет «доброхотных приношений» купцов и взяток ее мужа. И это еще одна сторона лицемерной, мнимо «возвышенной» и мнимо «образованной» жизни, исследуемая писателем в «Ревизоре». Позднее, размышляя над этим в «Переписке с друзьями» в масштабах губернского города и целой России, Гоголь в статье «Что такое, губернаторша» писал: «…Гоните эту гадкую скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, несправедливостей и всех мерзостей, какие у нас есть». «.. Большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, – замечал он в статье «Женщина в свете», – произошла… от расточительности их жен…»
Возвращаясь к характеристике Гоголем комедий его предшественников, заметим, что в еще одном герое «дурно понятого просвещенья» – грибоедовском Скалозубе – «глупом фрунтовике», уверенном, что можно исправить мир, сменив Вольтера фельдфебелем то есть, очевидно, собой), «но при всем том удержавшем какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины» как на «необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы», по всему угадывается сам гоголевский городничий с его своеобразной «критикой» вольтерьянства и мечтой о Петербурге и генеральстве. Понятно, в чем заключается, по Гоголю, «либерализм» этих героев-«фрунтовиков», поставивших служение своему «я», своему тщеславию – рабство страстям выше служения Отечеству. Ибо настоящая свобода состоит, по словам Гоголя, вовсе «не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: да, но в том, чтобы уметь сказать им: нет», – мысль, принадлежащая уже к истинному просвещению: «И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках…» (И ходил я на просторе, свободно, потому что дознавался Твоих повелений, – потому что не стесняли меня тогда мои страсти; Пс. 118, 45). Во взгляде же на чины как на средство удовлетворения своего тщеславия – и на возможность «не пропускать того, что плывет в руки» – городничий опять-таки ничем не отличается от обличаемого им вольнодумца (и, вероятно, «вольтерьянца») судьи. «Философия» его, в свою очередь, являет собой результат новейшего «просвещения».
Очевидно, что и вывод Гоголя о героях «Недоросля» и «Горя от ума» во всем подходит к его собственным героям: «Все лица комедии… русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди броженья новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоуменье насчет того, чем должен быть русский человек». Пожалуй, исключенье можно сделать лишь для одной дочери городничего, в которой однажды проглядывают вдруг черты глубокого нравственного достоинства – когда она с возмущением отвергает чересчур смелые «любезности» Хлестакова, прямо называя наглость наглостью и не задумываясь над тем, что перед ней «значительное лицо», которого трепещет ее отец и которое может составить «выгодную партию» для нее самой. Впрочем, и в ней уже заметна изрядная доля «пошлости». Словно прямо к ней относятся слова Чичикова в «Мертвых душах» о встреченной им по дороге губернаторской дочке: «Она теперь, как дитя… она может быть чудо, а может выйти и дрянь…»
* * *
Хлестаков как представитель «дурно понятого просвещенья» – «сделавшего нас ни русскими, ни иностранцами» – напоминает еще одного литературного персонажа. Хотя сам Гоголь на эту параллель нигде прямо не указывает, но если учесть, что Хлестаков, по определению автора, «принадлежит к тому кругу, который… ничем не отличается от прочих молодых людей», то не будет безосновательным и такое сравнение.
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
«Да. Там из наших чиновников никто так не одевается. Платье заказываю Ручу, триста рублей за пару».
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам…
«И сукно такое важное, аглицкое! рублей полтораста ему один фрак станет…»; «Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать – и куды!.. пошел кутить…»
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной…
«Ведь мой отец упрям и глуп… как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга… теперь не те потребности: душа моя жаждет просвещения».
Образ Хлестакова в этом отношении хорошо поясняют характеры других героев Гоголя, в частности, сыновей помещика Петуха в третьей главе второго тома «Мертвых душ», тоже желающих вкусить «просвещенья столичного». – «Понимаю, – замечает по этому поводу Чичиков, – кончится дело кондитерскими да булеварами…» – Как у Пушкина: «…Надев широкий боливар,/Онегин едет на бульвар…» «Дурак, дурак! – обсуждает про себя Чичиков намерение Петуха перебраться в город, – промотает все, да и детей сделает мотишками. Именьице порядочное… а как просветятся там у ресторанов да по театрам…»
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру…
.. «С хорошенькими актрисами знаком»…
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
«Просто не говорите. На столе, например, арбуз – в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа…»
Напомним также из «Евгения Онегина» строки о том,
…как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы…
Тем более что в черновике у Пушкина прибавлено: «Работы Иоахима». «Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты…» – восклицает в «Ревизоре» Хлестаков.
По словам Гоголя в «Переписке с друзьями», Пушкин «хотел было изобразить в Онегине современного человека и разрешить какую-то современную задачу– и не мог». В этой связи опять вспоминается рассказ Гоголя о том, что одному Пушкину удалось верно определить главное свойство его таланта – «дар выставлять так ярко пошлость жизни… чтобы та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем».
Действительно, «мелочь» в поэме Пушкина являет себя во много раз «крупнее», помещенная под увеличительное стекло гоголевской комедии. Но нет ли в ней и разрешения той «современной задачи», которую, по размышлению Гоголя, ставил поэт в «Евгении Онегине»? Продолжим сравнение героев.
Нетрудно заметить еще одну черту, роднящую Хлестакова с пушкинским «Чайльд-Гарольдом», – хандру и скуку.
«Скучно, брат, так жить, – признается «душе Тряпичкину» Хлестаков, – хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться».
.. Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся…
«Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой». «Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь…»
.. Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а все без толку…
Примечателен еще один гоголевский штрих к характеристике хандры Хлестакова, который, через косвенное свидетельство современника, может быть поставлен в прямую связь со скукой пушкинского героя. Напомним эпизод во втором действии комедии в гостиничном номере, где Хлестаков, томимый вынужденным бездействием, насвистывает сначала из «Роберта» (оперы французского композитора Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол»; роскошные постановки этой оперы шли в Петербурге), потом «Не шей ты мне, матушка» (романс А. Е. Варламова на слова Н. Г. Цыганова) и, наконец, «ни се ни то». Известный поэт и критик Ап. Григорьев в автобиографической новелле «Роберт-Дьявол» (1846), посвященной впечатлениям от этой оперы (и, в частности, тому, как она помогла ему избавиться от хандры), писал: «…Я страдал самой невыносимой хандрой… не «зензухтом» немца
Не здесь ли и заключается «современная», по определению Гоголя, «задача» «Евгения Онегина»? И не поставлена ли была эта «задача» перед мысленным взором Гоголя самим поэтом?
Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава Богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как Child-Harold, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он…
Думается, прямо к разрешению загадки разочарования байронического героя Пушкина, или, говоря словами самого поэта, к отысканию причины его «недуга» («Недуг, которого причину/Давно бы отыскать пора…»), и обращался Гоголь в статье о русской поэзии, когда писал: «.. Некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету очарованье и стало модным… потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход разочарованье, порожденное, может быть излишним очарованьем…»
Следуя этому высказыванию в осмыслении пушкинского и гоголевского «Чайльд-Гарольдов», можно, кажется, постичь наконец загадку их недуга. Ибо именно «очарованье», упоение соблазнами мира – крайней степенью которого является, согласно Гоголю, пристрастие обоих «цивилизованных» героев к модной роскоши (не случайно в этом смысле и упоминание Гоголем имени Шиллера – поэта, а также одного из главных идеологов европейского торгово-промышленного прогресса), и порождает в них тягостное «похмелье» уныния и скуки – «разочарованье».
Нельзя не предположить, что и в этом Гоголь видел действие тех же невидимых «страшных врагов душевных», о которых писал в «Развязке Ревизора» и отдельном письме «Выбранных мест…».
Я беса «называю прямо» бесом, – заявлял он в письме к С. Т. Аксакову от 16 мая (н. ст.) 1844 года, – и «не даю ему… великолепного костюма a la Байрон… приводить в уныние – это его дело».
Весьма примечательно, что в статье о русской поэзии при характеристике Лермонтова – этого, по определению Гоголя, певца «безочарованья, родного детища байроновского разочарованья» – вновь появляются строки об изгнании нечистого духа посредством его художественного изображения. «Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, – пишет Гоголь о «безрадостном» Лермонтове, – поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться… В неоконченном его стихотворенье, названном “Сказка для детей”, образ этот получает больше определительности… Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от самого духа…»
По словам одного из исследователей конца ХIХ века, Н. М. Павлова (см.: Русский Архив. 1890. № 1. С. 140), и Пушкин оставил нам «добрую заповедь, чтобы всякий из нас постарался как можно скорее разделаться с Онегиным», этим
…печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже демоном моим.
В поэме «Езерский» (1832–1833), оставшейся в рукописях поэта и предназначавшейся ко включению в «Евгения Онегина» (отрывок из поэмы – «Родословная моего героя» – был опубликован в 1836 году в третьем томе «Современника»), Пушкин писал:
Мне жаль, что мы руке наемной
Дозволя грабить свой доход,
С трудом в столице круглый год
Влачим ярмо неволи темной,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто…
Что наши селы, нужды их
Нам вовсе чужды – что науки
Пошли не в прок нам; что спроста
Из бар мы лезем в tiers-etat <третье сословие; фр.>,
Что будут нищи наши внуки…
Что не живем семьею дружной…
Старея близ могил родных,
В своих поместьях родовых,
Где в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава…
«…Уныние – жалкая дочь безверья в Бога…» – писал в 1846 году Гоголь в статье «Страхи и ужасы России». «Уныние есть истое искушение духа тьмы… – замечал он также ранее в «Правиле жития в мире». – Оно есть следствие недостатка любви нашей к Богу… Бог есть верховное веселие, а потому и мы должны быть также светлы и веселы». Сестре Анне 15 июня 1844 года он писал: «Прежде всего ты должна поблагодарить Бога за ту тоску, которая на тебя находит. Это предвестник скорого прихода веселья в душу твою. Тоска эта – следствие пустоты, следствие бесплодности твоего прежнего веселья». Предостерегая от обольстительного, доводящего до хандры упоения, Гоголь советовал: «Запасаться нужно в хорошее время на дурное и неурожайное: умерять дух нужно в веселые минуты мыслями о главном в жизни – о смерти, о будущей жизни, затем, чтобы легче и светлее было в минуты тяжелые» (записная книжка 1846–1850 годов).
Очевидно, именно в неспособности к такому трезвому взгляду на жизнь и заключается, согласно представлениям Гоголя, трагизм положения главного героя комедии – городничего. Благодаря позднейшим гоголевским автокомментариям становится возможным глубже понять характеристику этого героя, данную в 1836 году в заметке «Характеры и костюмы». «Переход» его, замечал здесь Гоголь, «от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души». В «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует ’’Ревизора”» Гоголь поясняет: «Переходя от страха к надежде… увидевши, что ревизор в его руках… он предается буйной радости при одной мысли о том, как понесется отныне его жизнь среди пирований, попоек… Поэтому-то внезапное объявление о приезде настоящего ревизора для него больше, чем для всех других, громовой удар, и положенье становится истинно трагическим». (Так же, заметим, будет предаваться отчаянию Чичиков в заключительной главе второго тома «Мертвых душ», когда после любования своей фигурой в модном фраке попадет внезапно в острог. Стремительный переход от упоительного «очарованья» к крайнему «разочарованью» – не умеряемых памятью смертной, вероятно, также должен был, в соответствии с размышлениями Гоголя, подчеркнуть духовную неразвитость героя.)
Зная о тесной связи, проводимой Гоголем между настроениями «очарованья» и «разочарованья», можно предположить, что «бес благородный скуки тайной» – не единственный, под чьим «управлением» находится Хлестаков. Несомненно, некий «дух» действует в нем и тогда, когда он обольщает и «очаровывает» своих уездных слушателей полуфантастическими картинами «земного рая» новейшей цивилизации. «Это вообще лучшая и самая поэтическая минута в его жизни – почти род вдохновенья», – замечает Гоголь. Такого «очарованья», собственно, и «следует» ожидать от него как от лица, играющего, в свете апокалиптического подтекста пьесы, роль обольстителя последних времен.
Можно заметить при этом, что прельщение, в которое ввергает слушателей Хлестаков, становится для них тем более неотразимым, а положение их – тем более трагичным, что при отсутствии духовных критериев, прочных навыков различения добра и зла, приобретаемых внутренним воспитанием, герои, подменившие это воспитание соблюдением светского «комильфо» и пустым лицемерием, оказываются совершенно беспомощны в оценке проповедуемого Хлестаковым «просвещения» и потому, «очарованные» авторитетом правящего Петербурга, готовы и семисотрублевые арбузы на балах столицы принять за нечто «священное» и должное. «Диавол… перестал уже и чиниться с людьми… – писал Гоголь в статье «Светлое Воскресенье» об этом господстве мнимых ценностей, – глупейшие законы дает миру… и мир… не смеет ослушаться». Как остроумно заметил о гоголевском городничем Ф. М. Достоевский, он «хоть Хлестакова и раскусил, и презирает его», но «так и остался до сих пор в той же самой уверенности про арбуз» и «рад хоть и в арбузе почтить добродетель» (Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 187б//Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 22. С. 11).
В то же время следует сказать по поводу Хлестакова, что и без участия беса герой как «суетный образованный молодой человек»-«щелкопер» своим внутренним содержанием вполне отвечает возложенной на него роли. Напомним свидетельство Д. К. Малиновского о том, как Гоголь говорил, что молодых людей, подобных Хлестакову, нечистый дух «оставляет самим себе без всякого внимания с своей стороны, в полной уверенности, что они не уйдут и сами от него…».
Весьма знаменательна в этом свете характеристика Гоголем внутреннего «образования» Хлестакова в той же заметке 1836 года «Характеры и костюмы»: «Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли». Если сравнить это определение с другими высказываниями Гоголя той поры, то обнаружится, что указанная примета вовсе не принадлежит исключительно Хлестакову как некое карикатурное свойство, но представляет собой, по наблюдениям писателя, одну из наиболее типичных черт современного «цивилизованного» человека вообще.
В статье «Об архитектуре нынешнего времени» (1834) Гоголь писал: «Век наш так мелок, желания так разбросаны по всему, знания наши так энциклопедически, что мы никак не можем усредоточить на одном каком-нибудь предмете наших помыслов и оттого поневоле раздробляем все наши произведения на мелочи и на прелестные игрушки». Потому-то, писал позднее Гоголь, современный человек, «развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли во все стороны… не в силах встретиться прямо со Христом» («О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», 1846).
Таким образом, обольстительная мелочность и развлекающее многообразие «изобретений роскоши» являются, согласно выводам Гоголя, не только причиной, но и следствием рассеяния ума современного человека. А потому борьба за исцеление от болезни и изменение наружных форм быта должна начинаться с внутреннего воспитания.
«Это энциклопедическое образование публики… – пишет Гоголь в 1846 году в статье «О “Современнике”», – уже не так теперь потребно… Уже все зовет ныне человека к занятиям более сосредоточенным…» В письме к В. Г. Белинскому 1847 года он повторяет: «Это поверхностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, а не сосредоточивают его».
Еще в 1830-х годах «огромному раздроблению жизни и познаний» современного человека Гоголь противопоставлял благотворное «владычество одной мысли». Об эпохе Средних веков он, в частности, писал: «С мыслию о Средних веках невольно сливается мысль о крестовых походах… ни одна из страстей… не входят сюда: все проникнуты одной мыслию – освободить Гроб Божественного Спасителя!.. Владычество одной мысли объемлет все народы» (статья «О Средних веках», 1834). О картине Брюллова он тогда же замечал: «Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который… чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы…» («Последний день Помпеи», 1834).
Очевидно, что характеристика Хлестакова как человека, не способного «остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли», исполнена у Гоголя самого глубокого смысла, раскрываемого в самой комедии.
Укажем, что упоминаемое Гоголем в статье об архитектуре «усредоточение помыслов» находит себе прямое соответствие в святоотеческой традиции, где собирание помыслов, или мысленная борьба с мирскими соблазнами, с приходящими во время молитвы отвлекающими образами и движениями мысли, именуется также трезвением, или блюдением ума. Оно-то и открывает человеку его зависимость от падших духов. Гоголевское представление о нечистом духе как обольщающем помысле отразилось уже в самых ранних произведениях – в поэме «Ганц Кюхельгартен», в незавершенной повести «Страшный кабан»… Это же представление отметила, в частности, в своем дневнике Е. А. Хитрово (запись от 3 марта 1831 года): «Когда бывало сказано: “Диавол прииде”, он <Гоголь> говорил: “т. е. помышление”. Потом говорил: «Этим душам так все ясно, что они натурально и диавола могут видеть. Такая чистота может у того быть, кто познал всю глубину мерзости”» (<Хитрово Е. Л.> Гоголь в Одессе. 1830–1851 //Русский Архив. 1902. № 3. С. 556). Такое же представление Гоголь воплотил в четвертой главе второго тома «Мертвых душ», в размышлениях Чичикова: «…Можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогло денег… И кто творец этих вдруг набегающих мыслей?» Об этом же Гоголь упоминал в первой редакции «Портрета»: «Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуты самых чистых и святых помышлений».
Непосредственно с мыслью об аскетическом «трезвении» соотносится у Гоголя и характеристика частного пристава в «Шинели», что «бывает… всякое воскресенье в церкви, на все смотрит и молится в то же время» (очевидно, что по наружности набожный частный пристав лишь принимает вид молящегося, пребывая при этом в рассеянии). Размышление о борьбе с помыслами во время молитвы встречается в одном из набросков незавершенной драмы Гоголя из истории Запорожья (1839–1841): «Отречение от мира совершенное. А между тем рисуется прежнее счастие и богатство… как будет молиться, как припадать к иконе: “все буду плакать и ничего, никакой пищи бедному сердцу, не порадую его никаким воспоминанием”». Представление о гибельном рассеянии ума во время храмовой молитвы или во время иного – тоже религиозного – служения в значительной мере определяет замыслы и других ранних произведений Гоголя: «Пропавшей грамоты», «Ночи перед Рождеством», «Тараса Бульбы», «Вия», «Невского проспекта», «Портрета». В «Размышлениях о Божественной Литургии» Гоголь, поясняя слова Спасителя о похищении диаволом из сердца человека семени Божественного слова, напоминал, что такое сердце «уподобляет Спаситель земле при пути», где эти семена «тут же бывают расхищены птицами – налетающими злыми помышлениями…». Сам Гоголь в тяжелую минуту исповедовался о. Матфею Константиновскому: «Иногда кажется, как бы от всей души молюсь, то есть хочу молиться, но этой молитвы бывает одна, две минуты. Далее мысли мои расхищаются, приходят в голову незваные, непрошеные гости и уносят помышленья Бог весь в какие места…» (письмо от 9 ноября 1848 года). (Не будем, однако, и в данном случае спешить с однозначными выводами относительно самого Гоголя. «Неоднократно Гоголь говорил о своей душевной черствости, о маловерии своем, о том, что он не может долго сосредоточиваться в молитвенном настроении. Все это– признаки истинно-христианского смирения…»; Розанов Н. Гоголь как верный сын Церкви. М., 1902. С. 9–10).








