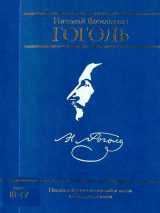
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том III. Повести. Том IV. Комедии"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 47 страниц)
Так пронеслись четыре пламенные года его жизни, – четыре года, слишком значительные для юноши, и к концу их уже многое показалось не в том виде, как было прежде. Во многом он разочаровался. Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев, вечная страсть парижан, уже казался ему много, много не тем, чем был прежде. Он видел, как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезала без выводов и плодоносных душевных осадков. В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность, страшное царство слов вместо дел. Он видел, как всякий француз, казалось, только работал в одной разгоряченной голове; как это журнальное чтение огромных листов поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; как всякий француз воспитывался этим странным вихрем книжной, типографически движущейся политики[273]273
…типографически движущейся политики… – П. В. Анненков 7 февраля 1842 г. писал из Парижа: «Политические брошюры распространяются страшно, так распространяются, что одному человеку уже и вычитать нельзя, что появляется в неделю. Я только хожу да посматриваю на окна книжных магазинов, где каждый день появляется новая афишка. Вчера возвещали о брошюре “Я бью стекла”; третьего дня: “Счет пощечин, полученных Францией”; сегодня: “Памфлет и история”. Плюнешь всякий раз, да и отойдешь прочь!» (Анненков П. В. Письма из-за границы. С. 58).
[Закрыть] и, еще чуждый сословия, к которому принадлежал, еще не узнав на деле всех прав и отношений своих, уже приставал к той или другой партии, горячо и жарко принимая к сердцу все интересы, становясь свирепо против своих супротивников, еще не зная в глаза ни интересов своих, ни супротивников… и слово политика опротивело наконец сильно итальянцу.
В движенье торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости. Один силился пред другим во что бы то ни стало взять верх хотя бы на одну минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку магазина, чтобы блеском и великолепием его заманить к себе толпу. Книжная литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб ими привлечь к себе охлаждающееся внимание.[274]274
…литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб… привлечь… охлаждающееся внимание. – В том же письме из Парижа от 7 февраля 1842 г. П. В. Анненков замечал: «Книгопродавцы прибегли с горя к картинкам и великолепным изданиям, чтоб завлекать охладевшую публику; новый роман Сулье: «Если б молодость ведала! Если б старость могла!» издается еженедельно листками, со всею типографскою роскошью, и Бог знает, когда кончится» (Анненков П. В. Письма из-за границы. С. 58). Отметим, что письмо Анненкова было впервые опубликовано в № 3 «Отечественных Записок» за 1842 г., вышедшем в свет 1 марта (цензурное разрешение 28 февраля). Цензурное разрешение № 3 «Москвитянина» за 1842 г., где был впервые напечатан гоголевский «Рим»– 11 марта 1842 г. Исходя из близкого сходства цитируемых отрывков, следует предположить, что либо Гоголь воспользовался при создании повести статьей Анненкова, либо Анненков, проживавший с Гоголем в Риме весной – летом 1841 г., слышал ранее повесть в авторском чтении (и, возможно, сделал при этом какие-то записи). Последнее предположение представляется более вероятным, так как о «типографической роскоши» Гоголь упоминал уже в рецензии на альманах В. А. Владиславлева «Утренняя заря», опубликованной в 1842 г. (с подписью: NN) в Nq 1 «Москвитянина» (цензурное разрешение 6 января). Это упоминание находится в начальных строках гоголевской рецензии, не попавших в печать (они были исключены из рецензии М. П. Погодиным и сохранились в автографе, опубликованном лишь в 1902 г.): «Начнем блестящим изделием типографической роскоши, легким сверкающим цветком, приветствующим наступающий 1842-й год». В соответствии со строками «Рима» Гоголь в рецензии на «Утреннюю зарю» (написанной, вероятно, по просьбе Погодина) как бы демонстративно игнорирует литературную (откровенно слабую) сторону альманаха, останавливаясь лишь на «типографической роскоши» и портретах красавиц. Соответствующий (критический и при этом обширный) разбор произведений, вошедших в альманах, вынужден был сделать (вычеркнув несколько ни к чему не обязывающих строк Гоголя) сам редактор «Москвитянина» Погодин. См. также коммент. к с. 201 —..освистывает гроб покойник…
[Закрыть] Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой природы силились повести и романы овладеть читателем.[275]275
Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой природы силились повести и романы овладеть читателем. – В статье «Петербургская сцена в 1835-36 г.» Гоголь писал о европейском репертуаре петербургских театров: «Что сильнее бросается в глаза: каторга, убийство. Чем можно испугать и произвести судороги, что движет эшафот кровавою тенью. Вся мелодрама состоит из убийств и преступлений». В заметке «О театре», сохранившейся в записной книжке Гоголя 1842–1850 гг., он также отмечал: «Искусство упало. Высокие доблести, величие духа, все, что способно поднять, возвысить человека, являются редко. Все или карикатура, придумываемая, чтобы быть смешной, или выдуманная чудовищная страсть, близкая к опьянен<ию>, которой авто<р> старается изо всех <сил> дать право гражданствам составляют содержание нынешних пьес».
[Закрыть] Все, казалось, нагло навязывалось и напрашивалось само, без зазыва, как непотребная женщина, ловящая человека ночью на улице; все, одно перед другим, вытягивало повыше свою руку, как обступившая толпа надоедливых нищих. В самой науке, в ее одушевленных лекциях, которых достоинство не мог не признать он, теперь стало ему заметно везде желание выказаться, хвастнуть, выставить себя[276]276
В самой науке… желание выказаться, хвастнуть, выставить себя… – В письме из Парижа от 7 февраля 1842 г. П. В. Анненков писал: «…Публичные лекции знаменитейших профессоров Парижа… посещаемые всеми классами народа, принадлежат к числу парижских зрелищ, во-первых, по отсутствию, по крайней мере в философских и литературных лекциях, строгой науки, а во-вторых, по необычайному старанию профессоров сделать чтения свои как можно остроумнее, пестрее, замысловатее» (Анненков П. В. Письма из-за границы. С. 57).
[Закрыть]; везде блестящие эпизоды, и нет торжественного, величавого теченья всего целого. Везде усилия поднять доселе не замеченные факты и дать им огромное влияние иногда в ущерб гармонии целого, с тем только, чтобы оставить за собой честь открытия; наконец, везде почти дерзкая уверенность и нигде смиренного сознания собственного неведения, – и он привел себе на память стих, которым итальянец Альфиери[277]277
Альфиери Витторио (1749–1803) – итальянский поэт, автор сборника памфлетов, эпиграмм и сатир на французскую революцию («Мизогалл», 1799).
[Закрыть], в едком расположенье своего духа, попрекнул французов:
Тоскливое расположение духа им овладело. Напрасно старался он развлекать себя, старался сойтись с людьми, которых уважал, но не сошлась итальянская природа с французским элементом.[279]279
…не сошлась итальянская природа с французским элементом. – В неозаглавленной вступительной заметке первой половины 1840-х гг. к русскому переводу новеллы П. Мериме «Души в чистилище» (1834) Гоголь так же определял и соотношение с «французским элементом» славянской народности: «Имя Мериме не было так часто на устах Европы, как других, менее награжденных дарами гения, но более плодовитых писателей, которые более метили на эффект и желание удивить, изумить во что бы то ни стало, которые [из<-за> этого поднимались на дыбы и далеко отшатнулись от истины, высокой в необходимой простоте своей]… Почувствовать и угадать дух славянский – это уже слишком много и почти невозможно для француза. По природе своей эти две нации не сходятся между собою в характере».
[Закрыть] Дружба завязывалась быстро, но уже в один день француз выказывал себя всего до последней черты: на другой день нечего было и узнавать в нем, далее известной глубины уже нельзя было погрузить вопроса в его душу, не вонзалось далее острие мысли; а чувства итальянца были слишком сильны, чтобы встретить себе полный ответ в легкой природе. И нашел он какую-то странную пустоту даже в сердцах тех, которым не мог отказать в уваженье. И увидел он наконец, что, при всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках, вся нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей; везде полустрасти, и нет страстей, все не окончено, все наметано, набросано с быстрой руки; вся нация – блестящая виньетка, а не картина великого мастера.
Нашедшая ли внезапно на него хандра дала ему возможность увидать все в таком виде или внутреннее верное и свежее чувство итальянца было тому причиною, – то или другое, только Париж со всем своим блеском и шумом скоро сделался для него тягостной пустыней, и он невольно выбирал глухие, отдаленные концы его. Только в одну еще итальянскую оперу заходил он, там только как будто отдыхала душа его, и звуки родного языка теперь вырастали пред ним во всем могуществе и полноте. И стала представляться ему чаще забытая им Италия, вдали, в каком-то манящем свете; с каждым днем зазывы ее становились слышнее, и он решился наконец писать к отцу, чтобы позволил ему возвратиться в Рим, что в Париже оставаться более он не видит для себя нужды. Два месяца не получал он никакого ответа, ни даже обычных векселей, которые давно следовало ему получить. Сначала ожидал он терпеливо, зная капризный характер своего отца, наконец начало овладевать им беспокойство. Несколько раз на неделю наведывался к своему банкиру и всегда получал один и тот же ответ, что из Рима нет никаких известий. Отчаяние готово было вспыхнуть в душе его. Средства содержания уже давно у него все прекратились, уже давно сделал он у банкира заем, но и эти деньги давно вышли, давно уже он обедал, завтракал и жил кое-как в долг; косо и неприятно начинали посматривать на него – и хоть бы от кого-нибудь из друзей какое-нибудь известие. Тут-то он сильно почувствовал свое одиночество. В беспокойном ожидании бродил он в этом надоевшем насмерть городе. Летом он был для него еще невыносимее: все наездные толпы разлетелись по минеральным водам, по европейским гостиницам и дорогам. Призрак пустоты виделся на всем. Домы и улицы Парижа были несносны, сады его томились сокрушительно между домов, палимых солнцем. Как убитый останавливался он над Сеной, на грузном, тяжелом мосту, на ее душной набережной, напрасно стараясь чем-нибудь позабыться, на что-нибудь заглядеться; тоска необъятная жрала его, и безыменный червь точил его сердце. Наконец судьба над ним умилосердилась – и в один день банкир вручил ему письмо. Оно было от дяди, который извещал его, что старый князь уже не существует, что он может приехать распорядиться наследством, которое требует его личного присутствия, потому что расстроено сильно. В письме был тощий билет, едва доставший на дорогу и на расплату четвертой доли долгов. Молодой князь не хотел медлить минуты, уговорил кое-как банкира отсрочить долг и взял место в курьерской карете. Казалось, страшная тягость свалилась с души его, когда скрылся из вида Париж и дохнуло на него свежим воздухом полей. В двое суток он уже был в Марселе, не хотел отдохнуть часу и того же вечера пересел на пароход. Средиземное море показалось ему родным: оно омывало берега его отчизны, и он посвежел уже, только глядя на одни бесконечные его волны. Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при виде первого итальянского города, – это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее, вдруг обнесший его со всех сторон, когда пароход пришел к пристани. Никогда не видал он Генуи. Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берег, он очутился вдруг в этих темных, чудных, узеньких, мощенных плитами улицах, с одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта теснота между домами, высокими, огромными, отсутствие экипажного стуку, треугольные маленькие площадки и между ними, как тесные коридоры, изгибающиеся линии улиц, наполненных лавочками генуэзских серебряников и золотых мастеров. Живописные кружевные покрывала женщин, чуть волнуемые теплым широкко[280]280
Широкко (сирокко) – знойный юго-восточный ветер.
[Закрыть]; их твердые походки, звонкий говор в улицах; отворенные двери церквей, кадильный запах, несшийся оттуда, – все это дунуло на него чем-то далеким, минувшим. Он вспомнил, что уже много лет не был в церкви, потерявшей свое чистое, высокое значение в тех умных землях Европы, где он был. Тихо вошел он и стал в молчании на колени у великолепных мраморных колонн и долго молился, сам не зная за что: молился, что его приняла Италия, что снизошло на него желанье молиться, что празднично было у него на душе, – и молитва эта, верно, была лучшая. Словом, как прекрасную станцию унес он за собою Геную: в ней принял он первый поцелуй Италии. С таким же ясным чувством увидел он Ливорно, пустеющую Пизу, Флоренцию, слабо знаемую им прежде. Величаво глянул на него тяжелый граненый купол ее собора, темные дворцы царственной архитектуры и строгое величье небольшого городка. Потом понесся через Апеннины, сопровождаемый тем же светлым расположением духа, и когда наконец после шестидневной дороги показался в ясной дали, на чистом небе, чудесно круглившийся купол[281]281
…чудесно круглившийся купол… – Купол собора Св. Петра в Риме. По воспоминаниям А. О. Смирновой об осмотре ею римских достопримечательностей под руководством Гоголя в 1843 г., в конце января этого года они в течение недели совершали прогулки по Риму, причем «Гоголь направлял их так, что они кончались всякий раз Петром <т. е. собором Св. Петрах «Это так следует, – говорил он, – на Петра никак не наглядишься, хотя фасад у него и комодом»… А. О. С<мирно>ва всходила с Гоголем на Петра, и когда сказала ему, что ни за что не решилась бы идти по внутреннему карнизу церкви (который так широк, что по нему могла бы проехать карета в четыре лошади), он отвечал: «Теперь и я не решился бы, потому что нервы у меня расстроены: но прежде я по целым часам лежал на этом карнизе, и верхний слой Петра мне так известен, как едва ли кому другому. Когда вглядишься в Петра и в пропорции его частей, нельзя надивиться довольно гению Микель-Анджело”» (<Кулиги П. А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 2–3).
[Закрыть] – о!., сколько чувств тогда столпилось разом в его груди! Он не знал и не мог передать их; он оглядывал всякий холмик и отлогость. И вот уже наконец Ponte Molle[282]282
Ponte Molle – мост через Тибр в 3 км от Рима.
[Закрыть], городские ворота, и вот обняла его красавица площадей Piazza del Popolo[283]283
Piazza del Popolo – Народная площадь.
[Закрыть], глянул Monte Pincio[284]284
Monte Pincio – гора Пинчо, холм на окраине Рима.
[Закрыть] с террасами, лестницами, статуями и людьми, прогуливающимися на верхушках. Боже! как забилось его сердце! Ветурин понесся по улице[285]285
Ветурин понесся по улице… – Ветурин – извозчик.
[Закрыть] Корсо, где когда-то ходил он с аббатом, невинный, простодушный, знавший только, что латинский язык есть отец итальянского. Вот предстали пред ним опять все домы, которые он знал наизусть: Palazzo Ruspoli с своим огромным кафе. Piazza Colonna, Palazzo Sciarra, Palazzo Doria; наконец поворотил он в переулки, так бранимые иностранцами, не кипящие переулки, где изредка только попадалась лавка брадобрея с нарисованными лилиями над дверьми, да лавка шляпочника, высунувшего из дверей долгополую кардинальскую шляпу, да лавчонка плетеных стульев, делавшихся тут же на улице. Наконец карета остановилась перед величавым дворцом брамантовского стиля.[286]286
…брамантовского стиля. – Браманте Донато (1444–1514) – итальянский художник, архитектор, автор первоначального проекта собора Св. Петра.
[Закрыть]
⠀⠀ ⠀⠀
Вид на виллу Медичи. 1807
Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867)
карандаш, бумага

Никого не было в нагих неубранных сенях. На лестнице встретил его дряхлый maestro di casa, потому что швейцар с своей булавой ушел, по обыкновению, в кафе, где проводил все время. Старик побежал отворять ставни и освещать мало-помалу старинные величественные залы. Грустное чувство овладело им, – чувство, понятное всякому приезжающему после нескольких лет отсутствия домой, когда все что ни было кажется еще старее, еще пустее и когда тягостно говорит всякий предмет, знаемый в детстве, – и чем веселее были с ним сопряженные случаи, тем сокрушительней грусть, насылаемая им на сердце. Он прошел длинный ряд зал, оглянул кабинет и спальню, где еще не так давно старый владетель дворца засыпал в кровати под балдахином с кистями и гербом и потом выходил в шлафроке и туфлях в кабинет выпить стакан ослиного молока, с намереньем пополнеть; уборную, где он наряжался с утонченным стараньем старой кокетки и откуда отправлялся потом в коляске с своими лакеями на гулянье в виллу Боргезе, лорнировать постоянно какую-то англичанку, приезжавшую туда также прогуливаться. На столах и в ящиках видны были еще остатки румян, белил и всяких притираний, которыми молодил себя старик. Maestro di casa объявил, что уже за две недели до смерти он принял было твердое намерение жениться и сделал нарочно консультацию с иностранными докторами, как поддержать con onore i doveri di marito[287]287
…поддержать con onore i doveri di marito… (ит.) – поддержать с честью обязанности супруга.
[Закрыть]; но что в один день, сделавши два или три визита кардиналам и какому-то приору[288]288
…какому-то приору… – Приор (лат. prior– первый, старший) – настоятель небольшого католического монастыря; в широком смысле – должностное лицо.
[Закрыть], он возвратился усталый домой, сел в кресло и умер смертью праведника, хотя смерть его была бы еще блаженнее, если бы он, по словам maestro di casa, догадался послать за две минуты прежде за своим духовником il padre Benvenuto. Все это слушал молодой князь, рассеянный, не принадлежа мыслью ни к чему. Отдохнувши от дороги и от странных впечатлений, он занялся своими делами. Его поразил страшный беспорядок их. Все, от малого до большого, было в бестолковом, запутанном виде. Четыре бесконечные тяжбы за обвалившиеся дворцы и земли в Ферраре и Неаполе, совершенно опустошенные доходы за три года вперед, долги и нищенский недостаток среди великолепия – вот что представилось глазам его. Старый князь был непонятное соединение скупости и пышности. Он держал огромную прислугу, которая не получала никакой платы, ничего, кроме ливреи, и довольствовалась подаяниями иностранцев, приходивших смотреть галерею. При князе были егери, официанты, лакеи, которые ездили у него за коляской, лакеи, которые никуда не ездили и просиживали по целым дням в ближнем кафе или остерии, болтая всякий вздор. Он распустил тот же час всю эту сволочь, всех егерей и охотников, и оставил одного только старика maestro di casa; уничтожил почти вовсе конюшню, продав никогда не употреблявшихся лошадей; призвал адвокатов и распорядился с своими тяжбами, по крайней мере, так, что из четырех составил две, бросив остальные, как вовсе бесполезные; решился ограничить себя во всем и вести жизнь со всею строгостью экономии. Это было ему нетрудно сделать, потому что уже заблаговременно он привык ограничивать себя. Ему нетрудно было также отказаться от всякого сообщества с своим сословием, – которое, впрочем, все состояло из двух трех доживавших фамилий, – общества, воспитанного кое-как отголосками французского образованья, да богача банкира, собиравшего около себя круг иностранцев, да неприступных кардиналов, людей необщительных, черствых, уединенно проводивших время за карточной игрой в tresette (род дурачка) с своим камердинером или брадобреем. Словом, он уединился совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами, и с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок: где же огромный древний Рим? – и потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка, где целым портиком перед нестаринной церковью, и, наконец, далеко, там, где оканчивается вовсе живущий город, громадно воздымается он среди тысячелетних плющей, алоэ и открытых равнин необъятным Колизеем, триумфальными арками, останками необозримых цезарских дворцов, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полям; и уже не видит иноземец нынешних тесных его улиц и переулков, весь объятый древним миром: в памяти его восстают колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толпы поражается ухо…
Но не так, как иностранец, преданный одному Титу Ливию[289]289
Тит Ливий (59 г. до Р. X.-17 г.) – римский историк.
[Закрыть] и Тациту[290]290
Тацит (ок. 55 г. – ок. 120 г.) – римский историк.
[Закрыть], бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город, – нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век с толпящимся новым народонаселением. Ему нравилось это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и пустыни вместе: дворец, колонны, трава, дикие кусты, бегущие по стенам, трепещущий рынок среди темных, молчаливых, заслоенных снизу громад, живой крик рыбного продавца у портика, лимонадчик с воздушной, украшенной зеленью лавчонкой перед Пантеоном. Ему нравилась самая невзрачность улиц – темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города: отдыхавшее стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие на всем ясной, торжественной тишины, обнимавшей человека. Ему нравились эти беспрерывные внезапности, нежданности, поражающие в Риме. Как охотник, выходящий с утра на ловлю, как старинный рыцарь, искатель приключений, он отправлялся отыскивать всякий день новых и новых чудес и останавливался невольно, когда вдруг среди ничтожного переулка возносился пред ним дворец, дышавший строгим, сумрачным величием. Из темного травертина[291]291
Травертин – пористый известняк.
[Закрыть] были сложены его тяжелые, несокрушимые стены, вершину венчал великолепно набранный колоссальный карниз, мраморными брусьями обложена была большая дверь, и окна глядели величаво, обремененные роскошным архитектурным убранством; или как вдруг нежданно вместе с небольшой площадью выглядывал картинный фонтан, обрызгивавший себя самого и свои обезображенные мхом гранитные ступени; как темная грязная улица оканчивалась нежданно играющей архитектурной декорацией Бернини[292]292
Бернини Джованни (1598–1680) – итальянский скульптор, художник и архитектор.
[Закрыть], или летящим кверху обелиском, или церковью и монастырской стеною, вспыхивавшими блеском солнца на темнолазурном небе, с черными, как уголь, кипарисами. И чем далее вглубь уходили улицы, тем чаще росли дворцы и архитектурные созданья Браманта, Борромини[293]293
Борромини Франческо (1599–1667) – итальянский архитектор и скульптор.
[Закрыть], Сангалло[294]294
Сангалло – итальянские архитекторы Джулиано да Сангалло (1445–1516), Антонио да Сангалло Младший (1483–1546); последний – один из руководителей строительства собора Св. Петра (после Рафаэля и Б. Перуцци).
[Закрыть], Деллапорта[295]295
Деллапорт (Порта Джакомо делла; 1541–1608) – итальянский архитектор, завершавший в 1588–1590 гг. возведение купола собора Св. Петра.
[Закрыть], Виньолы[296]296
Виньола (Джакомо Бароццио; 1507–1573) – итальянский архитектор.
[Закрыть], Бонаротти, – и понял он наконец ясно, что только здесь, только в Италии, слышно присутствие архитектуры и строгое ее величие как художества. Еще выше было духовное его наслажденье, когда он переносился во внутренность церквей и дворцов, где арки, плоские столпы и круглые колонны из всех возможных сортов мрамора, перемешанные с базальтовыми, лазурными карнизами, порфиром, золотом и античными камнями, сочетались согласно, покоренные обдуманной мысли, и выше их всех вознеслось бессмертное создание кисти. Они были высоко прекрасны, эти обдуманные убранства зал, полные царского величия и архитектурной роскоши, везде умевшей почтительно преклониться пред живописью в сей плодотворный век, когда художник бывал и архитектор, и живописец, и даже скульптор вместе. Могучие созданья кисти, уже не повторяющейся ныне, возносились сумрачно пред ним на потемневших стенах, все еще непостижимые и недоступные для подражания. Входя и погружаясь более и более в созерцание их, он чувствовал, как развивался видимо его вкус, залог которого уже хранился в душе его. И как пред этой величественной, прекрасной роскошью показалась ему теперь низкою роскошь XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшенья магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов[297]297
…роскошь XIX столетия… выведшая на поле деятельности… кучи мастеровых и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микелъ-Анжело в… – Эта мысль была высказана Гоголем еще в «Арабесках» – в открывающей этот сборник статье «Скульптура, живопись и музыка» (1834; статья предполагалась Гоголем, в числе немногих, к переизданию в 1850–1851 гг.): «Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над которыми ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства». Об этом же Гоголь размышляет и в заключительной главе книги «Выбранные места из переписки с друзьями».
[Закрыть], низведшая к ремеслу искусство. Как низкою показалась ему эта роскошь, поражающая только первый взгляд и озираемая потом равнодушно, перед этой величавой мыслью украсить стены вековечным созданьем кисти, перед этой прекрасной мыслью владельца дворца доставить себе вечный предмет наслажденья в часы отдыха от дел и от шумного жизненного дрязга, уединившись там, в углу, на старинной софе, далеко от всех, вперя безмолвно взор и вместе со взором входя глубже душою в тайны кисти, зрея невидимо в красе душевных помыслов. Ибо высоко возвышает искусство человека, придавая благородство и красоту чудную движеньям души. Как низки казались ему пред этой незыблемой плодотворной роскошью, окружившею человека предметами движущими и воспитывающими душу, нынешние мелочные убранства, ломаемые и выбрасываемые ежегодно беспокойною модою, странным, непостижимым порожденьем XIX века, пред которым безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего, что колоссально, величественно, свято. При таких рассуждениях невольно приходило ему на мысль: не оттого ли сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый, низкий расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств? Иконы вынесли из храма – и храм уже не храм; летучие мыши и злые духи обитают в нем.
⠀⠀ ⠀⠀
Руины римской бани с прачками
Робер Юбер (1733–1808)
Масло, холст
Музей искусств Филадельфии

Чем более он всматривался, тем более поражала его сия необыкновенная плодотворность века, и он невольно восклицал: «Когда и как успели они это наделать!» Эта великолепная сторона Рима как будто бы росла перед ним ежедневно. Галереи и галереи, и конца им нет… И там, и в той церкви, хранится какое-нибудь чудо кисти. И там, на дряхлеющей стене, еще дивит готовый исчезнуть фреск. И там, на вознесенных мраморах и столпах, набранных из древних языческих храмов, блещет неувядаемой кистью плафон. Все это было похоже на скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей, знакомые одному только рудокопу. Как полно было у него всякий раз на душе, когда возвращался он домой; как было различно это чувство, объятое спокойной торжественностью тишины, от тех тревожных впечатлений, которыми бессмысленно наполнялась душа его в Париже, когда он возвращался домой усталый, утомленный, редко будучи в силах поверить итог их.
Теперь ему казалось еще более согласною с этими внутренними сокровищами Рима его неприглядная, потемневшая, запачканная наружность, так бранимая иностранцами. Ему неприятно было бы выйти после всего этого в модную улицу с блестящими магазинами, щеголеватостью людей и экипажей: это было бы чем-то развлекающим, святотатственным. Ему лучше нравилась эта скромная тишина улиц, это особенное выражение римского населения, этот призрак восемнадцатого века, еще мелькавший по улице то в виде черного аббата с треугольною шляпой, черными чулками и башмаками, то в виде старинной пурпурной кардинальской кареты с позлащенными осями, колесами, карнизами и гербами, – все как-то согласовалось с важностью Рима: этот живой, неторопящийся народ, живописно и покойно расхаживающий по улицам, закинув полуплащ или набросив себе на плечо куртку, без тягостного выраженья в лицах, которое так поражало его на синих блузах[298]298
Синие блузы – традиционная французская народная одежда.
[Закрыть] и на всем народонаселенье Парижа. Тут самая нищета являлась в каком-то светлом виде, беззаботная, незнакомая с терзаньем и слезами, беспечно и живописно протягивавшая руку; картинные полки монахов, переходившие улицы в длинных белых или черных одеждах; нечистый рыжий капуцин, вдруг вспыхнувший на солнце светловерблюжьим цветом; наконец, это населенье художников, собравшихся со всех сторон света, которые бросили здесь узенькие лоскуточки одеяний европейских и явились в свободных живописных нарядах; их величественные осанистые бороды, снятые с портретов Леонардо да Винчи и Тициана, так непохожие на те уродливые узкие бородки, которые француз переделывает и стрижет себе по пяти раз в месяц. Тут художник почувствовал красоту длинных волнующихся волос и позволил им рассыпаться кудрями. Тут самый немец с кривизной ног своих и бесперехватностью стана получил значительное выражение, разнеся по плечам золотистые свои локоны, драпируясь легкими складками греческой блузы или бархатным нарядом, известным под именем cinquecento[299]299
Cinquecento (ит.) – Чинквеченто, «пятисотые годы»; этим термином обозначается обычно творчество итальянских художников XVI в.
[Закрыть], которое усвоили себе только одни художники в Риме. Следы строгого спокойствия и тихого труда отражались на их лицах. Самые разговоры и мненья, слышимые на улицах, в кафе, в остериях, были вовсе противоположны или непохожи на те, которые слышались ему в городах Европы. Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных преньях, об испанских делах: тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров, раздавались споры и разногласья о выставленном произведении нового художника, толки о народных праздниках и, наконец, частные разговоры, в которых раскрывался человек, вытесненные из Европы скучными общественными толками и политическими мнениями, изгнавшими сердечное выражение из лиц.
Часто оставлял он город для того, чтобы оглянуть его окрестности, и тогда его поражали другие чудеса. Прекрасны были эти немые пустынные римские поля[300]300
…пустынние римские поля… – Имеется в виду римская Кампанья. «Кампаниею назывались в древности окрестности Капуи и Неаполя, теперешняя Terra di lavoro. Во время последних императоров имя Кампании получило более обширное значе? ние; Кампания обнимала почти весь Лациум. Отсюда произошло нынешнее имя значительной части древнего Лациума – Campagna di Роша. В отличие от древней Неаполитанской Кампании, эта новая Римская Campagna, соответствующая древнему Лациуму, может быть называема Кампаньей» (Древний Лациум и нынешняя Римская Кампанья//Московские Ведомости. 1852. 8 апр. № 43. С. 439).
[Закрыть], усеянные останками древних храмов, с невыразимым спокойством расстилавшиеся вокруг, где пламенея сплошным золотом от слившихся вместе желтых цветков, где блеща жаром раздутого угля от пунцовых листов дикого мака. Они представляли четыре чудные вида на четыре стороны. С одной – соединялись они прямо с горизонтом одной резкой ровной чертой, арки водопроводов казались стоящими на воздухе и как бы наклеенными на блистающем серебряном небе. С другой – над полями сияли горы; не вырываясь порывисто и безобразно, как в Тироле или Швейцарии, но согласными плывучими линиями выгибаясь и склоняясь, озаренные чудною ясностью воздуха, они готовы были улететь в небо; у подошвы их неслася длинная аркада водопроводов, подобно длинному фундаменту, и вершина гор казалась воздушным продолжением чудного зданья, и небо над ними было уже не серебряное, но невыразимого цвета весенней сирени. С третьей – эти поля увенчались тоже горами, которые уже ближе и выше возносились, выступая сильнее передними рядами и легкими уступами уходя вдаль. В чудную постепенность цветов облекал их тонкий голубой воздух; и сквозь это воздушно-голубое их покрывало сияли чуть приметные домы и виллы Фраскати, где тонко и легко тронутые солнцем, где уходящие в светлую мглу пылившихся вдали чуть приметных рощ. Когда же обращался он вдруг назад, тогда представлялась ему четвертая сторона вида: поля оканчивались самим Римом. Сияли резко и ясно углы и линии домов, круглость куполов, статуи Латранского Иоанна[301]301
…статуи Латранского Иоанна… – Имеется в виду старинная базилика Св. Иоанна в Латерано на окраине Рима, украшенная статуями Спасителя, Иоанна Предтечи, Отцов Церкви.
[Закрыть] и величественный купол Петра, вырастающий выше и выше по мере отдаленья от него и властительно остающийся, наконец, один на всем полгоризонте, когда уже совершенно скрылся весь город. Еще лучше любил он оглянуть эти поля с террасы которой-нибудь из вилл Фраскати или Альбано в часы захожденья солнца. Тогда они казались необозримым морем, сиявшим и возносившимся из темных перил террасы; отлогости и линии исчезали в обнявшем их свете. Сначала они еще казались зеленоватыми, и по ним еще виднелись там и там разбросанные гробницы и арки, потом они сквозили уже светлой желтизною в радужных оттенках света, едва выказывая древние остатки, и наконец, становились пурпурней и пурпурней, поглощая в себе и самый безмерный купол и сливаясь в один густой малиновый цвет, и одна только сверкающая вдали золотая полоса моря отделяла их от пурпурного, так же как и они, горизонта. Нигде, никогда ему не случалось видеть, чтобы поле превращалось в пламя, подобно небу. Долго, полный невыразимого восхищенья, стоял он пред таким видом[302]302
Долго, полный невыразимого восхищенья, стоял он перед таким видом… – П. В. Анненков и Ф. И. Иордан, общавшиеся с Гоголем в Риме, в своих воспоминаниях одинаково указывали на то, что описание в повести «Рим» вечерней «сияющей» панорамы римских окрестностей, открывающихся с террасы виллы в Альбано, возникло у писателя непосредственно под впечатлением от смерти молодого архитектора М. А. Томаринского, приехавшего в Рим в начале 1838 г. и скончавшегося здесь от скоротечной злокачественной лихорадки в мае-июне 1841-го (Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 75–76; Иордан Ф. И. Записки. М., 1918. С. 161). Гоголь оказался в Альбано именно после того, как, пережив сильное потрясение от смерти Томаринского, был увезен туда Анненковым (на похоронах Гоголь не присутствовал). По свидетельству Анненкова, позднее в Альбано приехали Иордан и А. А. Иванов; по воспоминаниям Иордана, они отправились туда все вместе: «…Гости, бывшие у меня вечером в день… похорон, П. В. Анненков, Н. В. Гоголь, А. А. Иванов… предложили мне поехать с ними за город, чтобы развлечься. Н. В. Гоголь, любуясь на чудный закат солнца, описание которого, вероятно, понадобилось ему для какого-нибудь из его произведений, не имея с собою ни пера, ни бумаги, видимо, старался запечатлеть в своей памяти представившуюся нам чудную картину»; Анненков при этом прямо указывал на соответствующее место в повести: «Долго, полный невыразимого восхищенья, стоял он перед таким видом…» и т. д. Описание «изумительного вида на Рим и всю его Кампанью» в лучах «пурпурного» заката, созерцаемого с горы Альбано, завершается в гоголевском «Риме» тем же образом, который был воплощен во второй редакции «Тараса Бульбы» в великолепной «картине католического богослужения». Это снова образ «веельзевула» – «повелителя мух», дополненный здесь упоминанием о болезни, от которой умер Томаринский: «…Потухали вмиг померкнувшие поля… огнистыми фонтанами подымались… мухи, и неуклюжее крылатое насекомое… известное под именем дьявола, ударялось… ему в очи. Тогда только он чувствовал, что наступивший холод южной ночи уже прохватил его всего, и спешил в городские улицы, чтобы не схватить южной лихорадки». Значимо для понимания настоящего образа и само место, описываемое Гоголем, – поля римской Кампаньи: именно здесь был похоронен Томаринский. Более того. Разговор о месте погребения Тома-ринского, состоявшийся между Гоголем и Иорданом, должен был еще раз заставить Гоголя задуматься о характере «чудного» обаяния католического Рима. «За обедом Ф. И. Иордан, сообщая несколько семейных подробностей о покойнике, заметил: “Вот он вместо невесты обручился с римской Кампанией”. – “Отчего с Кампанией?” – сказал Гоголь. “Да неимущих иноверцев хоронят иногда здесь просто в поле”. – "Ну, – воскликнул Гоголь, – значит надо приезжать в Рим для таких похорон”» (Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 78). Можно предположить, что после этого разговора Гоголь и наблюдал картину вечерней римской Кампании. См. также коммент. к с. 177 – Никакой гибкой пантере не сравниться с ней…
[Закрыть], и потом уже стоял так, просто, не восхищаясь, позабыв все, когда и солнце уже скрывалось, потухал быстро горизонт и еще быстрее потухали вмиг померкнувшие поля, везде устанавливал свой темный образ вечер, над развалинами огнистыми фонтанами подымались светящиеся мухи, и неуклюжее крылатое насекомое, несущееся стоймя, как человек, известное под именем дьявола, ударялось без толку ему в очи. Тогда только он чувствовал, что наступивший холод южной ночи уже прохватил его всего, и спешил в городские улицы, чтобы не схватить южной лихорадки.
Так протекала жизнь его в созерцаньях природы, искусств и древностей. Среди сей жизни почувствовал он, более нежели когда-либо, желание проникнуть поглубже историю Италии, доселе ему известную эпизодами, отрывками; без нее казалось ему неполно настоящее, и он жадно принялся за архивы, летописи и записки. Он теперь мог их читать не так, как итальянец-домосед, входящий и телом и душою в читаемые события и не видящий из-за обступивших его лиц и происшествий всей массы целого. Он теперь мог оглядывать все покойно, как из ватиканского окна. Пребыванье вне Италии, в виду шума и движенья действующих народов и государств, служило ему строгою поверкою всех выводов, сообщило многосторонность и всеобъемлющее свойство его глазу. Читая, теперь он еще более и вместе с тем беспристрастней был поражен величием и блеском минувшей эпохи Италии. Его изумляло такое быстрое разнообразное развитие человека на таком тесном углу земли, таким сильным движением всех сил. Он видел, как здесь кипел человек, как каждый город говорил своею речью, как у каждого города были целые томы истории, как разом возникли здесь все образы и виды гражданства правлений: волнующиеся республики сильных, непокорных характеров и полновластные деспоты среди их; целый город царственных купцов[303]303
…целый город царственных купцов… – Речь идет о Венеции, ставшей в XV в. одним из центров мировой торговли. В статье «О преподавании всеобщей истории» (1833) Гоголь писал: «…на юге возникает порождение крестовых походов – страшная торговлею Венеция, эта царица морей, эта чудная республика, с таким замысловатым и необыкновенно устроенным правлением. Все богатства Европы и Азии невидимо перешли в ее руки, и как папа религиозною властью, так Венеция непомерным богатством повелевала Европою». В 1204 г. по интригам Венеции крестоносцами был разрушен Константинополь. «…Со времени взятия Константинополя… начинается ее эпоха величия» (гоголевский конспект книги английского историка Г. Галлама «Европа в Средние века» 1830-х гг.)
[Закрыть], опутанный сокровенными правительственными нитями под призраком единой власти дожа; призванные чужеземцы среди туземцев; сильные напоры и отпоры в недре незначительного городка; почти сказочный блеск герцогов и монархов крохотных земель; меценаты, покровители и гонители; целый ряд великих людей, столкнувшихся в одно и то же время; лира, циркуль, меч и палитра; храмы, воздвигающиеся среди браней и волнений; вражда, кровавая месть, великодушные черты и кучи романических происшествий частной жизни среди политического общественного вихря и чудная связь между ими: такое изумляющее раскрытие всех сторон жизни политической и частной, такое пробуждение в столь тесном объеме всех элементов человека, совершавшихся в других местах только частями и на больших пространствах! И все это исчезло и прошло вдруг, все застыло, как погаснувшая лава, и выброшено даже из памяти Европою, как старый, ненужный хлам. Нигде, даже в журналах, не выказывает бедная Италия своего развенчанного чела, лишенная значенья политического, а с ним и влиянья на мир.
«И неужели, – думал он, – не воскреснет никогда ее слава? Неужели нет средств возвратить минувший блеск ее?» И вспомнил он то время, когда еще в университете, в Лукке, бредил он о возобновлении ее минувшей славы, как это было любимой мыслью молодежи, как за стаканами добродушно и простосердечно мечтала она о том; и увидел он теперь, как близорука была молодежь и как близоруки бывают политики, упрекающие народ в беспечности и лени. Почуял он теперь, смутясь, Великий Перст[304]304
…Великий Перст… – Реминисценция библейской Книги Исход, повествующей о египетских казнях: «И сказали волхвы фараону: это перст Божий» (гл. 8, ст. 19).
[Закрыть], пред ним же повергается в прах немеющий человек, – Великий Перст, чертящий свыше всемирные события. Он вызвал из среды ее же гонимого ее гражданина, бедного генуэзца, который один убил свою отчизну[305]305
…бедного генуэзца, который один убил свою отчизну… – Подразумевается Христофор Колумб (1451–1506). В статье «О преподавании всеобщей истории» Гоголь размышлял о судьбе Венеции:
«Духовный деспот (Римский папа. – И. В., В. В.) употреблял все силы убить ее торговлю, но все было напрасно – пока наконец генуэзский гражданин не убил ее открытием Нового Света».
[Закрыть], указав миру неведомую землю и другие широкие пути. Раздался всемирный горизонт, огромным размахом закипели движенья Европы, понеслись вокруг света корабли, двинув могучие северные силы. Осталось пусто Средиземное море; как обмелевшее речное русло, обмелела обойденная Италия. Стоит Венеция, отразив в адриатические волны свои потухнувшие дворцы, и разрывающей жалостью проникается сердце иностранца, когда поникший гондольер влечет его под пустынными стенами и разрушенными перилами безмолвных мраморных балконов. Онемела Феррара, пугая дикой мрачностью своего герцогского дворца. Глядят пустынно на всем пространстве Италии ее наклоненные башни и архитектурные чуда, очутясь среди равнодушного к ним поколенья. Звонкое эхо раздается в шумевших когда-то улицах, и бедный ветурин подъезжает к грязной остерии, поселившейся в великолепном дворце. В нищенском вретище очутилась Италия, и пыльными отрепьями висят на ней куски ее померкнувшей царственной одежды.








