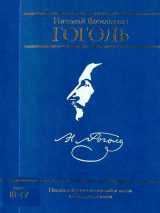
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том III. Повести. Том IV. Комедии"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 47 страниц)
После «Невского проспекта», «Носа», «Портрета» и «Шинели» следует у Гоголя «Коляска». Соседство «Шинели» и «Коляски» в третьем томе собрания гоголевских сочинений объясняется, как можно судить из их содержания, общей для них темой «экипирования» (выражение Гоголя), снаряжения человека – для удовлетворения естественных потребностей которого западная цивилизация создает предметы обольщающей и развращающей роскоши, прямо преступая при этом апостольскую заповедь: «…Попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13, 14).
В «Коляске» европейские соблазны петербургской жизни Гоголь показывает теперь на материале провинциальной действительности. Проникновение цивилизации в городок Б. – это и бритье бород «деревенским пентюхам» (мотив цирюльника в «Носе» и «синоним» петровских преобразований), и распространение в уезде карточной игры, и употребление самим местным «аристократом» Чертокуцким приданого жены на «вызолоченные замки к дверям («узнаваемые» по «Ночи перед Рождеством». – И. В.), ручную обезьяну для дома и француза дворецкого». Это и выписанные Чертокуцким для жены из Петербурга «спальные башмачки» (в чем также угадывается сюжет «Ночи перед Рождеством»), и, наконец, сам анекдот повести – «чрезвычайная коляска настоящей венской работы».
Замысел повести проясняют сходные мотивы в других гоголевских произведениях– упоминание в повести «Рим» об итальянце «сьоре Сервилио», который в преддверии карнавала «усадил все деньги на чудовищную скрипку… чтобы проехаться с нею по всем улицам…»; слова Хлестакова в комедии «Ревизор» о том, что «Иохим не дал напрокат кареты» («…а хорошо бы… приехать домой в карете… подкатить… к какому-нибудь соседу-помещику…»), реплика петербургского обывателя в драматическом «Отрывке»: «Может быть, на всем гулянье… одна или две такие коляски! Так обо мне везде заговорят». Герою «Коляски», подобно всем этим персонажам, тоже очень хочется блеснуть перед заезжими офицерами своей «просвещенностью» показать нечто, возвышающее его над серой (далеко не идеализируемой Гоголем) провинциальной средой. Знаком же такого отличия, своего рода «орденом» Чертокуцкого, и оказывается заграничная коляска. Тщеславие и эгоизм – «я», кроющееся за этим желанием, как бы и открывает Гоголь комическим финалом повести.
Вслед за «Коляской», изображающей плоды западного «просвещения» на русской провинциальной почве, Гоголь вновь обращается к петербургской действительности. «История болезни» тщеславия (по определению В. Г. Белинского) составляет содержание следующего произведения тома – «Записок сумасшедшего». Повесть эта также органически связана с осмыслением Гоголем европейской цивилизации как возбудителя низменных страстей человека – и прежде всего его эгоизма. Париж, где «один силился перед другим, во что бы то ни стало, взять верх, хотя бы на одну минуту» (как сказано в «Риме»), и Петербург, ставший со времен его основателя поприщем для всех неуемных честолюбцев, здесь же и воспитывающихся, в этом обнаруживают свое генетическое родство. Очевидно, по Гоголю, прорубленное «окно в Европу» оказалось для России не только соблазнительной витриной модного парижского магазина, через него шагнул в страну и сам европейский культ «человеческой гордости», потворство всем телесным и душевным страстям человека.
В таком осмыслении российской действительности Гоголь был не оригинален. «Дотоле от сохи до престола, – писал Н. М. Карамзин в своей известной «Записке о древней и новой России» (1811), – россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях; со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний» (Карамзин Н. М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях//Лит. учеба. М., 1988. № 4. С. 103).
Исследователи ставят «Записки сумасшедшего» в связь с незавершенной комедией Гоголя «Владимир 3-ей степени», где главную цель героя – петербургского чиновника – составляло получение ордена, дающего дворянское достоинство. (Напомним, что тема ордена, или знака отличия, была затронута Гоголем еще в «Вечерах…».) По словам того же Карамзина, продолжательница дела Петра Екатерина II «любовь к Святой Руси, охлажденную у нас переменами Великого Петра… хотела заменить гражданским честолюбием; для того соединила с чинами новые прелести, или выгоды, вымышляя знаки отличий, и старалась поддерживать их цену достоинством людей, украшаемых оными» (Там же. С. 107). Понятно, что с применением европейских средств европейский «идеал» в жизни России еще более возобладал. «У нас… до того дошло, – пишет Гоголь в «Театральном разъезде…», – что… если только иной не нагадит никому… то уже… сердится… если… не награждают его». «Аккуратный немец» Петербург, «на все глядящий с расчетом» («Петербургские записки 1836 года»), немецкий эгоизм (письма Гоголя к М. П. Балабиной от апреля 1838 года), французское «желание выказаться, хвастнуть, выставить себя» (повесть «Рим») – все эти гоголевские определения свидетельствуют, что «петербургские» по месту действия «Записки сумасшедшего» являются у Гоголя по существу и «европейскими» (что как бы подчеркнуто расположением этой повести в непосредственной близости к «Риму»); герой не случайно мыслит себя участником мировой политики.
Но не слишком ли пристрастными глазами смотрит Гоголь на Запад? На это следует сказать, что, помимо бесспорно реальноисторического происхождения многих негативных явлений русской жизни (активное западное влияние начиная с Петра I), Гоголь и всякий грех осмысляет как «иноплеменничий», – потому что грех действительно инороден душе. Если мы посмотрим на страдающих героев Гоголя, то можно заметить, что мученичество их заключается подчас именно в их рабстве этим «чужеземным врагам» – страстям. Это мученичество не ради Христа, а из приверженности к «врагу» – к миру и его соблазнам – постоянный предмет обличения в устах церковных пастырей. «Есть люди, – говорит св. Иоанн Златоуст в Беседах на Евангелие от Матфея, – которые, последуя диаволу… предают за него свои души; но мы терпим за Христа…» (беседа LV). Современник Гоголя, преосвященный Владимир (Алявдин), епископ Костромской и Галичский, также замечает: «Хотя миролюбцы и ненавидят Крест Христов, но и у них есть свои кресты» (Церковный год, или Собрание воскресных поучений, говоренных к народу Владимиром <Алявдиным>, епископом Костромским и Галичским, в 1835,1836 и 1837 годах, в Киеве и Костроме. СПб., 1838. Т. 1. С. 92). Об этом же размышляет и святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, в слове «Крест свой и Крест Христов»: «Смертоносен крест для тех, которые креста своего не преобразили в Крест Христов…» (Соч. епископа Игнатия Брянчанинова. СПб., 1905. Т. 1. С. 358).
Таким-то неразумным страдальцем и предстает у Гоголя неуемный честолюбец Поприщин в «Записках сумасшедшего». Повесть эта, как позволяет прочесть автограф, и называлась первоначально «Записки сумасшедшего мученика» (Виноградов И. Крест миролюбцев. К первоначальному названию повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего»//Лит. Россия. 1994. 18 марта. № 11. С. 14). «За что они мучат меня?., я не могу вынести всех мук их», – восклицает герой в заключение повести, когда, возомнив себя «испанским королем», оказывается в сумасшедшем доме. И мученичество, и сумасшествие героя, по Гоголю, прежде всего в его ненасытном и неутолимом честолюбии. Согласно дошедшим до нас воспоминаниям о содержании незавершенной комедии Гоголя «Владимир 3-ей степени» («Владимирский крест»), замысел которой ставится в прямую связь с «Записками сумасшедшего», – «голгофой» или «крестом» героя, снедаемого, как и герой «Записок…», неуемным честолюбием, становится здесь то, что от очередной неудачи получить крест Св. Владимира он сходит с ума и, воображая себя в последней сцене этим самым «Владимирским крестом», «становится перед зеркалом, подымает [растопыривает] руки (так что делает из себя подобие креста) и не насмотрится на свое изображение» (Афанасьев Л. Н. Отрывки из моей памяти и переписки //Михаил Семенович Щепкин: Жизнь и творчество. М., 1984. Т. 2. С. 153–154).
Финалу комедии «Владимир 3-ей степени» в этом смысле прямо соответствует и одна из ее сцен, в которой Гоголь изобразил как бы самое начало «болезни тщеславия». (Гоголь опубликовал сцену позднее, в 1842 году, отдельно, под названием «Тяжба».) Здесь герой, «сенатский обер-секретарь» Пролетов, читает в «Северной Пчеле» извещение о производстве чинов и получении наград знакомыми ему чиновниками, завидуя их успехам: «Право, досадно, что заглянул в газету, прочитаешь – чувствуешь тоску, гадость – и больше ничего». Чиновник «Тяжбы» – так же, как и герой «Записок сумасшедшего», – прямо напоминает в этом героя нравоучительной повести Ф. В. Булгарина «Три листка из дома сумасшедших, или Психическое исцеление неизлечимой болезни», напечатанной в 1834 году в «Северной Пчеле»: «Пациент мой читал “Сенатские Ведомости”. Глаза его налиты были кровью, щеки горели… “Посмотрите, доктор, можно ли после этого жить на свете!.. Вот люди, которых я знаю, как самого себя, люди, у которых нет столько ума и способности в башке, сколько у меня в мизинце!.. А вот один из них Начальником Отделения, другой Директором, третий Правителем Канцелярии… Все обвешены орденами!.. А я… я!..” Он не мог продолжать, бросил газету и… залился слезами!» (Б<улгарин> Ф. Три листка из дома сумасшедших, или Психическое исцеление неизлечимой болезни (Первое извлечение из Записок старого врача)//Северная Пчела. 1834. 15 февраля № 37. С. 147).
К «сумасшедшим мученикам» принадлежат, очевидно, у Гоголя и Акакий Акакиевич Башмачкин в «Шинели» (в отличие от подлинного христианского подвижника св. Акакия из сорока Севастийских мучеников), и Павел Иванович Чичиков из «Мертвых душ» – в его поистине самоотверженном «подвиге» стяжания. И «просвещенный» Хлестаков в одной из черновых редакций комедии, будучи голоден, но не желая расставаться с модным фраком, говорит самому себе: «…вот кладу крест (крестится)> если не буду играть между ними (провинциальными помещиками. – И. В) первую роль… Нет… лучше как-нибудь поголодаю». «.. Лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме», – замечает он в окончательной редакции.
Мученичество всего «цивилизованного» мира Гоголь тоже осмысляет как безумие. Сострадая к «тягостному выраженью в лицах синих блуз и всего народонаселения Парижа» (повесть «Рим»), он видит в этом прямое следствие рабства греху. В набросках к не дошедшим до нас главам второго тома «Мертвых душ» Гоголь, в частности, замечал: «Вот оно, вот оно, что значит, а не то, что нынешнее просвещение, которое превратило человека в машину…» Следует при этом заметить, что еще А. С. Пушкин в статье о А. Н. Радищеве писал: «Прочтите жалобы английских фабричных работников, волоса встанут дыбом от ужасу. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой, какая страшная бедность! Вы думаете, что дело идет о строении Фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет; дело идет о сукнах г-на Смидта, или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребление, не преступление, но происходят в строгих пределах закона… у нас нет ничего подобного». (Согласно строкам письма Гоголя к С. Т. Аксакову от 22 декабря (н. ст.) 1844 года эти пушкинские заметки, опубликованные впервые в 1841 году, стали известны ему еще в рукописи, то есть до отъезда за границу в июне 1836 года. Примечательно также, что изображение Гоголем в повести «Рим» «цивилизованного» Парижа во многом соответствует оценке Пушкиным парижской жизни в «Арапе Петра Великого».)
Только освобождение от рабства греху станет, по убеждению Гоголя, освобождением от египетского рабства, египетского труда и русского, и всех промышленных народов Европы. «Нищенство, – пишет Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», – есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища мира».
Материал, положенный Гоголем в основу последней, оставшейся незавершенной повести тома – «отрывка» «Рим», далеко превосходит ее конкретное, «бытовое» содержание. Едва ли не все темы, поднятые Гоголем в «петербургских» повестях, находят здесь свое если не окончательное, то во всяком случае более глубокое осмысление. В «Риме» Гоголь в художественной форме изложил самую концепцию развития новейшей европейской цивилизации.
В Рим привела Гоголя давняя юношеская мечта. Восхищением поэтической Италией, страной «вдохновенья», пронизано самое первое из опубликованных его произведений – стихотворение «Италия» (1829). Выехав в июне 1836 года с А. С. Данилевским из России, Гоголь расстался с ним в Ахене, чтобы ехать в Италию, однако ему это не удалось. «Мое намерение до того было провести зиму в Италии, – писал он 12 декабря (н. ст.) 1836 года В. А. Жуковскому. – Но в Италии бушевала холера страшным образом; карантины покрыли ее как саранча». В Рим Гоголь попал только в марте 1837 года, прожив зиму с Данилевским в Париже.
Сравнение Парижа и Рима в повести прямо восходит к этим первым заграничным впечатлениям Гоголя. И уже в этих впечатлениях неизменно присутствует «петербургская тема». 3 декабря (н. ст.) 1836 года Данилевский писал из Парижа школьным приятелям И. Г. Пащенко и Н. Я. Прокоповичу: «Из Парижа мы с Гоголем сделали совершенный Петербург: Итальянский бульвар называем Невским проспектом, Тюльери – Летним садом, Палерояль – Гостиным двором и прочее… “Славный собака Париж”, как говорит Гоголь…» (Лит. наследство. Т. 58. С. 555–556). Слово «собака» в украинском языке мужского рода.
Подобно своему будущему герою, римскому князю в повести «Рим», Гоголь сначала нашел в Париже даже некоторые достоинства. «Париж не так дурен, как я воображал, – писал он Жуковскому 12 ноября (н. ст.) 1836 года, – и, что всего лучше для меня: мест для гулянья множество – одного сада Тюльери и Елисейских полей достаточно на весь день ходьбы». Однако уже в то время о культурной жизни Парижа Гоголь отзывался критически. В письме к М. П. Погодину он замечал: «О Париже тебе ничего не пишу. Здешняя сфера совершенно политическая, а я всегда бежал от политики. Не дело поэта втираться в мирской рынок». Спустя три месяца проживания во французской столице, 25 января (н. ст.) 1837 года, Гоголь в письме к Прокоповичу подытоживал свои впечатления: «Париж город хорош для того, кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь. Но для таких людей, как мы с тобою, – не думаю, разве нужно скинуть с каждого из нас по 8 лет. К удобствам здешним приглядишься, тем более, что их более, нежели сколько нужно; люди легки, а природы, в которой всегда находишь ресурс и утешение, когда все приестся, – нет; итак, нет того, что бы могло привязать к нему мою жизнь. Жизнь политическая, жизнь, вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливцам праздным, как мы с тобою. Здесь все политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякий хлопочет, нежели о своих собственных. Только в одну жизнь театральную я иногда вступаю: итальянская опера здесь чудная!» (Последнее замечание Гоголь прямо повторит в «Риме», говоря о разочаровании Парижем своего героя: «Только в одну еще итальянскую оперу заходил он…») Спустя еще несколько месяцев, 3 июня (н. ст.), уже из Рима, Гоголь писал Прокоповичу о Данилевском: «Он больше человек современный, воспитанный на современной литературе и жизни; я больше люблю старое. Его тянет в Париж, меня гнетет в Рим». «…Как вам самой известно, – пишет Гоголь 15 марта (н. ст.) 1838 года М. П. Балабиной, – новизна не свойственна Риму, здесь все древнее: Рим, папа, церкви, картины. Мне кажется, новизна изобретена теми, кто скучает, но вы же знаете сами, что никто не может соскучиться в Риме, кроме тех, у кого душа холодна, как у жителей Петербурга, в особенности у его чиновников…» В то же время Данилевскому он сообщает: «Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам»; «Никаких мучительных желаний, влекущих вдаль, нет, разве проездиться в Семереньки, то есть в Неаполь, и в Толстое, то есть во Фраскати или в Альбани… “Современник” (петербургский журнал, основанный Пушкиным. – И. В) в Риме не получается и даже ничего современного» (письма от 15 апреля (н. ст.) 1837 года и от 23 апреля (н. ст.) 1838-го).
О том, что представлял собой Рим в годы, когда в нем проживал Гоголь, нашедший здесь почти «монастырское» уединение от «цивилизованной» жизни и Петербурга и Парижа, можно судить по многочисленным свидетельствам гоголевских современников. П. В. Анненков, встречавшийся с Гоголем в Риме весной 1841 года, в частности, писал: «…Всякий заехавший в Рим совершенно отделяется от современности, забывает газеты, Европу, открытия и предается воспоминаниям истории и искусства: другого нет разговора, как статуя, картина, новая находка в этой земле, до сих пор еще наполненная шедеврами древних… Но это не китайское отъединение от всеобщей жизни, а что-то торжественное и высокое, как загородный дом, где работал великий человек» (Анненков П. В. Письма из-за границы. С. 27, 29). Эти строки почти совпадают с описанием Гоголем римской жизни в его повести: «Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных преньях, об испанских делах: тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров…»
«Что теперь Рим?.. – писал в те же годы М. С. Волков. – Город… беспрестанно убывающий, разрушающийся, покидаемый, пустеющий. В нем есть только прошедшее, а настоящего нет ничего. Душа его – в картинах, статуях и зданиях» (Отрывки из заграничных писем (1844–1848) Матвея Волкова. СПб., 1857. С. 129). «Развалина материальная, развалина духовная – вот что был Рим в 40-х годах…»– свидетельствовала А. О. Смирнова (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 50).
По словам Анненкова, Рим, «под управлением папы Григория XVI, обращен был официально и формально только к прошлому… Последующие события доказали, что народ не был сохранен от постороннего влияния, и подтвердили… старую истину, что государство, находящееся в Европе, не может убежать от Европы…. Гоголь знал это, но встречал явление с некоторой грустью… Видно было, что утрата некоторых старых обычаев, прозреваемая им в будущем… поражала его неприятным образом» (Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 67–68). В повести «Рим» Гоголь писал об итальянском народе: «Европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования. Самое духовное правительство, этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния…» П. В. Анненков сообщал, в частности, о прогулках с Гоголем в окрестностях Рима летом 1841 года: «…мы проезжали уединенные римские поля и были в горах… в городах, которые лепятся на вершинах скал, к которым нет дорог и где только один способ сообщения известен: это верхом на осле. В этих городах встретили мы народонаселение совершенно дикое, едва знающее употребление монеты и, кажется, только сейчас вышедшее из первого состояния человека естественного, a la Rousseau <по Руссо; фр.>. И это рядом с Римом! Да что! В Сабинских горах есть еще деревни, где говорят по-латыни! Но со всем тем нельзя же даром жить на классической почве; как нынче, так и за несколько веков, люди и народы, приходившие в Рим, всегда уносили еще что-нибудь, кроме богатства его. Это моральное влияние Рима на народ, теперь обитающий около него…» (Анненков П. В. Письма из-за границы. С. 30–31).
Подобного рода размышления можно найти и в статьях Гоголя, относящихся еще к 1830-м годам, – в частности, в одной из его лекций по истории Средних веков, прочитанных в Петербургском университете. Здесь Гоголь, в частности, замечал, что в конце VII века «начался переход ломбардов к некоторой образованности. Была принята христианская вера… показалась всеобщая наклонность к земледелию… Развалины древней Италии покрылись пажитями, особенно в соседстве монастырей…» («Состояние Италии под владычеством готов…»).
Очевидно, что при отсутствии у Гоголя, по его собственному признанию, «влечения и страсти к чужим краям», при отсутствии у него также и «того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений» («Авторская исповедь»), любовь Гоголя к Италии можно объяснить именно этой, сходной с русским провинциальным бытом, удаленностью итальянской жизни от развращающих новшеств европейской цивилизации – ее почти «монастырским» патриархальным укладом (это неизменно поражало Гоголя в Риме – этом всемирном «городе музее», полном древних памятников и православных святынь). (Много позднее дочь Ф. М. Достоевского, Любовь Федоровна, в частности, замечала: «Русские, путешествующие в Италии, бывают порой поражены, встречая в Центральной Италии тот же крестьянский тип, что и в России. Тот же мягкий и терпеливый взор, то же чувство отрешенности. Одежда, вид, манера повязывать на голову платок – совпадают полностью. Поэтому русские так сильно любят Италию. Мы смотрим на нее как на свою вторую родину»; Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 1997. С. 175–176.)
Однажды, рассказывал Анненков о своем общении с Гоголем в Риме, «мы успели сделать целым обществом прогулку в Сабинских горах… Гоголь нам не сопутствовал, он оставался в Риме и потом весьма пенял на леность, помешавшую ему присоединиться к странническому каравану. Особенно сожалел он, что лишился удобного случая видеть те бедные римские общины, которые еще в Средние века поселились на вершинах недоступных гор, одолеваемых с трудом по каменистой тропинке привычным итальянским ослом…. Многие живут там и доселе, связываясь с государством только посредством сборщика податей и местного аббата, их всеобщего духовника… Как совершеннейшее проявление той естественной, непосредственной жизни, которую так высоко ценил Гоголь, они действительно заслуживали внимания его, особенно если вспомнить истинно живописные стороны, какими они, надо сказать правду, обладают в изобилии» (Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 84–85).
Особенное впечатление производили на Гоголя окрестности Рима – римская Кампанья – местность, которая напоминала писателю родную Малороссию и которая еще в начале XX века придавала Риму особый, «вечный» характер, отличавший этот город от всех других европейских городов, о чем, в частности, можно судить по одному из позднейших свидетельств: «Окруженный Кампаньей, Рим мало принадлежит современной Италии, современной Европе. Истинный дух Рима не умрет до тех пор, пока вокруг него будет простираться эта легендарная страна. Никакие принадлежности европейской столицы не сделают его современным городом, никакие железные дороги не свяжут его с нынешней утилитарной культурой» (Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 277).
Отметим, в частности, что описание римской Кампаньи в гоголевском «Риме» прямо напоминает изображение вечерней украинской степи и «величественного зрелища» догорающих окрестностей Дубно во второй и четвертой главах первой редакции «Тараса Бульбы» (1835). 1 марта 1845 года А. О. Смирнова писала Гоголю о его жизни в Риме: «Вы как-то сжились с ним. Да, там иногда даже веет Малороссией, в тишине и пространстве Кампании, особенно при захождении солнца» (Северный Вестник. 1893. № 1. С. 246–247). Это же замечание А. О. Смирнова высказывала ранее в письме к В. А. Жуковскому от 20 апреля 1843 года из Рима, куда она приезжала по просьбе Гоголя: «Люблю Рафаэля, люблю и Петра и Ватикан, но особенно влечет меня в Campagna di Roma. Там есть какая-то неизъяснимая прелесть, и, не знаю почему, воспоминается что-то родное, вероятно, степь южной России, где я родилась. Мы часто с Гоголем там бродим…» (Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929. С. 332). За несколько лет перед тем это сравнение Италии с Малороссией было сделано самим Гоголем в его письмах, где, кстати, Рим довольно часто противопоставляется Петербургу: «Я родился здесь. – Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – всё это мне снилось. Я проснулся опять на родине…» (письмо к В. А. Жуковскому от 30 октября (н. ст.) 1837 года); «Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я… Опять то же небо, то всё серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колизея…» (письмо к М. П. Балабиной от апреля 1838 года).
Сияющее небо Италии Гоголь также прямо сравнивал с родным украинским небом – и в свою очередь противопоставлял его туманной петербургской атмосфере. В письме к И. И. Дмитриеву от июля 1832 года из Васильевки он писал: «В дороге занимало меня одно только небо, которое, по мере приближения к югу, становилось синее и синее. Мне надоело серое, почти зеленое северное небо, так же как и те однообразно печальные сосны и ели, которые гнались за мною по пятам от Петербурга до Москвы». С этими строками перекликаются размышления Гоголя в «Невском проспекте» о судьбе петербургских художников: «Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо… У них всегда почти на всем серенький мутный колорит – неизгладимая печать севера». (Напомним, в частности, и описание украинского неба – «голубого неизмеримого океана, сладострастным куполом нагнувшегося над землею» – в «Сорочинской ярмарке».) Примечательны также воспоминания С. Т. Аксакова о разговоре Гоголя 13 ноября 1839 года с Г. И. Карташевским (многие годы своей служебной деятельности посвятившим борьбе с латинским влиянием в западнорусском крае) и об отзыве последнего о Гоголе: «После обеда Гоголь долго говорил с Григорием Ивановичем об искусстве… и характере малороссийской поэзии… И какой же вышел результат? Григорий Иванович… начал бранить его зато, что он предался Италии» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 106).
По словам Анненкова, «на даче княгини 3. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой», Гоголь «ложился спиной на аркаду… и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью» (Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 70). А. П. Стороженко, встретившийся с Гоголем на Украине в 1820-х годах – в то время, когда будущий писатель еще учился в Нежинском лицее, – тоже вспоминал, как тот любил подолгу смотреть в безоблачное небо. «Ударьте лихом об землю, – говорил Гоголь, ложась на спину, – раскиньтесь вот так, как я, поглядите на это синее небо, то всякое сокрушение спадет с сердца и душа просветлеет… В этом положении… в уме зарождаются мысли высокие, идеи светлые… Примите к сведению и на будущее время, глядите на небо, чтоб сноснее было жить на земле» (Стороженко А. П. Воспоминание//Отечественные Записки. 1859. № 4. С. 80–81). А. О. Смирнова в свою очередь вспоминала о прогулках с Гоголем в Риме: «…Он… обыкновенно шел один поодаль от нас, подымал камушки, срывал травки или, размахивая руками, попадал на кусты и деревья… ложился навзничь и говорил: “Забудем все, посмотрите на это небо”, – и долго, задумчиво и вместе весело он глядел на это голубое, безоблачное, ласкающее небо» (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 32, 51). «Когда спрашивали, отвечал: “Зачем говорить? Тут надобно дышать, дышать, втягивать носом этот живительный воздух и Бога благодарить, что столько есть прекрасного на свете”» (Там же. С. 38. См. также: <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1856. Т. 2. С. 4). В <Письме из Рима к редактору журнала «Современник» П. А. Плетневу>, предполагавшемся Гоголем в 1838 г. к публикации (см. в т. 7 наст, изд.), он писал: «Я не знаю, где бы лучше могла быть проведена жизнь человека, для которого пошлые удовольствия света не имеют много цены… Притянет солнце (а оно глядит каждый день) – и ничего уже более не хочешь; кажется, ничего уже не может прибавиться к вашему счастию. А если случится, что нет солнца (что бывает так же редко, как в Петербурге солнце), то идите по церквам. На каждом шагу и в каждой церкви чудо живописи, старая картина, к подножию которой несут миллионы людей умиленное чувство изумления. Но небо, небо!.. Вообразите, иногда проходят два-три месяца, и оно от утра до вечера чисто, чисто – хоть бы одно облачко, хотя бы какой-нибудь лоскуточек его!»
Имея в виду утешительное воздействие итальянской природы и древних римских памятников, Гоголь 14 апреля (н. ст.) 1839 года писал А. С. Данилевскому: «Если есть на свете место, где страдания, горе, утраты и собственное бессилие может позабыться, то это разве в одном только Риме». «Он сам мне говорил, – вспоминала А. О. Смирнова, – что в Риме, в одном Риме он мог глядеть прямо в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления» (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 50). Гоголь пояснял это состояние строками элегии Е. А. Баратынского «Разуверение» (1821): «Друг попечительный, больного/В дремоте сладкой не тревожь!» (письмо к Н. Я. Прокоповичу от 3 июня (н. ст.) 1837 года). Гоголь глубоко переживал в то время смерть А. С. Пушкина.
По преданию, вернувшись однажды из Колизея, Гоголь раскрыл молитвенник «на молитве св. Ефрема Сирина, что так чудно Пушкин переложил в стихи» («Отцы пустынники и жены непорочны…», 1836), – и с тех пор уже не оставлял ее, читая ее утром и вечером (Записки А. О. Смирновой. СПб., 1895. Т. 2. С. 77). Помимо А. О. Смирновой, высокий духовный настрой и религиозность отмечали у Гоголя во время его пребывания в Риме в конце 1830-х – начале 1840-х годов и другие современники: И. Ф. Золотарев, Ф. И. Чижов, Г. П. Галаган.
В «Петербургских записках 1836 года» (начатых в Петербурге и законченных зимой 1836/37-го в Париже) Гоголь сопоставляет «полунемецкий» Петербург с самобытной (и старобытной) Москвой почти так же, как «цивилизованные» Петербург и Париж, с патриархальными Малороссией и Италией. В этих записках встречается и прямое упоминание об Италии, куда отправился Гоголь из Парижа: «Весело тому, у кого в конце петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа, или озера Швейцарии, или увенчанная анемоном и лавром Италия, или прекрасная и в пустынности своей Греция…» «Петербург самый новый из всех городов, а Рим самый старый», – замечал позднее Гоголь в письме к сестрам из Рима 28 апреля (н. ст.) 1838 года. Примечательно, что, встретившись в конце 1839 года в Петербурге с В. Г. Белинским, переехавшим сюда на постоянное жительство из Москвы, Гоголь, по свидетельству самого критика, «всё с ироническою улыбкою» спрашивал его, как ему понравился Петербург (Белинский В. Г. – Боткину В. П. 22 ноября 1839 г. Петербург//Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 291). С другой стороны, Гоголь выговаривал К. С. Аксакову: «Вы умели сделать смешным самый святой предмет… пристегивая сбоку припеку при всяком случае Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство… Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: Не приемли имени Господа Бога твоего всуе?» (письмо от ноября 1842 года).








