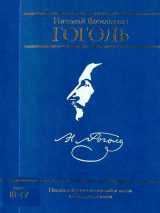
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том III. Повести. Том IV. Комедии"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 47 страниц)
После слов. «Ну, а что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас?» (С. 492). – Сост.
[Закрыть]
Семен Семеныч. Что, что, Михал Михалыч, что вы говорите, какой душевный город?
Михал Михалч. Мне так показалось. Мне показалось, что это же душевный город, что последняя сцена представляет последнюю сцену жизни, когда совесть заставит взглянуть вдруг на Самого себя во все глаза и испугаться самого себя. Мне показалось, что этот настоящий ревизор, о котором одно возвещенье в конце комедии наводит такой ужас, есть та настоящая наша совесть, которая встречает нас у дверей гроба. Мне показалось, что этот ветреник Хлестаков, плут, или как хотите назвать, есть та поддельная ветреная светская наша совесть, которая, воспользовавшись страхом нашим, принимает вдруг личину настоящей и дает себя подкупить страстям нашим, как Хлестаков чиновникам, – и потом пропадает, так же, как он, неизвестно куда. Мне показалось, что это безотрадно печальное окончание, от которого так возмутился и потрясся зритель, предстало перед меня в напоминанье, что и жизнь, которую привыкаем понемногу считать комедией, может иметь такое же печально-трагическое окончание. Мне показалось, как будто вся комедия совокупностью своею говорит мне о том, что следует вначале взять того ревизора, который встречает нас в конце, и с ним так же, как правосудный государь ревизует свое государство, оглядеть свою душу и вооружиться так же против страстей, как вооружается Государь противу продажных чиновников, потому что они так же крадут сокровища души нашей, как те грабят казну и достоянье государства, – с настоящим ревизором: потому что лицемерны наши страсти, и не только страсти, но даже малейшая пошлая привычка умеет так искусно подъехать к нам и ловко перед нами изворотиться, как не изворотились перед Хлестаковым проныры чиновники, так что готов даже принять их за добродетели, готов даже похвастаться порядком душевного своего города, не принимая и в мысль того, что можешь остаться обманутым, как городничий. Мне так показалось.
Петр Петрович. Михал Михалч! Все то, что вы говорите, красноречиво; но где здесь вы нашли подобие? Какое сходство Хлестакова с ветреной светской совестью или настоящего ревизора с настоящей совестью? Николай Николаич! скажите мне поистине: находите вы здесь какое-нибудь сходство?
Николай Николаич. Признаюсь, никакого.
Семен Семеныч. И я тоже; как ни таращу свои глаза, но ничего не вижу.
Федор Федорыч. Сознаюсь вам, Михал Михалыч, откровенно: несмотря на то, мысль недурна и могла бы послужить даже предметом сочиненья художественного; но я не думаю, чтобы автор ее имел в виду.
Николай Николаич(решительно). Вздор! Он и в помышленье этого не имел!
Михал Михалч. Да разве я вам говорю, что автор имел ее в виду? Я вам вперед сказал: «Автор не давал мне ключа, я вам предлагаю свой». Автор, если бы даже и имел эту мысль, то и в таком случае поступил бы дурно, если бы ее обнаружил ясно. Комедия тогда бы сбилась на аллегорию, могла бы из нее выйти какая-нибудь бледная, нравоучительная проповедь. Нет, его дело было изобразить просто ужас от беспорядков вещественных не в идеальном городе, а в том, который на земле, – собрать в кучку все, что есть похуже в нашей земле, чтобы его поскорей увидали и не считали бы этого за то необходимое зло, которое следует допустить и которое так же необходимо среди добра, как тени в картине. Его дело изобразить это темное так сильно, чтобы почувствовали все, что с ним надобно сражаться, чтобы кинуло в трепет зрителя – и ужас от беспорядков пронял бы его насквозь всего. Вот что он должен был сделать. А это уж наше дело выводить нравоученье. Мы, слава Богу, не дети. Я подумал о том, какое нравоученье могу вывести для самого себя, и напал на то, которое вам теперь рассказал.
Петр Петрович. Михал Михалч! Комедия пишется для всех. Из нее должны вывести нравоученье все, – нравоученье ближайшее, доступное всем, а не то отдаленное, которое может вывести для себя какой-нибудь оригинальный, не похожий на прочих человек. Спрашиваю: зачем этого нравоучения никто не вывел, а только одни вы?
Николай Николаич(поспешно). Именно! вот настоящий вопрос! Разрешите-ка прежде это: зачем одни вы это вывели, а не все?
Семен Семенч. Да, Михал Михалч, зачем одни вы это вывели? Зачем одни вы это вывели?
Михал Михалч. Во-первых, почему вы знаете, что это нравоученье вывел один я? А во-вторых, почему вы считаете его отдаленным? Я думаю, напротив, ближе всего к нам собственная наша душа. Я имел тогда в уме душу свою, думал о себе самом, потому и вывел это нравоученье. Если бы и другие имели в виду прежде себя, вероятно, и они вывели бы то же самое нравоученье, какое вывел и я. Но разве всяк из нас приступает к произведенью писателя, как пчела к цветку, затем, чтоб извлечь из него нужное себе? Нет, мы ищем во всем нравоученья для других, а не для себя. Мы готовы ратовать и защищать все общество, дорожа заботливо нравственностью других и позабывши о своей. Ведь посмеяться мы любим над другими, а не над собой; увидеть недостатки ведь мы любим в других, а не в себе. Как бы то ни было, но взгляните: три тысячи ведь людей пришло в театр; все знают, что пришли затем, чтобы посмеяться, и всякий из этих трех тысяч уверен, что придется над другим посмеяться, а не над ним. Малейший намек, что он может быть похож сам на того, над кем посмеялся, может привести его в гнев, и он готов уже в бешенстве повторять: «Да разве у меня рожа крива?»
Семен Семенч. Михал Михалч, я говорю не в том смысле…
Михал Михалч (прерывая). Позвольте, Семен Семенч! Вы человек благородный, человек истинно русский в душе, человек, наконец, который глядит уже глазами христианина на жизнь, – зачем вы произносите речи, противные вашему собственному образу мыслей? Прежде всего, зачем вы всякий раз позабываете, что предмет комедии и вообще сатиры не достоинство человека, а презренное в человеке; что чем больше она выставила презренное презренным, чем больше им возмутила и привела от него в содроганье зрителя, тем больше она выполнила свое значение. Зачем вы всякий раз это позабываете и всякий раз хотите сатире навязать предметы, приличные трагедии? Нет, кто хочет нравоученья, тот возьмет его себе; кто глядит в душу себе, тот из всего возьмет то, что нужно: тот и в этом вещественном городе увидит душевный свой город; тот увидит, что с большей силой следует вооружиться против лицемерия. Тот увидит, увидит, что и дело лежит здесь. Нет, оставьте сатиру в покое: она дело свое делает. Дурного не следует щадить, где бы оно ни было. Но если хотите уж поступить христиански, обратите ту же сатиру на самого себя и примените всякую комедию к себе, прежде чем замечать отношенье ее к целому обществу. Уж ежели действовать по-христиански, так всякое сочиненье, где ни поражается дурное, следует лично обратить к самому себе, как бы оно прямо на меня было написано. Вы сами знаете, что нет порока, замеченного нами в другом, которого хотя отраженья не присутствовало бы и в нас самих, – не в таком объеме, в другом виде, в другом платье, поприличней и поблагообразней, принарядившись, как Хлестаков. Чего не отыщешь, если только заглянешь в свою душу с тем неподкупным ревизором, который встретит нас у дверей гроба! Сами это знаем, а знать не хочем! «Кипит душа страстями», – говорим всякий день, а гнать не хочем. И бич в руках, данный на то, чтобы гнать их.
Семен Семенч. Да где ж бич? Какой бич?
Михал Михалч. А смех разве не бич? Или, думаете, даром нам дан смех, когда его боится и последний негодяй, которого ничем не проймешь, его боится даже и тот, кто ничего не боится? Значит, он дан на доброе дело. Скажите: зачем нам дан смех? затем ли, чтобы так, попусту смеяться? Если он дан нам на то, чтобы поражать им все, позорящее высокую красоту человека, зачем же прежде всего не поразим мы то, что порочит красоту собственной души каждого из нас? Зачем не обратим его вовнутрь самих себя, не изгоняем им наших собственных взяточников? Зачем один намек о том, что вы над собой смеетесь, может привести во гнев?.. Как бы то ни было, но всякая страсть, всякая низкая наклонность наша все-таки хочет сыграть сколько-нибудь благородную роль, принять благородную наружность и только под этой личиной пробирается нам в душу, потому что благородна наша природа и не допустит ее к себе в бесстыдной наготе. Но, поверьте, когда выставишь перед самим собой ее на смех и, не пощадя ничего, поразишь так, что от стыда весь сгоришь, не зная куда скрыть собственное лицо свое, – тогда эта страсть не посмеет остаться в душе нашей и убежит, так что и следа ее не отыщешь.
Семен Семенч. Признаюсь, ваши слова заставили меня задуматься. Вы думаете, возможен этот поворот смеха на самого себя, противу собственного лица?
Петр Петрович. Я думаю только, что это возможно для человека, который почувствовал благородство природы человека и омерзенье к своим недостаткам.
Михал Михалч. Я думаю, только, что если он сверх того и русский в душе, тогда ему возможней. Согласитесь: смех у нас есть у всех; свойство какого-то беспощадного сарказма разнеслось у нас даже у простого народа. Есть также у нас и отвага оторваться от самого себя и не пощадить даже самого себя. Стало быть, у нас скорее может быть возможен поворот смеха на его законную дорогу. Опровергните меня, докажите мне, что я лгу, уничтожьте, разрушьте убежденье мое, и вместе с тем разрушьте уже и меня, бедного скомороха, который живет этим убежденьем, который испробовал на собственном своем теле. Семен Семеныч, разве у меня не такая же русская кровь, как и у вас? Разве я могу почувствовать в мои высшие минуты иное что, как не то же, что способны почувствовать и вы в такие? Разве я не стою теперь перед вами в мою высшую минуту? Служба моя кончилась; я схожу с театра, на котором служил двадцать лет. Вы сами меня увенчали венками, сами меня растрогали. Вы сами меня почти вынудили сказать то, что я теперь сказал. Смотрите же: я плачу. Комический актер, я прежде смешил вас, – теперь я плачу. Дайте же мне почувствовать, что и мое поприще так же честно, как и всякого из вас; что я также служил земле своей, что не пустой я был скоморох, но честный чиновник великого Божьего государства и возбудил в вас не тот пустой смех, которым пересмехает человек человека, но смех, родившийся от любви к человеку. Николай Николаич! Федор Федорыч! Семен Семеныч, и вы, все товарищи, с которыми делил я время труда, время наставительных бесед, от которых я многому поучился и с которыми расстаюсь теперь! Друзья! публика любила талант мой, но вы любили меня самого. Отнимите, отнимите после меня этот смех, – отнимите у тех, которые обратили его в кощунство над всем, не разбирая ни хорошего, ни дурного! Говорю вам: верьте этим словам, которые говорит душа впервые в свою жизнь. Он добр, он честен, этот смех. Он дан именно на то, чтобы уметь посмеяться над собой, а не над другим. И в ком уж нет духа посмеяться над собственными недостатками своими, лучше тому век не смеяться!.. Иначе смех обратится в клевету, и, как за преступленье, даст он за него ответ!..
Послесловие
Пьеса под заглавием «Заключенье Ревизора» предназначалась в прощальный бенефис одному из лучших актеров нашего театра. А потому не мешает помнить, что Первый комический актер, который есть главное лицо в этой комедии, взят в ту минуту, когда, прослуживши законное число лет, сходит он со сцены, прощаясь навсегда с публикою, которую занимал так долго, и с товарищами, которым уж больше не товарищ.
Комментарии

Том IIIВозникновение в творчестве Гоголя «петербургской темы» связано с самыми первыми впечатлениями писателя от северной столицы, полученными по приезде в Петербург в конце 1828 года. Впервые образ Петербурга появляется у Гоголя в 1831 году в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Блестящий, «весь в огне» город Петра I и Екатерины II, город, полный диковинных, «растущих из земли» многоэтажных домов, «чудных» роскошных «бричек со стеклами», изображен в двух повестях этого цикла – «Пропавшей грамоте» и «Ночи перед Рождеством». Однако, хотя в ранних повестях Гоголем уже были намечены многие черты, которые нашли впоследствии развернутое воплощение в его так называемом «петербургском» цикле – цикле из пяти повестей, посвященных изображению петербургской жизни, – в самых первых «малороссийских» произведениях Гоголя взгляд его на Петербург – это во многом взгляд «со стороны». Понадобилось еще два года, чтобы пережитый опыт был основательно осмыслен и приобрел соответствующую художественную форму. Вплотную к освоению «петербургской темы» Гоголь приступает лишь в 1833 году.
Определенную роль в этом сыграло многолетнее общение Гоголя в Петербурге с А. С. Пушкиным и князем В. Ф. Одоевским, которые, в свою очередь, уделили в своих произведениях значительное внимание теме северной столицы. Именно Пушкин в конце 1820-х – начале 1830-х годов явился предшественником Гоголя и Одоевского в разработке темы «демонического» Петербурга.
«Петербургские» повести Гоголя – «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего» – часто рассматривают как отдельный цикл, посвященный северной столице. Между тем сам Гоголь такой цикл в своем творчестве не выделял. Как в сборнике «Арабески» (1833), где впервые были напечатаны некоторые из его «петербургских» повестей (среди ряда других художественных и публицистических произведений), так и в третьем томе прижизненного собрания сочинений 1842 года, куда они были впоследствии помещены (вместе с двумя «непетербургскими» повестями – «Коляска» и «Рим»; том этот назван просто: «Повести»), тема Петербурга предстает у Гоголя как неотъемлемая часть размышлений над мировой и отечественной историей: она дается на чрезвычайно широком историческом и культурном фоне. Главными составляющими этого фона являются, с одной стороны, западноевропейская действительность – в ее прошлом и настоящем, с другой – прошлое и настоящее самой России (и в частности, Малороссии). Изображение северной столицы органично входит в более широкую, объединяющую все повести, тему мировой цивилизации в отношении к традиционной культуре России. Объясняется и место повестей в составе собрания сочинений. Если в первом и втором томах («Вечера…» и «Миргород») изображалась патриархальная Малороссия, то теперь объектом внимания автора становится «цивилизованное» общество – будь то Париж (повесть «Рим»), Петербург («Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего») или русский провинциальный городок («Коляска»).
Как единый цикл повести третьего тома «Сочинений» Гоголя требуют соответствующего – учитывающего их идейно-тематическое единство – рассмотрения. Центральная идея завершающего, «итогового», произведения тома, повести «Рим», – противопоставление Парижа и Италии, европейской цивилизации и европейской культуры, ремесла и искусства. Это противопоставление находит себе соответствие сразу в двух «петербургских» повестях Гоголя, появившихся ранее в «Арабесках», – в «Невском проспекте» и «Портрете».
Согласно размышлениям Гоголя, воплощенным в «Риме», ремесленная цивилизация Парижа, потворствуя низменным инстинктам человека, несет миру нравственное растление и одичание и тягостный беспросветный труд по производству предметов роскоши и «цивилизованного» комфорта. «Божественные искусства» Италии, напротив, способны, по мнению Гоголя, избавить человека от этого духовного и физического рабства. Герой «Портрета», молодой художник, стоит именно перед таким – изображенным в антитезе Италии и Парижа – выбором: он волен выбрать между искусством и ремеслом. То же самое можно сказать и о красавице «Невского проспекта», «искусство» которой – служить вдохновляющей, стремящей человека силой, его «небесным звонком» («…Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами…» – заметит позднее Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»), а «ремесло» так же далеко от ее назначения, как ремесленник Шиллер из того же «Невского проспекта» от Шиллера-поэта…
Тут необходимо оговориться. Художник Пискарев в «Невском проспекте» сравнивает свою красавицу с Мадонной Перуджино – и сам Гоголь любил этого итальянского художника, так что, будучи в Риме, даже возмущался суждениями живописца М. К. Дмитриева, называвшего «школу Перуджино les primitifs» (примитивной фр.) (свидетельство Ольги Николаевны Смирновой, дочери старой приятельницы Гоголя Александры Осиповны Смирновой) (Шенрок В. И. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснения инициалов и других сокращений в издании Кулиша. М., 1886. С. 40). «…Он любил Перуджино, из Ранционгли», – вспоминала о Гоголе сама А. О. Смирнова (цит. по автографу: Российская государственная библиотека (далее – РГБ). Ф. 474. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 3 об.; упоминание об отношении Гоголя к П. Перуджино в наиболее авторитетном из изданий мемуаров А. О. Смирновой приводится неточно: «…он не любил Перуджино из Ранционгли»; см.: Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 43). Но, вспоминала А. О. Смирнова, при всей любви к Перуджино, Гоголь не только ему, но даже Рафаэлю предпочитал православную иконопись, замечая об итальянских живописцах, что «всё это не может сравниться с нашими византийцами, у которых краска ничего, и всё в выражении и чувстве» (РГБ. Ф. 474. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 3 об.). Такая же оценочная «иерархия» заключается и в описании альбанской красавицы Аннунциаты в «Риме», где, при всем восхищении ею, неожиданно появляется у Гоголя настораживающее сравнение с «гибкой пантерой». В свою очередь, увлечение «возвышенным» Шиллером Гоголь сравнивает в «Мертвых душах» с нетрезвостью, почти опьянением: «Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, показав им прекрасного человека…»
Это видимое противоречие прямо выводит нас к проблеме, чрезвычайно важной для понимания Гоголя и имеющей прямое отношение к его дальнейшему духовному развитию. Руководствуясь в оценке некоторых явлений действительности представлением о «необходимом зле» в истории – о промыслительно заложенных в человеке от самого его рождения «страстях» (с помощью которых якобы и осуществляется подчас его спасение; см. коммент. в изд.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 4. С. 554), Гоголь прилагал порой эти взгляды и к «эстетическому» соблазну, соблазну красоты, могущему, по его мнению, равно служить добру (в искусстве) и злу (в ремесленной роскоши). Чувственное восприятие красоты, эта «прирожденная страсть» падшего человека, может, по Гоголю, стать либо первой ступенькой к его спасению, либо прямым прологом к гибели.
В то же время, допуская в своих размышлениях представление о промыслительном назначении некоторых «прирожденных страстей», Гоголь никогда не заблуждался относительно сущности той или иной «страсти», не идеализировал их. В самом понятии «целомудренной страсти» он находил даже источник комического эффекта (последнее выражение взято из русского перевода комедии Мольера «Сганарель», обработанного Гоголем в конце 1839 года). (Имеется в виду реплика героини комедии о своем супруге: «Теперь все ясно: он изменяет мне. Теперь я не удивляюсь холодности, которой он отвечает на мою целомудренную страсть»; см. в т. 7 наст, изд.)
В соответствии с этим отношением Гоголя к возможностям и недостаткам эстетического начала противопоставление в его повестях Парижа и Рима, художника петербургского художнику итальянскому оказывается достаточно условным. Образы монаха-аскета в «Портрете» или монаха-капуцина среди цветущей, художнической жизни Рима (на значение последнего образа указывал Гоголь в 1841 году В. А. Панову, «ссылаясь на эффект, производимый нищенствующим братом», когда он вдруг появляется среди веселящейся итальянской толпы; см.: Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года // Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 79) возвышаются равно и над «ремеслом», и над «искусством». (О том, что само ношение священником своей одежды является в известной мере исповедничеством, Гоголь писал, в частности, позднее в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и в «Размышлениях о Божественной Литургии».) Монах-художник в «Портрете» предъявляет к самому себе те требования, которые со всей полнотой займут жизнь Гоголя в 1840-е годы, – покаяние, очищение души, молитва.
К пониманию первой из «петербургских» повестей Гоголя (в композиции третьего тома собрания) ближе всех, кажется, подошел профессор, протопресвитер В. В. Зеньковский, отметивший, что в «Невском проспекте» сильнее всего ощутим тот сокрушительный удар, который нанес Гоголь идеям эстетического гуманизма, наиболее глубоко выраженным в свое время Ф. Шиллером и чрезвычайно популярным в России в XIX веке (Зеньковский В. Я. проф., прот. Н. В. Гоголь. Париж, <196l>. С. 127). Эти идеи– о единстве красоты и добра, высказанные в повести устами автора: «…красота… только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях», рушатся «при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата».
Этим, однако, шиллеровская тема в «Невском проспекте» не исчерпывается. Едва ли случайно назван в повести Шиллером один из немногочисленных ее героев – «жестяных дел мастер в Мещанской улице». Дело в том, что «певец прекрасного» поэт Ф. Шиллер (с сочинениями которого Гоголь познакомился еще в Нежинской гимназии) известен и как идеолог европейского торгово-промышленного прогресса, и как прямой защитник интересов среднего сословия (см. его «Историю отпадения Соединенных Нидерландов от испанского владычества» и трагедию «Дон Карлос»). Имя же еще одного из немецких мастеровых в «Невском проспекте», столяра Кунца, – уже без очевидных литературных ассоциаций, но с тем же намеком на «художества», указывает, вероятно, на саму идею внешне чисто комического именования гоголевских ремесленников «Шиллерами» и «гофманами» – идею о низведении искусства к ремеслу. Die Kunst (нем.) – искусство; отсюда – кунсткамера (или, согласно орфографии XVIII века, «кунцкамера»); с кунсткамерой Гоголь, в свою очередь, сравнивает низкопробные, исполненные «диких страстей» и кровавых эффектов произведения французских романтиков А. Дюма и В. Дюканжа: «…можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы…» («Петербургские записки 1836 года»).
В этом свете каждая из двух частей «Невского проспекта» пронизана гоголевской полемикой с идеями Шиллера. Становится явной и связь этих частей между собой. Ибо «шиллеровская» красавица и торгующие предметами роскоши «шиллеры»-ремесленники оказываются связанными друг с другом еще и экономически. По Гоголю, красавица, сделавшая из своего дара «ремесло», становится в то же время и «поощрительницей» роскоши («мануфактурности»). Вывеска с «золотыми словами» и нарисованными ножницами, доходный дом с вьющейся чугунной лестницей, которые предстают на пути преследующего красавицу художника Пискарева (дорогостоящие чугунные лестницы как характерная черта петербургского быта упоминаются Гоголем и в других произведениях – в «Ночи перед Рождеством», «Ревизоре», «Мертвых душах») и указывают, видимо, на власть немцев-ремесленников над одетой в роскошный плащ петербургской красавицей – обитательницей «четвертого этажа». Эту составляющую европейской промышленности один из героев Гоголя – помещик Костанжогло во втором томе «Мертвых душ» – определяет следующим образом: «…Из Лондона мастеров выписали… Прядильные машины… кисеи шлюхам городским, девкам». Добавим, что в первом томе «Мертвых душ» Шиллер, в свою очередь, упоминается у Гоголя в окружении «работников и особенного рода существ, в виде дам», «кузнецов и всякого рода дорожных подлецов». И здесь Гоголь размышляет о «раздоре мечты с существенностью», об обольстительном упоении шиллеровскими грезами.
Продолжая наблюдения над композицией книги «Повестей» третьего тома гоголевских сочинений, следует отметить, что тема Петербурга неразрывно связана у Гоголя с размышлениями о петровских преобразованиях в России. («А Гоголь, – замечал в 1875 году Ф. М. Достоевский, – был прямой отрицатель всех последствий Петра…»; Достоевский Ф. М. Записная тетрадь 1872–1875 годов//Лит. наследство. Т. 83. М., 1971. С. 314.) Последствия петровских преобразований, указываемые Гоголем, подчас неожиданны. Так, в частности, выбор художника в «Портрете» между ремеслом и искусством отчасти уже предопределен. И предопределен не чем иным, как основанием русской столицы «в земле снегов», «в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно». «Художник петербургский! – восклицает Гоголь в «Невском проспекте». – …Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился…» Действительно, настоящее произведение искусства создает художник, отправившийся в Италию («Портрет»). Остающийся же в Петербурге обращается в конце концов – в борьбе за свое существование – к доходному модному ремеслу.
Последствия цивилизаторской деятельности Петра I, как бы решившегося перекроить и самую географию («Выкинет штуку русская столица, если присоседится к ледяному полюсу», – замечал Гоголь в «Петербургских записках 1836 года»), сказывается и на другом гоголевском герое – петербургском чиновнике Акакии Акакиевиче Башмачкине из повести «Шинель», судьба которого является в некотором смысле «универсальной» для петербургских героев Гоголя. Если художника вступить на путь ремесла понуждают «охлаждение» дарований и необходимость в «цивилизованном» (а значит, дорогостоящем) жилье, то тот же самый мороз вынуждает и Башмачкина позаботиться о новой шинели – в чем опять сказываются «замерзнувшие на дороге способности и дарованья». О «страшном враге» небогатых петербургских обитателей – северном морозе – Гоголь упоминает и в «Портрете»: «Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников…» 11 марта 1833 года П. А. Плетнев сообщал В. А. Жуковскому о Гоголе: «…Он в такой холодной поселился квартире, что целую зиму принужден был бегать от дому, боясь там заморозить себя» (Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 528. См. также письма самого Гоголя к М. П. Погодину от 25 ноября 1832 года и к матери от 24 июня 1833-го).
Автобиографическое начало в «петербургских» повестях Гоголя, вообще говоря, сказывается весьма часто. Именно это позволяет обозначить собственно авторское отношение к тем или иным сторонам изображаемого им петербургского быта. Еще будучи в Нежине, 26 июня 1827 года Гоголь писал своему школьному приятелю Г. И. Высоцкому в ответ на сообщенные им сведения о петербургской жизни: «Не знаю, может ли что удержать меня ехать в Петербург, хотя ты порядком пугнул и пристращал меня необыкновенною дороговизною, особливо съестных припасов. Более всего удивило меня, что самые пустяки так дороги, как-то: манишки, платки, косынки и другие безделушки. У нас, в доброй нашей Малороссии, ужаснулись таких цен, сравнив суровый климат ваш, который еще нужно покупать необыкновенною дороговизною, и благословенный малороссийский, который достается почти даром…» Уже в этом гоголевском письме как бы намечена тема будущей «Шинели» – мороз, дающий «колючие щелчки без разбору по всем носам» и вынуждающий героя, бедного петербургского чиновника, положить все силы и средства на приобретение новой шинели («отрадный» контраст этому – изображение вольного южного быта в «Тарасе Бульбе»).
Отсюда почти неизбежное при суровом петербургском климате и «страшной» столичной дороговизне обращение обитателя Северной Пальмиры к «бесчувственному», безжалостному ростовщику. Эту примету петербургской жизни Гоголь, в свою очередь, изобразил в повести «Портрет»…
Здесь кстати заметить, что наряду с собственно «бытовым», житейским «материалом», легшим в основу гоголевского образа «цивилизованного» Петербурга, заставившим писателя обратить внимание на «географическую» сторону преобразований Петра I, к осмыслению этой проблемы мог подтолкнуть Гоголя и А. С. Пушкин. По замечанию В. Ф. Ходасевича, Пушкин, изображая в «Медном всаднике» (1833, опубл. в 1837) вторжение в мир обитателей Петербурга стихийных, демонических сил – сметающих «все на своем пути, как воды, разрушившие домик Параши и ее матери», – понимал, что «все-таки царь Петр есть гений, душа того бедствия, которое стряслось над Евгением»: «…Ужасен был миг, когда Евгений… понял… связь Петра с волнами, сгубившими несчастную Парашу» (Ходасевич Вл. Петербургские повести Пушкина и Пушкин – Титов. Уединенный домик на Васильевском. М., 1915. С. 17–19). «Знал» Пушкин, добавлял В. Ф. Ходасевич, и то, что, «олицетворяя ужас в Петре, он в известном смысле делает трагедию бедного Евгения» трагедией всей России» (Там же. С. 18).
В этой связи весьма примечательны две детали первой редакции гоголевского «Портрета» (редакции «Арабесок» 1835 года), связанные с образом петербургского ростовщика (в 1842 году Гоголь исключил их при переработке повести). Это, во-первых, упоминание среди заложенных вещей в кладовых ростовщика о «бриллиантовом перстне бедного чиновника, получившего его в награду неутомимых своих трудов». Согласно послужному списку Гоголя, он сам 9 марта 1834 года (в год создания «Портрета»), будучи учителем истории в Патриотическом институте благородных девиц, был по случаю награждения преподавателей при выпуске воспитанниц пожалован от Ея Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны – «в награду отличных трудов» – «бриллиантовым перстнем». Вероятно, именно этот перстень и пришлось тогда заложить Гоголю – и тогда же соответствующий образ появился в «Портрете».
По воспоминаниям А. С. Данилевского, именно мороз и «необыкновенная дороговизна» были первыми впечатлениями Гоголя по приезде в Петербург в декабре 1828 года: «…особенно обидная неприятность была для него в том, что он, отморозив нос, вынужден был первые дни просидеть дома… От… этого восторг быстро сменился совершенно противоположным настроением, особенно когда их стали беспокоить страшные петербургские цены…» (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 152). 24 июля 1829 года Гоголь прямо писал матери о глупости тех, «которые оставляют отдаленные провинции, где имеют поместья, где могли бы быть хорошими хозяинами и принесть несравненно более пользы…». «Если уже дворянину непременно нужно послужить, – замечал он, – служили бы в своих провинциях; так нет, надо потаскаться в Петербург, где мало того что ничего не получат, но сколько еще перетаскают денег из дому, которые здесь истребляют неприметно в ужасном количестве». Об этом же Гоголь впоследствии открыто заговорит в «Переписке с друзьями»: «Разорить полдеревни или пол-уезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу, есть вывод, который мог образоваться только в пустой голове эконома XIX века…»








