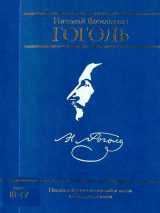
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том III. Повести. Том IV. Комедии"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 47 страниц)
В соответствии с этим двояким противопоставлением Рима и Москвы («Третьего Рима») Парижу и Петербургу Гоголь в 1848 году, будучи в Киеве, говорил Ф. В. Чижову: «…кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после Рима только Москва и может нравиться» (<Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 240–241). Еще в «Петербургских записках 1836 года» Гоголь замечал: «В самом деле, куда забросило русскую столицу – на край света! Странный народ русский: была столица в Киеве– здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву– нет, и тут мало холода: подавай Бог Петербург!.. “На семьсот верст убежать от матушки! Экой востроногой какой!” – говорит московский народ, прищуривая глаза на чухонскую сторону».
В 1841 году Гоголь писал С. Т. Аксакову из Рима: «Теперь я ваш; Москва моя родина… Всё было дивно и мудро расположено Высшею волею: и мой приезд в Москву, и мое нынешнее путешествие в Рим…» (письмо от 5 марта 1841 года). В 1846 году, приглашая из-за границы в Москву на жительство В. А. Жуковского, Гоголь в свою очередь замечал: «В Москву ты приедешь, как в родную свою семью. Она предстанет тебе желанной пристанью…» Позднее, 15 сентября 1850 года, он писал А. С. Стурдзе из Васильевки: «Скажу вам откровенно, что мне не хочется и на три месяца оставлять России. Ни за что бы я не выехал из Москвы, которую так люблю. Да и вообще Россия всё мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть в ней что-то еще выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной».
В 1851 году, в день празднования двадцатипятилетия царствования Императора Николая I, 22 августа, Гоголь присутствовал вместе с другими гостями – В. И. Назимовым, М. П. Погодиным, И. М. Снегиревым и др. – на бельведере дома Пашкова в Москве, откуда смотрел на празднично освещенную столицу. П. Д. Шестаков, учитель 4-й Московской гимназии, которая помещалась тогда в доме Пашкова, позднее вспоминал: «Помню, как он, долго любуясь на расстилавшуюся под его ногами грандиозно освещенную нашу матушку Москву, задумчиво произнес: “Как это зрелище напоминает мне вечный город”» (Шестаков П. Д. Воспоминания о В. И. Нази-мове//Исторический Вестник. 1891. № 3. С. 711).
Можно предположить, что иллюминированная Москва прежде всего напомнила Гоголю римский фейерверк (это «огненное празднество» Гоголь, в частности, наблюдал в 1839 году с тем же Погодиным и с А. А. Ивановым; несомненно, он видел его в Риме многократно). Но не только о фейерверке вспоминал в 1851 году Гоголь. В конце 1845 года, 13 декабря (н. ст.), Рим посетил Император Николай Павлович и в тот же день встретился с папой. Русский посланник в Риме А. П. Бутенев писал, в частности, 22 ноября (н. ст.) графу К. В. Нессельроде, что приезд Императора Николая I в Рим является событием, которое «само по себе необычайно в истории древнейшего и знаменитейшего города в мире, и которому современные обстоятельства придают еще большее политическое значение и интерес, обращающий на себя, можно сказать без преувеличения, внимание всей Европы» (Попов А. Н. Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год//Журнал Министерства Народного Просвещения. 1870. № 1. <Отд. 2>. С. 61).
По словам самого Гоголя в письме к графу А. П. Толстому от 2 января (н. ст.) 1846 года, а также по свидетельству А. П. Бутенева в письме к графу И. И. Воронцову-Дашкову от 21 декабря (н. ст.) 1845-го, «несмотря на то, что Император путешествовал инкогнито (под именем генерала Романова. – И. Я), римское народонаселение повсюду встречало высокого путешественника с таким энтузиазмом, который невозможно описать. Улицы, примыкавшие к дому русского посольства (palazzo Giustiniani <дворец Юстиниана; ит.>), в котором он останавливался, по целым дням были наполнены тысячами лиц различных классов, ожидавших мгновения его увидать и ему поклониться. Когда он ездил по городу или посещал общественные гулянья, такие же толпы стекались на его пути с усердием и восторгом» (Попов А. Н. Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год. С. 66).
Именно тогда– во время пребывания Гоголя в Риме в 1846 году– и сразу после отъезда из Рима Императора Николая Павловича – у художника А. А. Иванова, близкого друга Гоголя, возник проект о заложении в Москве нового, в отличие от тоновского, Храма Спасителю. «Во время Московского Юбилея, – писал он в своем проекте, – чтоб Государь выдал Манифест выстроить Храм на месте, где случилось решение Бога быть России, а не Польше, – т. е. когда Авра<а>мий Палицын у стен Московских взывал к бунтующему войску, принеся жалованьем все украшения церковные. На этом-то самом месте надобно, чтоб Государь велел построить храм Спасителю». Тогда же Иванов написал и манифест, в котором от имени Государя провозглашалось перенесение русской столицы с окончанием строительства нового храма из Петербурга в Москву. «Москва, – писал Иванов, – жаждущая только этого, обратится к Правлению русских художников в Риме как выдающимся цветам искусства отечественного, а мы, видя из сердца отечества такое воззвание, двинемся всеми силами свежего народа к удовлетворению такой лестной и торжественной просьбы». По замыслу Иванова (известному, несомненно, и Гоголю), манифест об основании храма и перенесении русской столицы в Москву должен был быть прочитан Императором на московских торжествах 1851 года.
Присутствуя теперь, в 1851 году, на московском юбилее и глядя на празднично освещенную Москву, Гоголь, конечно, не мог не вспомнить о пребывании Государя в Риме в 1845 году и о составленном тогда Ивановым манифесте. Вспомнилось, вероятно, Гоголю и то, что римский фейерверк – по обычаю устраивавшийся папой в честь высоких гостей, – не был устроен в честь русского Императора, так как Государь был оклеветан тогда польской партией в гонениях против униатов. В Рим была подослана польская самозванка Макрена Мечиславская, выдававшая себя за подвергнувшуюся гонениям российских властей игуменью Минского базилианского монастыря. Впоследствии самозванка была разоблачена, однако клевета успела сыграть свою роль. Один из бывших тогда в Риме дипломатов вспоминал о приезде Николая I: «Всех занимал вопрос, будут ли оказаны ему особые почести, а именно иллюминация купола собора Св. Петра и джирандола <фейерверк; ит.> в Замке Св. Ангела. Рассказывали, что незадолго перед тем в Рим приехала аббатисса одного женского монастыря в Польше, которая за противузаконные поступки была заключена в русский монастырь, но бежала оттуда. Ее рассказы о приниженном положении католицизма в России произвели такое впечатление, что было решено не оказывать Императору никаких почестей со стороны римского правительства» (Император Николай I и папа Григорий ХVI//Вестник Иностранной Литературы. 1896. № 9. С. 12).
В свете культурно-исторической концепции Гоголя, в которой полярными точками являются Петербург и Москва, Париж и Рим, совсем не удивительно, что, по свидетельству Анненкова, вспоминавшего о своем общении с Гоголем в Риме в 1841 году, «намек на то, что европейская цивилизация может еще ожидать от Франции важных услуг, не раз имел силу приводить невозмутимого Гоголя в некоторое раздражение. Отрицание Франции было у него… невозвратно и решительно…» (Анненков П. В. Замечательное десятилетие. S3S-S4S//Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 178). Речь, конечно, шла не об отрицании Франции, а о неприятии самой западноевропейской цивилизации. По словам протопресвитера Василия Зеньковского, в повести «Рим» Гоголем дана «очень суровая характеристика всей французской культуры» и европейского просвещения в целом (Зеньковский В. В., проф., прот. Н. В. Гоголь. С. 113–114). «Гоголь, – замечал исследователь, – высказал много глубоких, не утративших своей силы идей, соображений о том эстетическом падении, которое характеризует и искусство, и жизнь нового времени… его едкие замечания о «непонятной» власти моды в современной культуре, среди других его замечаний, поражают своей глубиной и правдой» (Там же. С. 208).
Историческая концепция развития европейской цивилизации, представленная в «Риме», восходит к историческим штудиям Гоголя первой половины 1830-х годов, в частности, к тем его статьям, которые он опубликовал одновременно с тремя «петербургскими» повестями в сборнике «Арабески». Узловым моментом этой концепции являются слова в «Риме» о «низкой роскоши XIX столетия… выведшей на поле деятельности… кучи мастеровых и лишившей мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов…».
Ближайшие корни новейшего европейского «просвещения» восходят, согласно Гоголю, к эпохе открытия европейцами Америки – когда, по его словам, «огромным взмахом закипели движенья Европы, понеслись вокруг света корабли, двинув могучие северные силы» (повесть «Рим»). Уяснить гоголевскую мысль помогает статья «О преподавании всеобщей истории», опубликованная в «Арабесках». Об открытии Нового Света в ней говорится: «Европейцы с жадностью спешат в Америку и вывозят кучи золота…» Первую роль в этом играла, как известно, Испания. Целый океан сокровищ хлынул тогда в Испанию из Нового Света, лишив тем самым ее народ всякого побуждения к труду. («Испания издавна отличалась… трудолюбием жителей…» – замечал в 1834 году Гоголь в одной из своих университетских лекций.) Вывезенное Испанией из Америки золото и послужило началом европейской промышленности. Английский философ начала XVIII века Б. Мандевиль, известный своими выводами о необходимости пороков и роскоши для развития ремесел, писал, в частности, что весь мир тогда «стремился работать на Испанию». В результате «золото и серебро… сделали все вещи дорогими, а большинство стран Европы– промышленными…» (Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., 1974. С. 185–186). В конспекте лекций 1835 года «Древняя Всеобщая История» Гоголь писал: «Золото Перу и Хили <Чили> было основанием новой политики; оно дало новую деятельность, новую жизнь народам и Государствам, возбудив в них страсти, неведомые народам средних веков. – Золото Америки возвысило Испанию, оно же и погубило ее, передав всю промышленность Голландцам и возбудив деятельность Англичан…Такие эпохи если не громом, то по крайне<й> мере следствиями могут сравниться с падением Рима, и тем более, что следствия падения Рима уже исчислены, известны, тогда как следствия вышесказанных происшествий не кончились даже и до этих пор».
Напомним также строки чрезвычайно высоко оцененной Гоголем «Сцены из Фауста» (1825) А. С. Пушкина: «Корабль испанский, трехмачтовый,/Пристать в Голландию готовый…» Близкий друг Гоголя писатель и историк М. П. Погодин, в свою очередь, замечал, что «войны Филиппа с Нидерландами и прочие его предприятия против Англии, Франции и Германии, суть каналы для разлития американского золота и серебра по Европе» (Исторические афоризмы Михаила Погодина. М., 1836. С. 105). Именно в освещении этого периода европейской истории увидел Гоголь достоинство трудов М. П. Погодина: «У него Шварц, Колумб, Лютер, кажется, вонзают взор, шагнувши чрез несколько веков, в нас самих и в события нашего века» (рецензия «Исторические афоризмы Михаила Погодина», 1836). Непосредственным отражением и результатом начавшегося на исходе Средних веков «движения» европейских народов в «событиях нашего века» и является, по Гоголю, кипучая деятельность современного Парижа – прямая противоположность патриархальной жизни Рима.
Среди рукописей заключительной главы первого тома «Мертвых душ» до нас дошел отдельный набросок Гоголя о XIX веке, имеющий непосредственное отношение к создававшейся в то время повести «Рим». Речь в нем идет о ничтожном итоге всего исторического развития человечества: «…[всяких вещей] добра, созданного модою. [Возьмем]… богатый и обширно развитый [19 век] наш умный девятнадцатый век> [Благодетельное] Чудное счастье! доставленное [нанесенное им человеку], подаривший человечество таким счастием в награду его трудных и бедственных странствий».
Согласно этому проникнутому глубокой иронией отрывку, результат «трудных и бедственных странствий» человечества, или, иначе, итог приложения «могучих северных сил», вызванных к жизни открытием Америки, ничем не возвышается, по оценке Гоголя, над той деятельной «бездельностью жизни всего человечества в массе», какую прозревал он в мире и какую пытался изобразить в первом томе «Мертвых душ» в «бальном» безделье губернского города (заметка «К 1-й части»).
В самом «Риме» именно такой и представляется в итоге герою жизнь Парижа: «В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность… В движенье торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости». Такова, по Гоголю, и суть европейского прогресса в целом, практически исчерпывающегося понятием моды (как в самом широком смысле этого слова, так и в узком, бытовом). Мода же, очевидно, никакого действительного «прогресса» в себе не заключает. Скорее наоборот. «…Прогресс, – писал Гоголь по этому поводу в неотправленном письме к В. Г. Белинскому 1847 года, – он… был, пока о нем не думали, когда же стали ловить его, он и рассыпался». «Человечество двинется вперед, – размышляет Гоголь об истинном «прогрессе» в своем предсмертном послании «Друзьям моим», – когда всякий частный человек займется собою и будет жить как христианин». «Наука у нас непременно дойдет до своего высшего значения и поразит самым существом, а не краснобайством преподавателя, его даром рассказывать, или же применениями к тому, что интересует моду…» – писал Гоголь в 1844–1845 годах в статье «О науке».
Бесплодная в отношении добра, европейская цивилизация Нового времени постепенно, по Гоголю, становится в то же время все изощреннее в «искусстве» зла. Об этом гоголевском взгляде можно, в частности, судить из соответствующих образов «Мертвых душ». Примечательна в этом смысле реплика Чичикова по поводу балов в отдельном черновом наброске к восьмой главе: «Сколько муж ни делает канальства, бездельничества и мерзостей из-за того, чтоб жене достать денег на наряд!..» Эта же мысль слышна и в размышлениях Гоголя о губительной власти «пошлых привычек света, условий, приличий без дела движущегося общества» в связи с характеристикой героев первого тома поэмы. Цивилизация Нового времени есть, по Гоголю, активная сила зла в мире, действие которой он прослеживает в истории. Как явствует из гоголевской концепции, создавшаяся в Европе вследствие перераспределения американского золота промышленность, опустошив золотоносную Испанию («Старая Испания, точно, все могла бы иметь и все потеряла», – замечал Гоголь в 1847 году в письме к графу А. П. Толстому), в поисках нового для себя поприща и источников роста («для поддержки и сбыту» – строки второго тома «Мертвых душ») обращается со временем с Запада на Восток. Здесь, уже в начале XIX века, наиболее значительным приложением набранной ею мощи стала, по мысли Гоголя, организация похода «Великой армии» Наполеона в Россию. «Наполеон… уже действует другим орудием…» – замечает Гоголь в статье о всеобщей истории. Этот «крестовый поход» Наполеона в Россию неизбежно оказывается (как и в Средние века, когда по интригам торговой Венеции крестоносцами был разрушен Константинополь) войной не столько политической, сколько религиозной, несущей вместе с экономическим порабощением и искажение духовных начал жизни – войной за превращение России в «европейское» государство и втягивание ее в общеевропейский процесс апостасии. «Что значит, – вопрошает Гоголь в статье «Светлое Воскресенье», – что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода (то есть Шиллеры, Гофманы и Кунцы. – И. В.), а Божии помазанники остались в стороне?» Подразумеваемый ответ на этот вопрос находится во Втором послании св. апостола Павла к Фессалоникийцам: изъятие из среды «удерживающего» знаменует наступление конца света (гл. 2, ст. 7).
Одним из главных источников в таком осмыслении мировой истории, очевидно, послужил Гоголю рассказ св. апостола и евангелиста Луки в Деяниях апостолов об ефесских ремесленниках, трудившихся над созданием храмов языческой богини Артемиды и восставших против проповеди св. апостола Павла из неложного опасения лишиться вследствие ее своих доходов (Деян. 19, 23–40) (сам апостол Павел не без горечи вспоминает о мятеже: «…когда я боролся со зверями в Ефесе»; 1 Кор. 13, 32). Гоголь придает этому событию преобразовательный смысл и поистине вселенский, апокалиптический масштаб.
Противоположное отношение к Италии и Франции, воплощенное в повести «Рим», и определяется этим противопоставлением Гоголя одухотворенной средневековой культуры развращающему влиянию новейшей цивилизации. В отличие от Северной Европы, ремесленная цивилизация которой стала активным проводником растлевающих соблазнов, в Италии, напротив, теми же ремесленниками, благодаря терпимости и целенаправленному меценатству пап (и перемещению торговых путей – с открытием Нового Света – на север Европы), был создан противостоящий цивилизации «синих блуз» Ренессанс. Покровительствуя религиозному направлению искусства, духовные власти Рима оградили тем самым свой народ от развращающего воздействия на него «ремесла». Только в этом – в противостоянии «величественной прекрасной роскоши» художеств «низкой роскоши» ремесла – светское искусство и находит себе оправдание у Гоголя (на чем и строится противопоставление в повести Парижа и Рима). Значение искусства Гоголь, однако, не переоценивает. Эстетически развитый итальянский народ скептически относится к своему духовенству, которому всем обязан. Сожалея в «Портрете», что время меценатов, издерживавших целые состояния на произведения искусства, прошло («наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр»), Гоголь, однако, в то же время отмечает и весьма относительную «просвещенность» «тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю свою жизнь, погруженные в зефиры и амуры». Не случайно приняться за чтение «первых всемирных поэтов» Гоголь считает необходимым лишь тем из русских, «которые даже не захотели бы и выслушать слов, если бы увидели, что вышел поп сказать их», которые «мудрость свою… покуда черпают из разного рода повестей, а не из Евангелия», тем, «которым другим путем нельзя сказать иных истин» (согласно строкам его писем 1846–1847 годов). Так, атеистически настроенному В. Г. Белинскому Гоголь в 1847 году, в неотправленном письме, предлагает, «начав сызнова ученье», «приняться за тех поэтов и мудрецов, которые воспитывают душу».
Характерно, что именно В. Г. Белинский повести Гоголя не принял. В статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”» он писал, что в «Риме» «есть удивительно яркие и верные картины действительности» и в то же время «есть и косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим…» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 155). В письме к С. П. Шевыреву от 1 сентября (н. ст.) 1843 года Гоголь отвечал на критику: «Белинский смешон. А всего лучше замечание его о “Риме”. Он хочет, чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский. Я бы был виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж. Потому что и я хотя могу столкнуться в художественном чутье, но вообще не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живущей и современной нации, а он к отжившей. Идея романа вовсе была не дурна. Она состояла в том, чтобы показать значение нации отжившей, и отжившей прекрасно, относительно живущих наций. Хотя по началу, конечно, ничего нельзя заключить, но все можно видеть, что дело в том, какого рода впечатление производит строящийся вихорь нового общества на того, для которого уже почти не существует современность».
Взгляды Гоголя, судя по всему, во многом и совпадали с размышлениями героя, а кое в чем были еще более радикальны, чем взгляды римского князя. Несомненно, впечатления Гоголя от Парижа были гораздо более тягостны, чем впечатления героя. 12 февраля (н. ст.) 1845 года он, например, писал Н. М. Языкову: «О Париже скажу тебе только то, что я… и встарь был до него не охотник, а тем паче теперь. Говоря это, я разумею даже и относительно материальных вещей и всяких жизненных удобств: нечист, и на воздухе хоть топор повесь». Гоголевская позиция отличалась, вероятно, от воззрений героя настолько, насколько большую угрозу представляет собой западноевропейская цивилизация (будь она в Париже или в Петербурге) для нации «живущей и современной», чем для «отжившей». «Отжившая прекрасно» Италия, имеющая в себе залог истинного, религиозного чувства красоты, к тому же отделенная от Парижа еще и государственно, оказывается в этом смысле в позиции стороннего, не подверженного соблазнам наблюдателя – римский князь в итоге возвращается в Италию.
Иначе обстоит дело между тем же Петербургом и, скажем, Малороссией, с которыми Гоголь соотносит Париж и Италию в своих письмах. Раз возникнув в теле народа, цивилизация, подобно раковой опухоли, беспрепятственно расползается по всей «живущей» России. «Спасение России, что Петербург в Петербурге», – заметил однажды Гоголь в разговоре с М. П. Погодиным (Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1895. Т. 9. С. 475). Хотя главное разделение проводит все-таки Гоголь между Россией и Западом (разорительное влияние европейской промышленной роскоши), но более опасным представляется ему разделение в самой России – единой территориально и слишком молодой, чтобы с постоянством противостоять развращающим соблазнам.
Таким образом, римский князь, так же как и совпадающий с ним в «художественном чутье» Гоголь, может достаточно отстранение смотреть на парижские соблазны, но, принадлежа к обществу, захваченному «строящимся вихрем», писатель не удовольствуется позднее только художественным творчеством, перейдя в «Выбранных местах…» к открытой публицистической проповеди.
Игорь Виноградов








