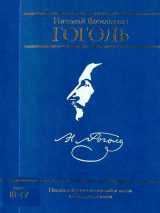
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том III. Повести. Том IV. Комедии"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 47 страниц)
Самому Гоголю, писателю не менее «самобытному и самоцветному», чем Жуковский, в изображении скрытых потусторонних сил как очевидной реальности главным образцом тоже служила не столько немецкая романтика, сколько традиционное наследие православной отечественной культуры – в частности, известная Гоголю с раннего детства богатая житийная литература. (О чтении Четий-Миней в семье Гоголей см.: Чаговец В. Л. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива)//Памяти Гоголя. Научнолитературный сборник. Киев, 1902. Отд. 3. С. 36–37.) Прежде всего здесь (и в Священном Писании) эти явления изображаются не как литературный вымысел или игра фантазии, но как отражение реальной действительности.
Как заметил в 1902 году о Гоголе И. И. Замотин, «религиозный его идеал… духовное созерцание, которое сближает религиозные воззрения Гоголя с такими же воззрениями романтиков, в представлении его слились с нашим древнерусским идеалом святости, о котором забыли русские вольтерьянцы конца XVIJI и начала XIX столетия» (Замотин И. И. Три романтических мотива в произведениях Гоголя. К характеристике Гоголевского идеала. Варшава, 1902. С. 18). В повести «Портрет», отмечал И. И. Замотин, «кроме двух молодых художников автор рисует еще тип скромного, набожного живописца, какие только жили, по его замечанию, во время религиозных Средних веков» (Там же. С. 19–20). Параллель к этому типу, полагал исследователь, можно указать, с одной стороны, в древнерусской житийной литературе, например в рассказе об Алипии иконописце в Киево-Печерском патерике, с другой – в немецких романтических произведениях, в частности, в романе Л. Тика «Странствования Франца Штернбальда» (1798), где тоже излагается история живописца и «проглядывает мысль, что благочестие должно быть основой художественной деятельности» (Там же. С. 20).
Сам Гоголь, однако, с куда большей трезвостью (чем его исследователи) отличал религиозность немецкой романтической школы от подлинного христианского миросозерцания. Не случаен интерес, проявленный Гоголем в 1833 году к характеристике романтизма С. С. Уваровым в связи с «антиромантической» интерпретацией последним творчества И. В. Гете: «В то время, когда безверие проникло в Германию, когда страсть к отвлеченностям поколебала основания нравственных знаний, Гете… бичевал грозным сарказмом их суесловие и пытливость…. Фауст… представляет собой… возвышенную сатиру на страсть немцев копаться в глубинах и пропастях таинственности… страсть, безумно воспитанную трансцендентальною философиею, разрушительное действие коей ускорили позднейшие мудрования» (Гете. Слово, произнесенное в память Гете в торжественном собрании Академии наук президентом оной, С. С. Уваровым! IV ч. зап. Московского ун-та. 1833. Ч. 1. № 1. С. 83, 85). В письме к А. С. Пушкину от 23 декабря 1833 года Гоголь дал следующую оценку этому выступлению Уварова: «Я понял его еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гётте». Известно, что отрицательная оценка Уваровым европейского романтизма нашла отражение и в его официальном циркуляре от 27 июня 1832 года о борьбе с романтической литературой – как действующей начитателя ко вреду его «морального чувства и религиозных понятий» (<Стасов В. В.> Цензура в царствование Императора Николая 1//Русская Старина. 1903. № 3. С. 371–372). По мнению Ю. Г. Оксмана, на этом циркуляре основывалось позднее, в феврале 1834 года, запрещение гоголевского «Кровавого бандуриста», причисленного (сначала Н. И. Гречем, затем А. В. Никитенко) к произведениям «новейшей французской школы» (Оксман Ю. Кровавый бандурист (запрещенные страницы Гоголя)//Литературный музеум. Пг., 1921. Т. 1. С. 352; см. также: Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 545–546). Между тем, по замечанию П. Г. Паламарчука, «картины страданий» в «Кровавом бандуристе» были навеяны Гоголю не «новейшей французской школой», а украинскими летописями (Паламарчук П. Г. Примечания// Гоголь Н. В. Арабески. М., 1990. С. 20). Очевидно, цензуру ввело в заблуждение чисто внешнее сходство гоголевского отрывка с произведениями французских романтиков – точно так же, как позднее подобное сходство породило мнение исследователей о «романтизме» гоголевских «петербургских» повестей.
В этом смысле весьма примечательно изложенное Гоголем в «Портрете» эстетическое кредо русского художника, обучавшегося в Италии, который «стоял ни за… ни против пуристов… и, наконец, оставил себе в учители одного божественного Рафаэля». Строки нуждаются в некотором пояснении.
Пуристами называли в 1820-1840-х годах группу немецких религиозных художников во главе с Ф. Овербеком и П. Корнелиусом, известных также под названием «назарейцев» (от Назарета – городка в Галилее, где прошли детские и отроческие годы Спасителя). По словам М. П. Погодина, посетившего в 1839 году Овербека, немецкий художник был «очень привязан к Ж<уковскому>, с которым они сошлись во вкусе и понятиях о живописи, и соблазнили, вместе с Г<оголем>, и некоторых наших художников» (Погодин М. П. Год в чужих краях. М., 1844. Ч. 2. С. 136). Однако, по свидетельству П. В. Анненкова, общавшегося с Гоголем в Риме в 1841 году, Гоголь весьма критически отзывался о художниках-«назарейцах». Анненков вспоминал: «Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека, рассказывавшим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевской эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумье: “Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта”» (Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 70). Подтверждение этому свидетельству Анненкова можно найти у самого Гоголя в повести «Рим», где, говоря о постепенном знакомстве героя с древним Римом, он замечал, что приехавший после долгого отсутствия на родину римский князь изучал его «не так, как иностранец»-«педант», – «преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город, – нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могущий Средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век…».
Как можно судить из других высказываний Гоголя, в творчестве художников-«назарейцев» его не устраивало прежде всего внешнее подражание старым мастерам, изучение старины извне, без вживания в живую ткань Предания Церкви. «Пока в самом художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне», – замечал Гоголь в статье «Исторический живописец Иванов». Для достижения полноты «первобытного типа» иконы – без которого религиозное изображение не может, по убеждению Гоголя, считаться настоящей иконой – художнику необходимо вхождение в жизнь и опыт Церкви. В письме к В. А. Жуковскому от 28 февраля 1850 года Гоголь, в частности, писал: «Друг, ты требуешь от меня изображений Палестины со всеми ее местными красками… Я думаю, что вместо меня всякий простой человек, даже русский мужичок, если только он с трепетом верующего сердца поклонился, обливаясь слезами, всякому уголку Святой Земли, может рассказать тебе более всего того, что тебе нужно». Подчеркивая превосходство живой жизни во Христе перед «рабским», «педантическим» следованием традиции, Гоголь 14 декабря (н. ст.) 1844 года писал С. П. Шевыреву о воспитании молодых людей: «Чаще будем изображать им настоящий Образец человека, Который есть совершеннейшее из всего, что увидел слабыми глазами своими мир… еще лучше, если мы даже и говорить им не будем о Нем, о Совершеннейшем, но заключим Его сами в душе своей, усвоим Его себе, внесем Его во все наши движения… Не нужно даже… и говорить: “Я скажу в таком-то духе”. Дух этот будет веять сам собою от каждого нашего слова».
Потому-то формальным попыткам художников-пуристов вернуться к дорафаэлевской традиции Гоголь предпочитал, подобно художнику «Портрета», более ощутимое – «для всех, отдалившихся от христианства» – «веяние духа» в созданиях «божественного Рафаэля». («…Есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: “Рассердясь на вши, да шубу в печь”… – писал, в частности, Гоголь в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» (1846) по поводу обвинений Пушкина в «нехристианстве», – через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу… Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму») еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гётте». Известно, что отрицательная оценка Уваровым европейского романтизма нашла отражение и в его официальном циркуляре от 27 июня 1832 года о борьбе с романтической литературой – как действующей на читателя ко вреду его «морального чувства и религиозных понятий» (<Стасов В. В.> Цензура в царствование Императора Николая 1//Русская Старина. 1903. № 3. С. 571–572). По мнению Ю. Г. Оксмана, на этом циркуляре основывалось позднее, в феврале 1834 года, запрещение гоголевского «Кровавого бандуриста», причисленного (сначала Н. И. Гречем, затем А. В. Никитенко) к произведениям «новейшей французской школы» (Оксман Ю. Кровавый бандурист (запрещенные страницы Гоголя)//Литературный музеум. Пг., 1921. Т. 1. С. 352; см. также: Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 545–546). Между тем, по замечанию П. Г. Паламарчука, «картины страданий» в «Кровавом бандуристе» были навеяны Гоголю не «новейшей французской школой», а украинскими летописями (Паламарчук П. Г. Примечания// Гоголь Н. В. Арабески. М., 1990. С. 20). Очевидно, цензуру ввело в заблуждение чисто внешнее сходство гоголевского отрывка с произведениями французских романтиков – точно так же, как позднее подобное сходство породило мнение исследователей о «романтизме» гоголевских «петербургских» повестей.
[Повтор текста, батенька Виноградов. И это отнюдь не типографская ошибка.] В этом смысле весьма примечательно изложенное Гоголем в «Портрете» эстетическое кредо русского художника, обучавшегося в Италии, который «стоял ни за… ни против пуристов… и, наконец, оставил себе в учители одного божественного Рафаэля». Строки нуждаются в некотором пояснении.
Пуристами называли в 1820-1840-х годах группу немецких религиозных художников во главе с Ф. Овербеком и П. Корнелиусом, известных также под названием «назарейцев» (от Назарета – городка в Галилее, где прошли детские и отроческие годы Спасителя). По словам М. П. Погодина, посетившего в 1839 году Овербека, немецкий художник был «очень привязан к Ж<уковскому>, с которым они сошлись во вкусе и понятиях о живописи, и соблазнили, вместе с Г<оголем>, и некоторых наших художников» (Погодин М. П. Год в чужих краях. М., 1844. Ч. 2. С. 136). Однако, по свидетельству П. В. Анненкова, общавшегося с Гоголем в Риме в 1841 году, Гоголь весьма критически отзывался о художниках-«назарейцах». Анненков вспоминал: «Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека, рассказывавшим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевской эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумье: “Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта”» (Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 70). Подтверждение этому свидетельству Анненкова можно найти у самого Гоголя в повести «Рим», где, говоря о постепенном знакомстве героя с древним Римом, он замечал, что приехавший после долгого отсутствия на родину римский князь изучал его «не так, как иностранец»-«педант», – «преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город, – нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могущий Средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век…».
Как можно судить из других высказываний Гоголя, в творчестве художников-«назарейцев» его не устраивало прежде всего внешнее подражание старым мастерам, изучение старины извне, без вживания в живую ткань Предания Церкви. «Пока в самом художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне», – замечал Гоголь в статье «Исторический живописец Иванов». Для достижения полноты «первобытного типа» иконы – без которого религиозное изображение не может, по убеждению Гоголя, считаться настоящей иконой – художнику необходимо вхождение в жизнь и опыт Церкви. В письме к В. А. Жуковскому от 28 февраля 1850 года Гоголь, в частности, писал: «Друг, ты требуешь от меня изображений Палестины со всеми ее местными красками… Я думаю, что вместо меня всякий простой человек, даже русский мужичок, если только он с трепетом верующего сердца поклонился, обливаясь слезами, всякому уголку Святой Земли, может рассказать тебе более всего того, что тебе нужно». Подчеркивая превосходство живой жизни во Христе перед «рабским», «педантическим» следованием традиции, Гоголь 14 декабря (н. ст.) 1844 года писал С. П. Шевыреву о воспитании молодых людей: «Чаще будем изображать им настоящий Образец человека, Который есть совершеннейшее из всего, что увидел слабыми глазами своими мир… еще лучше, если мы даже и говорить им не будем о Нем, о Совершеннейшем, но заключим Его сами в душе своей, усвоим Его себе, внесем Его во все наши движения… Не нужно даже… и говорить: “Я скажу в таком-то духе”. Дух этот будет веять сам собою от каждого нашего слова».
Потому-то формальным попыткам художников-пуристов вернуться к дорафаэлевской традиции Гоголь предпочитал, подобно художнику «Портрета», более ощутимое – «для всех, отдалившихся от христианства» – «веяние духа» в созданиях «божественного Рафаэля». («…Есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: “Рассердясь на вши, да шубу в печь”… – писал, в частности, Гоголь в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» (1846) по поводу обвинений Пушкина в «нехристианстве», – через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу… Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму».)[Конец повтора (Прим. компилятора)]
При этом сама оценка творчества Рафаэля проистекала у Гоголя из представления о глубоких византийских корнях итальянской живописи. В одной из своих исторических выписок начала 1830-х годов Гоголь отмечал: «Живописное искусство перешло из Византии в Русь прежде, нежели в Италию… Чимабуэ… обучаясь у греческих живописцев… воскресил это художество в своем отечестве» («Особые заметки») (Чимабуэ Джованни (ок. 1240 – ок. 1302) – итальянский живописец, творчество которого продолжает византийскую традицию, получившую развитие в Италии после взятия крестоносцами Константинополя в 1204 году). Как вспоминала А. О. Смирнова, Гоголь любил Рафаэля, сравнительно с другими итальянскими живописцами, именно за «сжатый строгий рисунок» и, в частности, выделял Джованни Беллини за «божественную наивность». Но так же, как к П. Перуджино, он относился к ним сдержанно, признавая, как указывалось, превосходство над итальянцами византийских иконописцев – «у которых краска ничего, а все в выражении и чувстве» (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 43).
Вероятно, именно об этом «выражении и чувстве» и упоминает рассказчик «Портрета», когда восхищается образом Пресвятой Богородицы, написанным старцем-монахом: «Я был поражен глубоким выражением божественности в Ее лице». (Об этом же «выражении божественности» Гоголь писал позднее и графине А. М. Виельгорской: «В древней иконописи, украшающей старинные наши церкви, есть удивительные лики и на ликах удивительные выражения»; письмо от 16 апреля 1849 года.)
К самому Гоголю вполне могут быть отнесены слова, высказанные в 1858 году А. С. Хомяковым о творчестве художника А. А. Иванова (Хомяков прямо утверждал, что Иванов был «в живописи тем же, чем Гоголь в слове»): «Иванов не впадал в ошибку современных нам до-Рафаэлистов. Он не подражал чужой простоте: он был искренно, а не актерски прост в художестве, и мог быть простым потому, что имел счастие принадлежать не пережитой односторонности латинства, а полноте Церкви, которая пережита быть не может» (Хомяков А. С. Картина Иванова. Письмо к редактору // Русская Беседа. 1858. Т. 3. С. 11). Характерно, что Болонскую академическую школу живописи XVI–XVIII веков – «самое разгульное» (по словам еще одного из друзей Гоголя, Ф. В. Чижова) «время искусства, когда очень мало заботились о сохранении священных преданий», – Гоголь прямо называл «пекарской» (подразумевая под этим ниспадение искусства к ремеслу) (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. С. 43). Подобная оценка западной религиозной живописи проистекала у Гоголя прежде всего из того, что Болонская школа, по словам П. В. Анненкова, «явясь после всех, получила в наследство опытность, но потеряла религиозное вдохновение, младенческую простоту и святость» (Анненков П. В. Письма из-за границы//Анненков П. В. Парижские письма. М., 1983. С. 25). Протопресвитер профессор В. В. Зеньковский в одной из своих ранних работ о Гоголе непосредственно указывал на развитие этой темы в гоголевском «Портрете»: «В Черткове… необычайно рельефно изображено потухание его дара под давлением твердеющих в нем привычек, которые не дают простора подлинному вдохновению. Контраст техники и вдохновения ведет к тому, что при торжестве техники замирает вдохновение…» (Зеньковский В. Я. проф. У прот. Гоголь и Достоевский//О Достоевском. Сб. статей / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929. С. 68).
Исходя из представлений Гоголя о глубоком нравственном падении современного «цивилизованного» общества можно заключить, что высокая оценка Гоголем Рафаэля – при одновременно критическом к нему отношении – объясняется во многом именно стремлением отстоять и противопоставить светское искусство Ренессанса откровенно развращающему воздействию на человека новейшего «ремесла» – в частности, позднейшей, послерафаэлевской живописи. Не случайно модный живописец Чартков в «Портрете», льстящий развращенным вкусам заказчиков, замечает, что художники «до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не все хорошо».
При всей, однако, апологии у Гоголя рафаэлевского творчества (объясняющейся задачами критики новейшей ремесленной живописи) можно опять-таки и в «Портрете» найти строки, прямо соответствующие сказанному Гоголем в беседе с А. О. Смирновой о «наших византийцах» – превосходящих своим «выражением и чувством» самого Рафаэля. (Суть скептического отношения Гоголя к западной живописи – как дорафаэлевской, так и послерафаэлевской эпохи – при безусловном предпочтении им византийской иконописи, хорошо проясняют строки его статьи о русской поэзии в «Переписке с друзьями»: «Есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеющее только пред одним нестареющим и вечным».)
Предпочтение Гоголем Рафаэлю «наших византийцев» отзывается в «Портрете» в размышлениях автора о русском художнике, который «веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты». Опять-таки об этом «высоком выраженье» размышлял, очевидно, Гоголь, и когда писал в «Портрете» о «свете какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли», – без которого «самая природа» в картине художника, тщательно ей следующего, «кажется низкою, грязною», – «нет в ней чего-то озаряющего».
Примечательно, что неудачу самого художника-иконописца в исполнении важного заказа для «вновь отстроенной богатой церкви» Гоголь тоже объяснял тем, что, утратив присущие обычно этому художнику благочестивые чувства, тот задался целью превзойти своих товарищей исключительно внешним мастерством, уподобившись тем самым «блестящим», но бесплодным в духовном отношении «талантам», которых раньше превосходил. На это указывает в «Портрете» отзыв некой «духовной особы» о написанной им тогда картине: «В картине художника, точно, есть много таланта… но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах…» Вероятно, в основу этого эпизода Гоголь положил реальный случай с художником Ф. А. Бруни, талант которого Гоголь находил в 1841 году даже «более зрелым», чем блестящий, эффектный талант К. П. Брюллова (см.: Лит. наследство. Т. 58. С. 608) (отдельные черты Брюллова Гоголь использовал тогда при создании образа модного живописца Чарткова; см.: Алпатов М. В. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество: В 2 т. М., 1956. Т. 1. С. 224, 404). В 1838 году в картине Ф. А. Бруни, написанной для возобновлявшейся после пожара 17 декабря 1837 года церкви Зимнего дворца, Император Николай I увидел демоническое выражение. Об этом случае вспоминал позднее ученик К. П. Брюллова художник М. И. Железнов: «Ф. А. Бруни написал на холсте четыре колоссальные фигуры Евангелистов для возобновлявшейся после пожара большой церкви Зимнего дворца и, по окончании их, уехал в Рим. После его отъезда Государь посетил Академию и пошел по мастерским… Взглянув на голову фигуры Евангелиста Иоанна Богослова, <он> громко воскликнул: “Ну, этой головы оставить нельзя. Это ч… а не Евангелист!”» (Заметка о К. П. Брюллове (из воспоминаний М. И. Железнова) I/ Живописное Обозрение. 1898. № 30. С. 603–604). Об этом эпизоде вспоминал и другой современник, Н. И. Сазонов: «…Бруни, находившийся в Риме, послал в Академию художеств ряд картин, и Императора пригласили их посмотреть. Николай отправился в Академию и после осмотра одной из картин… сказал: “Бруни развращается в Италии; у его ангелов нет святости во взоре…”» (Сазонов Н. И. Правда об Императоре Николае (1854) / Пер. с фр. под ред. П. П. Щеголева. Козьмин Б. Из литературного наследства Н. И. Сазонова//Лит. наследство. Т. 41–42. М., 1941. С. 216–217. См. также: Заметки и воспоминания художника-живописца М. Меликова//Русская Старина. 1896. № 6).
В статье «Исторический живописец Иванов» в соответствии с размышлениями о тщетности мастерского живописного исполнения картины при отсутствии в ней подлинного духовного содержания (когда художник черпает поэзию «вокруг себя», но не имеет ее «в себе», по словам Гоголя в письме к М. П. Балабиной от 5 сентября (н. ст.) 1839 года) Гоголь замечал: «Иванов сделал все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины… лица… ландшафтная часть… все изобразил, чему только нашел образец. Но как изобразить то, чему еще не нашел художник образца?.. Иванов молил Бога… чтобы огнем благодати испепелил в нем ту черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди…» Подобным образом и в самом «Портрете» не благодаря совершенствованию техники живописи, но подвигами покаяния, поста и молитвы, и не поездкой в «красавицу» Италию, но удалением в уединенный северный монастырь, «монастырь посреди природы бледной, обнаженной», но своим «осенним» видом «собирающей рассеявшиеся мысли», обретает «благословенье небес» на свой труд очистивший свою душу монах-художник.
Очевидна и иерархия картин, созданных двумя «идеальными» художниками «Портрета». В описании первой, принадлежащей художнику, «усовершенствовавшемуся» в Италии, рассказчик обращает внимание на «высокое благородство положений», «окончательное совершенство кисти», «плывучую округлость линий» – указывает прежде всего на «гениальность» художника – как в изучении Рафаэля и Корреджио, так и в наблюдении над природой («во всем постигнут закон и внутренняя сила»). Вторая картина написана, как отмечает рассказчик, художником, тоже вполне постигнувшим «присутствие мысли в каждом предмете», осознавшим «истинное значение слова “историческая живопись”» («почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью»), однако преимущественно посвятившим свою кисть не изображению природы, но изначально обратившимся «к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого». Очевидно, что картина первого, прошедшего выучку в Италии художника по самому предмету изображения уступает созданию художника-аскета. Потому-то в картине последнего подчеркивается уже не столько мастерство исполнения, сколько то, чего не могли достичь, при всем своем совершенстве, «даже значительные художники» (что, по словам рассказчика, он «очень редко встречал даже в картинах известных художников»), – именно «то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты».
Несомненно, подлинное назначение искусства, по Гоголю, – это прежде всего иконопись, создание образа для подражания. Оторвавшись от своего настоящего призвания, модный художник в «Портрете» становится, по Гоголю, создателем не икон – образцов, достойных поклонения, но, напротив, «образов» отверженного мира, «идеалов» растлительных, пагубных – идолов. На это «иконографическое» начало в деятельности петербургского художника указывают в «Портрете» строки заказанной Чартковым «ходячей газете» рекламной статьи, в которой говорится о способности новоявленного художника достойным образом перенести «прекраснейшие физиогномии» петербургских обывателей «на чудотворный холст, для передачи потомству».
Идя на поводу тщеславного желания падшего человека служить образцом для других, стать предметом поклонения и обожания («обожения»), художник «Портрета» как бы наглядно иллюстрирует рассказ из Книги Премудрости Соломона о происхождении идолопоклонства: «Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали: делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему… К усилению же почитания… поощряло тщание художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее; а народ, увлеченный красотою отделки, незадолго пред тем почитаемого, как человека, признал теперь божеством».
В точном соответствии с этим библейским повествованием Гоголь изображает в «Портрете» и последствия почитания произведенных таким образом «идеалов»: «И это было соблазном для людей… они не берегут ни жизни, ни чистых браков… Всеми… обладают кровь и убийство, хищение и коварство, растление… и распутство» (Прем. 14, 21, 24–26). Именно на этот результат «художнической» деятельности указывают у Гоголя строки газетного объявления «О необыкновенных талантах Чарткова»: «Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам». Об этих «мотыльках» и упоминает Гоголь в описании праздной толпы обольстительного Невского проспекта– «главной выставки» грациозных «талий», «хорошеньких глазок» и «ножек в очаровательных башмачках»: «Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола».
Привлеченная газетным объявлением светская петербургская дама вполне восхищена возможностью увидеть свою дочь в одном из соблазнительных образов языческого пантеона – именно «в виде Психеи». Ей и самой, по замечанию рассказчика, хотелось бы предстать «в виде какой-нибудь Психеи» – «чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться». «Знаете ли… – сообщает дама художнику Чарткову, заказывая ему портрет своей дочери, – на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье…» – «…к которому мы так привыкли…» – как бы поправляется она, скрывая невольно высказанную мысль.
Довольно быстро в своем ниспадении к доходному ремеслу художник Чартков «добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько… Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса, кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положенье и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия…».
Как бы подводя итог этим размышлениям, Гоголь замечал позднее в «Переписке с друзьями» о характере русской поэзии: «Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время свыше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству». Поэтому, выступая в 1830-1840-х годах вместе с С. П. Шевыревым против распространения в литературе европейского, так называемого «торгового», направления, Гоголь считал более важным указать не столько на низменные мотивы деятельности корыстолюбивого художника-«ремесленника» (которые беззастенчиво провозглашала петербургская «ходячая газета»: «Виват, Андрей Петрович… Прославляйте себя и нас… Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою»), сколько на развращающее влияние в обществе низкопробных произведений, созданных этими «художниками». По словам Гоголя в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», Шевырев «обратил внимание не на главный предмет… Он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара… Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою».








