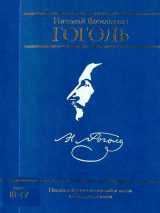
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том III. Повести. Том IV. Комедии"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 47 страниц)
В порыве душевной жалости готов он был даже лить слезы. Но утешительная, величественная мысль приходила сама к нему в душу, и чуял он другим, высшим чутьем, что не умерла Италия[306]306
…не умерла Италия… – Размышления Гоголя о «вечном владычестве» Италии над миром повторяют соответствующие положения лекции М. П. Погодина, опубликованной 1834 г. в первом номере основанного С. С. Уваровым «Журнала Министерства Народного Просвещения». «Рим, – писал Погодин, – силою своего оружия, силою физическою, покорил себе древний мир. Но в свою очередь он состарился… и престол Марка Аврелия занят диким Герулом… Не встать, казалось бы, Риму из своих развалин.
Нет – именно в то же время основывается другая власть Римлян, и Григорий VII, вращая в руках своих меч духовный, призывает к своему суду Царей и народы, и Рим делается опять столицею мира.
Но и духовная власть склоняется к падению… униженные Первосвященники лишаются своей власти над народами, принявшими новое учение, и средний Рим пал. Но в ту минуту как отважный Профессор жжет Папскую буллу, Микель-Анджело сводит купол в церкви Св. Петра, Рафаэль пишет Преображение, слышится новая музыка, и Рим делается всемирным храмом Искусства. Неужели здесь нет никакой судьбы?.. Не имеют ли все сии происшествия… явственных признаков какого-то высшего происхождения? Не чувствуем ли мы, рассматривая оные, что в явлениях мира сего действуют не одни люди, а еще Кто-то?» (О всеобщей истории. Лекция г. Погодина при вступлении в должность Ординарного Профессора в Императорском Московском Университете //Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. Nq 1. С. 38–39).
[Закрыть], что слышится ее неотразимое вечное владычество над всем миром, что вечно веет над нею ее великий гений, уже в самом начале завязавший в груди ее судьбу Европы, внесший крест в европейские темные леса, захвативший гражданским багром на дальнем краю их дикообразного человека, закипевший здесь впервые всемирной торговлей, хитрой политикой и сложностью гражданских пружин, вознесшийся потом всем блеском ума, венчавший чело свое святым венцом поэзии и, когда уже политическое влияние Италии стало исчезать, развернувшийся над миром торжественными дивами – искусствами, подарившими человеку неведомые наслажденья и божественные чувства, которые дотоле не подымались из лона души его. Когда же и век искусства сокрылся и к нему охладели погруженные в расчеты люди, он веет и разносится над миром в завывающих воплях музыки, и на берегах Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземного, Черного моря, в стенах Алжира и на отдаленных, еще недавно диких, островах гремят восторженные плески звонким певцам. Наконец, самой ветхостью и разрушеньем своим он грозно владычествует ныне в мире: эти величавые архитектурные чуда остались, как призраки, чтобы попрекнуть Европу в ее китайской мелочной роскоши, в игрушечном раздроблении мысли. И самое это чудное собрание отживших миров, и прелесть соединенья их с вечно цветущей природой – все существует для того, чтобы будить мир, чтоб жителю севера, как сквозь сон, представлялся иногда этот юг, чтоб мечта о нем вырывала его из среды хладной жизни, преданной занятиям, очерствляющим душу, – вырывала бы его оттуда, блеснув ему нежданно уносящею вдаль перспективой, колизейскою ночью при луне, прекрасно умирающей Венецией, невидимым небесным блеском и теплыми поцелуями чудесного воздуха, – чтобы хоть раз в жизни был он прекрасным человеком..
В такую торжественную минуту он примирялся с разрушеньем своего отечества, и зрелись тогда ему во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный Творец. В такие минуты он даже весьма часто задумывался над нынешним значением римского народа. Он видел в нем материал еще непочатый. Еще ни разу не играл он роли в блестящую эпоху Италии. Отмечали на страницах истории имена свои папы да аристократические домы, но народ оставался незаметен. Его не зацеплял ход двигавшихся внутри и вне его интересов. Его не коснулось образованье и не взметнуло вихрем сокрытые в нем силы. В его природе заключалось что-то младенчески благородное. Эта гордость римским именем, вследствие которой часть города, считая себя потомками древних квиритов[307]307
Квириты – древнее наименование римских граждан.
[Закрыть], никогда не вступала в брачные союзы с другими. Эти черты характера, смешанного из добродушия и страстей, показывающие светлую его натуру: никогда римлянин не забывал ни зла, ни добра, он или добрый или злой, или расточитель или скряга, в нем добродетели и пороки в своих самородных слоях и не смешались, как у образованного человека, в неопределенные образы, у которого всяких страстишек понемногу под верховным начальством эгоизма. Эта невоздержность и порыв развернуться на все деньги, – замашка сильных народов, – все это имело для него значение. Эта светлая непритворная веселость, которой теперь нет у других народов: везде, где он ни был, ему казалось, что стараются тешить народ; здесь, напротив, он тешится сам. Он сам хочет быть участником, его насилу удержишь в карнавале; все, что ни накоплено им в продолжение года, он готов промотать в эти полторы недели; все усадит он на один наряд: оденется паяцом, женщиной, поэтом, доктором, графом, врет чепуху и лекции и слушающему и неслушающему, – и веселость эта обнимает, как вихорь, всех – от сорокалетнего до ребятишки: последний бобыль, которому не во что одеться, выворачивает себе куртку, вымазывает лицо углем и бежит туда же, в пеструю кучу. И веселость эта прямо из его природы; ею не хмель действует, – тот же самый народ освищет пьяного, если встретит его на улице. Потом черты природного художественного инстинкта и чувства: он видел, как простая женщина указывала художнику погрешность в его картине; он видел, как выражалось невольно это чувство в живописных одеждах, в церковных убранствах, как в Дженсано народ убирал цветочными коврами улицы[308]308
…в Дженсано народ убирал цветочными коврами улицы… – Дженсано– городок близ Альбано, где на 12-й день после празднования Пресвятой Троицы справляли праздник цветов.
В 1778 г. братьями Леофредди был найден остроумный способ соединения в мозаичную картину лепестков и листочков разных цветов и разработана «технология» их хранения в сырых прохладных гротах, выбитых в скалах (см. об этом: Паклин Н. А. Русские в Италии. М., 1990. С. 59). Описание этого праздника содержится в письме Гоголя к сестрам от 30 июня (н. ст.) 1838 г.: «…я вам расскажу кое-что о празднике, который был на днях в 30-ти верстах от Рима… праздник этот называется fiorata, то есть цветочный. Вообразите, что все улицы в городе были устланы и вымощены цветами. Но не подумайте, чтобы цветы были набросаны просто. Совсем нет. Вы не узнаете, что это цветы; вы подумаете, что это ковры разостланы по улице и на этих коврах множество разных изображений, и все это выложено из цветов: гербы, вазы, множество разных узоров и даже наконец портрет папы. Вид удивительный. Все улицы, окна, двери – все это было полно народом. По всем этим цветам должна была пройти процессия, начиная от двух церквей, и обойти весь город».
[Закрыть], как разноцветные листики цветов обращались в краски и тени, на мостовой выходили узоры, кардинальские гербы, портрет папы, вензеля, птицы, звери и арабески. Как накануне Светлого Воскресенья продавцы съестных припасов, пицикаролы, убирали свои лавчонки[309]309
…накануне Светлого Воскресенья… пицикаролы… убирали свои лавчонки… – Речь идет о так называемом «празднике колбас». В. В. Стасов 18/30 апреля – 2 мая 1852 г. писал своей тетке А. А. Сучковой о своем тогдашнем пребывании в Риме: «В Субботу вечером, накануне Пасхи, я был в кондитерской Nazzari… рассуждали о смерти Гоголя, стихах Некрасова и письме <В. П.> Боткина, написанных по этому случаю, как вдруг прибежал к нам живописец Иванов… и рассказал, что сейчас же надобно ехать по всему Риму смотреть праздник колбас. Взяли коляску и поехали мы впятером по всем улицам римским, где только есть большие колбасные, – а в итальянских городах они на каждом шагу. Вы не вздумайте судить о них по Петербургским – и сравнения никакого нет с нашими. – Нет… итальянская колбасная лавка может быть сравнена только разве с мясной лавкой в Лондоне, а это почти что все равно, что Парижская кондитерская… В Италии нет таких окон, таких стекол, напротив колбасные лавки скорее темные, потому что загромождены до такой степени, но какая чистота, а главное – какая живописность! В Пятницу же и Субботу Страстной недели, в Риме, эти лавки в самом деле в настоящем своем празднике, точно театр в бенефис. У дверей и потом в лавке выставлены упирающиеся в высокий потолок толстые колонны из кругов сыра, темно-зеленые (потому что наружная корка у пармезана этого цвета) и перевитые зеленью. Весь потолок представляется точно резной выпуклый (как во всех итальянских palazzi XIV, XV и XVI веков), потому что плотно и сжато навешаны целые сотни маленьких окороков и толстых болонских колбас. Свиное сало… стоит по стенам, точно квадратные большие белые полотна, со звездочками и разными фигурами из цветной бумаги, налепленными на них. Над маслом точно настоящие скульпторы работали и вылепили, и вырезали из него сто разных групп, орнаментов, статуй и фигур маленьких: из него сделаны и агнец Пасхальный, и Иисус Христос, и апостолы, и фонтаны, из которых бьет вода, – обложено все зеленью, свежею и яркою, а сосиски висят везде в лавке и в дверях на улицу цепями, гирляндами. Бесчисленные маленькие восковые свечки горят везде между сырами, зеленью, белым блестящим салом и делают в этой лавке такой свет, какой бывает в бальной зале. Но, что всего лучше, в этой бенефисной, расцвеченной всеми красками и сияющей комнате, это перспектива яицУ прямо против самых дверей. На аршина 1 7 от полу, в четвероугольной пещерке, прорытой между салом и ветчинами, лежат в один ряд бесчисленные яйца, в глубине пещерки установлено зеркальцо, которого никогда не увидишь сам и не догадаешься, если не расскажут; делается от этого зеркала перспектива яиц точно в версту длиной, вся освещенная опять-таки огоньками; еще с улицы увидишь эту прелесть и остановишься поневоле с десятками мальчиков, девочек и чудесных самых римлянок стоять у дверей, рассматривать этот необыкновенный итальянский праздник колбас. В этот вечер я вылезал 50 раз, я думаю, из коляски – смотреть каждую лавочку, и еще больше те лица и те глаза, которые разглядывали эти лавочки» (Сборник Пушкинского Дома на 1923 год. Пг., 1922. С. 267–268). Пицикароло (ит. pizzicagnolo) – мясник, колбасник; хозяин продовольственной лавки
[Закрыть]: свиные окорока, колбасы, белые пузыри, лимоны и листья обращались в мозаику и составляли плафон; круги пармезанов и других сыров, ложась один на другой, становились в колонны; из сальных свечей составлялась бахрома мозаичного занавеса, драпировавшего внутренние стены; из сала, белого как снег, отливались целые статуи, исторические группы христианских и библейских содержаний, которые изумленный зритель принимал за алебастровые, – вся лавочка обращалась в светлый храм, сияя позлащенными звездами, искусно освещаясь развешанными шкаликами и отражая зеркалами бесконечные кучи яиц. Для всего этого нужно было присутствие вкуса, и пицикароло делал это не из каких-нибудь доходов, но для того, чтобы полюбовались другие и полюбоваться самому. Наконец, народ, в котором живет чувство собственного достоинства: здесь он il popolo[310]310
ilpopolo (ит.) – народ.
[Закрыть], а не чернь, и носит в своей природе прямые начала времен первоначальных квиритов; его не могли даже совратить наезды иностранцев, развратителей недействующих наций, порождающие по трактирам и дорогам презреннейший класс людей, по которым путешественник произносит часто суждение обо всем народе. Самая нелепость правительственных постановлений, эта бессвязная куча всяких законов, возникших во все времена и отношенья и не уничтоженных поныне, между которыми даже есть эдикты[311]311
Эдикт – в Древнем Риме: предписание, приказание должностного лица.
[Закрыть] времен древней римской республики, – все это не искоренило высокого чувства справедливости в народе. Он порицает неправедного притязателя, освистывает гроб покойника[312]312
…освистывает гроб покойника… – П. В. Анненков в одном из своих «Писем из-за границы», написанном 3 сентября 1841 г. во Флоренции (спустя полтора месяца после отъезда из Рима 19 июля) и опубликованном в том же году в № 10 «Отечественных Записок» (ценз. разр. 30 сент.), замечал: «Буйные порывы римской черни, случающиеся очень часто и напоминающие времена итальянских республик средних веков, значительны тем, что это обыкновенно осуждение какого-нибудь преступления, не подлежащего законам. Так, когда принчипе <князь; итал.> Дориа обольстил девушку обещанием жениться на ней и привел к смерти обманом и изменой, народ своротил погребальную процессию жертвы с настоящей дороги и заставил ее пройти мимо дворца принчипе, который после этого и уехал из Рима. Да и сам я был свидетелем, как жестоко был освистан гроб другого принчипе, Пиомбино, не любимого за скупость и который запер свою великолепную виллу Людовизи и не пускал никого смотреть знаменитые статуи и фрески. Освистали мертвого, освистали совершенно, хоть полиция наверное знала, что Пиомбино будет освистан» (Анненков П. В. Письма из-за границы. С. 31).
Роман Дориа, окончившийся смертью девушки, относится к 1838 г.
Об этом случае Анненков, приехавший в Рим весной 1841 г., вероятно, слышал от самого Гоголя, который 7 ноября (н. ст.) 1838 г. писал М. П. Балабиной: «Другой роман. Один из фамилии Дориев влюбился до безумия в одну девушку-сироту хорошей, впрочем, фамилии, а главное – прекрасную собою. Все дело было между ними улажено, и через неделю свадьба, как вдруг Дорий получает известия, заставляющие его ехать в Геную. Он просит свою невесту переехать на время в монастырь, потому что он не желал бы ее видеть до тех пор в свете. Уезжает в Геную; оттуда пишет письмо, довольно страстное; жалуется на обстоятельства, которые заставляют его пробыть немного долее; описывает ей великолепие своего генуэзского дворца и приуготовления, которые он делает к принятию ее. Из Генуи Дориа поехал в Париж и оттуда написал письмо, менее страстное, и наконец уведомил ее, что свадьба не может между ними состояться, что она должна позабыть его, что дядя его не соглашается на этот союз. Бедная невеста не сказала ни слова на это, никаких укоризн, но через пять дней умерла. Тело ее было выставлено в одной из римских церквей. Она и мертвая была прекрасна». В бумагах П. А. Кулиша сохранились неопубликованные воспоминания о Гоголе графа А. К. Толстого, касающиеся этого случая: «А. К. Толстой о Гоголе: …когда умерла невеста Дория, транстеверяне отправили посольство к родственникам – сожаление – ко дворцу – ругательствами – швыряли в окна. (Рас<с>просить вновь.)» (РГБ. Ф. 74. К. 11. Ед. хр. 56. Л. 1).
[Закрыть] и впрягается великодушно в колесницу, везущую тело, любезное народу. Самые поступки духовенства, часто соблазнительные, произведшие бы в других местах разврат, почти не действуют на него: он умеет отделить религию от лицемерных исполнителей и не заразился холодной мыслью неверия. Наконец, самая нужда и бедность, неизбежный удел стоячего государства, не ведут его к мрачному злодейству: он весел и переносит все, и только в романах да повестях режет по улицам. Все это показывало ему стихии народа сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди. Европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования. Самое духовное правительство, этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния, чтоб никто из честолюбивых соседей не посягнул на его личность, чтобы до времени таилась его гордая народность. Притом здесь, в Риме, не слышалось что-то умершее; в самых развалинах и великолепной бедности Рима не было того томительного, проникающего чувства, которым объемлется невольно человек, созерцающий памятники заживо умирающей нации. Тут противоположное чувство; тут ясное, торжественное спокойство. И всякий раз, соображая все это, князь предавался невольно размышлениям и стал подозревать какое-то таинственное значение в слове «вечный Рим».
Итог всего этого был тот, что он старался узнавать более и более свой народ. Он его следил на улицах, в кафе, где в каждом были свои посетители: в одном антикварии, в другом стрелки и охотники, в третьем кардинальские слуги, в четвертом художники, в пятом вся римская молодежь и римское щегольство; следил в остериях, чисто римских остериях, куда не заходит иностранец, где римский nobile[313]313
nobile (ит.) – знатный человек, дворянин.
[Закрыть] садится иногда рядом с миненте и общество скидает с себя сюртуки и галстуки в жаркие дни; следил его в загородных живописно-невзрачных трактиришках с воздушными окнами без стекол, куда фамилиями и компаниями наезжали римляне обедать, или, по их выражению, far allegria[314]314
…far allegria (ит.) – веселиться.
[Закрыть]. Он садился и обедал вместе с ними, вмешивался охотно в разговор, дивясь весьма часто простому здравомыслию и живой оригинальности рассказа простых, неграмотных горожан. Но более всего он имел случай узнавать его во время церемоний и празднеств, когда всплывает наверх все народонаселение Рима и вдруг показывается несметное множество дотоле неподозреваемых красавиц, – красавиц, которых образы мелькают только в барельефах да в древних антологических стихотворениях.[315]315
…древних антологических стихотворениях. – Антологиями назывались в начале XIX в. определенные (немногочисленные) сборники произведений античных авторов, состоящие из коротких стихотворений чувственного характера. См. характеристику этого жанра в гоголевской «Учебной книге словесности для русского юношества» (1845), в разделе «О поэзии лирической»: «Она обширна и объемлет собою всю внутреннюю биографию человека, начиная от его высоких движений, в оде, и до почти прозаических и чувственных в мелком антологическом стихотворении…»
[Закрыть] Эти полные взоры, алебастровые плечи, смолистые волосы, в тысяче разных образов поднятые на голову или опрокинутые назад, картинно пронзенные насквозь золотой стрелой, руки, гордая походка, везде черты и намеки на серьезную классическую красоту, а не легкую прелесть грациозных женщин. Тут женщины казались подобны зданьям в Италии: они или дворцы или лачужки, или красавицы или безобразные; середины нет между ними: хорошеньких нет. Он ими наслаждался, как наслаждался в прекрасной поэме стихами, выбившимися из ряда других и насылавшими свежительную дрожь на душу.
Но скоро к таким наслажденьям присоединилось чувство, объявившее сильную борьбу всем прочим, – чувство, которое вызвало из душевного дна сильные человеческие страсти, подымающие демократический бунт против высокого единодержавия души: он увидел Аннунциату. И вот таким образом мы добрались наконец до светлого образа, который озарил начало нашей повести.
Это было во время карнавала.
– Сегодня я не пойду на Корсо, – сказал принчипе своему maestro di casa, выходя из дому, – мне надоедает карнавал, мне лучше нравятся летние праздники и церемонии…
– Но разве это карнавал? – сказал старик. – Это карнавал ребят. Я помню карнавал: когда по всему Корсо ни одной кареты не было и всю ночь гремела по улицам музыка; когда живописцы, архитекторы и скульпторы выдумывали целые группы, истории; когда народ, – князь понимает: весь народ, все – все золотильщики, рамщики, мозаичисты, прекрасные женщины, вся синьория, все nobili, все, все, все… о quanta allegria![316]316
…о quanta allegria! (ит.) – О, какое веселье!
[Закрыть] Вот когда был карнавал так карнавал, а теперь что за карнавал? Э! – сказал старик и пожал плечами, потом опять сказал: – Э! – и пожал плечами; и потом уже произнес: – Е una porcheria[317]317
…Е ипаporcheria (ит.) – Одно свинство.
[Закрыть].
Затем maestro di casa в душевном порыве сделал необыкновенно сильный жест рукою, но утишился, увидев, что князя давно пред ним не было. Он был уже на улице. Не желая участвовать в карнавале, он не взял с собой ни маски, ни железной сетки на лицо и, забросившись плащом, хотел только пробраться через Корсо на другую половину города. Но народная толпа была слишком густа. Едва только продрался он между двух человек, как уже попотчевали его сверху мукой; пестрый арлекин ударил его по плечу трещоткою, пролетев мимо с своей коломбиною; конфетти и пучки цветов полетели ему в глаза; с двух сторон стали ему жужжать в уши: с одной стороны граф, с другой медик, читавший ему длинную лекцию о том, что у него находится в желудочной кишке. Пробиться между них не было сил, потому что народная толпа возросла; цепь экипажей, уже не будучи в возможности двинуться, остановилась. Внимание толпы занял какой-то смельчак, шагавший на ходулях вравне с домами, рискуя всякую минуту быть сбитым с ног и грохнуться насмерть о мостовую. Но об этом, кажется, у него не было забот. Он тащил на плечах чучело великана, придерживая его одной рукою, неся в другой написанный на бумаге сонет с приделанным к нему бумажным хвостом, какой бывает у бумажного змея, и крича во весь голос: «Ессо il gran poeta morto. Ecco il suo sonetto colla coda!» («Вот умерший великий поэт! вот его сонет с хвостом!»)[318]318
В итальянской поэзии существует род стихотворенья, известного под именем сонета с хвостом (con la coda), – когда мысль не вместилась и ведет за собою прибавление, которое часто бывает длиннее самого сонета.
[Закрыть]. Этот смельчак сгустил за собою толпу до такой степени, что князь едва мог перевести дух. Наконец вся толпа двинулась вперед за мертвым поэтом; цепь экипажей тронулась, чему он обрадовался сильно, хоть народное движение сбило с него шляпу, которую он теперь бросился подымать.
⠀⠀ ⠀⠀
Римский карнавал. 1884
Василий Иванович Суриков (1848–1916)
Эскиз. Бумага, акварель
Третьяковская галерея

Поднявши шляпу, он поднял вместе и глаза и остолбенел: перед ним стояла неслыханная красавица. Она была в сияющем альбанском наряде, в ряду двух других, тоже прекрасных женщин, которые были пред ней, как ночь пред днем. Это было чудо в высшей степени. Все должно было померкнуть пред этим блеском. Глядя на нее, становилось ясно, почему итальянские поэты и сравнивают красавиц с солнцем. Это именно было солнце, полная красота. Все, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, все это собралось сюда вместе. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее руки были для того, чтобы всякого обратить в художника, – как художник, глядел бы он на них вечно, не смея дохнуть. Пред ее ногами показались бы щепками ноги англичанок, немок, француженок и женщин всех других наций; одни только древние ваятели удержали высокую идею красоты их в своих статуях. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить! Тут не нужно было иметь какой-нибудь особенный вкус: тут все вкусы должны были сойтиться, все должны были повергнуться ниц: и верующий и неверующий упали бы пред ней, как пред внезапным появленьем божества. Он видел, как весь народ, сколько его там ни было, загляделся на нее, как женщины выразили невольное изумленье на своих лицах, смешанное с наслажденьем, и повторяли: «О bella![319]319
…«О bella!» (ит.) – О красавица!
[Закрыть]» – как все, что ни было, казалось, превратилось в художника и смотрело пристально на одну ее. Но в лице красавицы написано было только одно вниманье к карнавалу: она смотрела только на толпу и на маски, не замечая обращенных на нее глаз, едва слушая стоявших позади ее мужчин в бархатных куртках, вероятно родственников, пришедших вместе с ними. Князь принимался было расспрашивать у близ стоявших около себя, кто была такая чудная красавица и откуда. Но везде получал в ответ одно только пожатье плечьми, сопровождаемое жестом, и слова: «Не знаю, должно быть, иностранка»[320]320
«Не знаю, должно быть, иностранка». – Римляне всех, кто не живет в Риме, называют иностранцами… хотя бы они обитали в десяти милях от города.(Прим. авт.) – Предположение о том, что встреченная юным князем незнакомка является «иностранкой», явно тревожит героя, принадлежащего, как замечает автор, к одной из древнейших римских фамилий и вполне разделяющего ту «гордость римским именем, вследствие которой часть города, считая себя потомками древних квиритов, никогда не вступала в брачные союзы с другими». Князь про себя повторяет: «Она римлянка. Такая женщина могла только родиться в Риме». В апреле 1838 г. Гоголь писал М. П. Балабиной: «Знакомы ли… вы с транстеверянами, то есть с жителями по ту сторону Тибра, которые так горды своим чистым римским происхождением… Никогда еще транстеверянин не женился на иностранке (а иностранкой называется всякая, что только не в городе их)…» (Трастевере – район Рима на правом берегу Тибра.) С замыслом «Рима» перекликается содержание жанровой акварели А. А. Иванова «Жених, выбирающий кольцо для невесты» (1839; авторское повторение этой акварели принадлежало Гоголю и было подарено им в 1844 г. А. О. Смирновой). На акварели изображен трастеверянин, его невеста-альбанка (из Альбано – города в 30 км от Рима) и ее матушка. Очевидно, что женитьба трастеверянина на альбанке – живущей еще далее «десяти миль от города» – представляет собой его грехопадение. Завершение этого сюжета можно увидеть у того же Иванова в созданных им одновременно с «Женихом..» жанровых рисунках «Пристань на Ripetta с угловой Мадонной и поющей перед нею Ave Maria толпой» – с образами кающегося мужчины на коленях и женщины с младенцем. Здесь вновь обнаруживаются переклички с гоголевским «Римом». Молодой римский князь у Гоголя дважды встречает здесь свою красавицу-альбанку: первый раз на карнавале – во время «удивительно счастливое» для любовных «интриг» (по замечанию Гоголя в письме к А. С. Данилевскому от 2 февраля (н. ст.) 1838 г.); второй раз – по завершении карнавала, за «полтора часа… до Ave Maria», т. е. до начала богослужения, до начала покаяния. Следует при этом подчеркнуть, что время совпадающего с русской масленицей карнавала – разгар всеобщего «танца» – это в свою очередь не праздник, а неделя, являющаяся, согласно установлениям Церкви, преддверием Великого поста, началом подвигов воздержания. «Наступающие дни Масленицы, – пишет преподобный Феодор Студит (739–826), – обыкновенно считаются у людей какими-то праздничными, по причине бывающих тут пиров и гуляний, не разумея, что дни сии чрез воздержание от мясоястия возвещают об общем воздержании, а не о пресыщении и пьянстве» (Добротолюбие. М., 1901. Т. 4. С. 305). И именно в это время римский князь встречает свою красавицу, – причем, по замыслу Гоголя, это не является для него случайностью, поскольку герой, подобно многим другим веселящимся обитателям Рима, не следует установлениям Церкви (в письме к М. П. Балабиной от апреля 1838 г. Гоголь даже упоминает о прямом запрещении папой Григорием XVI карнавала в Риме в 1837 г.). Герой, напротив, «наслаждается» лицезрением римских «соблазнительных граций» «во время церемоний и празднеств» – т. е. во время религиозных праздников и богослужений.
Развитая Гоголем (в «Риме») и Ивановым (в цикле жанровых акварелей) тема имела для них особый смысл. Браки с итальянками заключали в Риме многие из их русских друзей-художников. Примечательна судьба уважаемого Ивановым О. А. Кипренского, незадолго до смерти перешедшего в католичество, чтобы жениться на своей натурщице Мариучче Фалькуччи. Прославленной красавицей из Альбано Витторией Кальдони (ставшей прототипом гоголевской кра-савицы-«пантеры» Аннунциаты) увлекался сам Иванов. На Виттории женился друг Иванова, художник Г. И. Лапченко. Сам же Иванов советовал в конце 1830-х гг. Лапченко отказаться от мысли о женитьбе и «не жертвовать собой». «Ее оставление Италии и дома родительского, невежественное насильство матери, которую непременно ты должен будешь принять в сердце твое вместе с супругой, может быть, и другие недостатки, коих влюбленный глаз не видит, суть также весьма не благоприятны твоему счастию». Более драматическими были отношения между художником Ф. А. фон Моллером, общим приятелем Гоголя и Иванова, и его возлюбленной Амалией Лавиньи, семья которой беззастенчиво эксплуатировала художника. В феврале 1842 г. Иванов писал Гоголю о взаимоотношениях Моллера с его натурщицей: «Как бы желал я их развести для пользы искусства, для его здоровья, для целости денег и чтоб очистить от позорного дому». В конце февраля у Амалии родился сын, а в мае 1843-го она умерла. «Амалия вот уже неделя, как не существует, – пишет Гоголю Иванов. – Священник перед выносом ее тела сильно сказал горбатой (ее матери), другим бабам и сводням, при сем находившимся, что это она причиною ее смерти, и что если она и этого не чувствует, то он надеется, что это послужит другим матерям разительным примером, как продавать и торговать своими дочерьми. Теперь, Николай Васильевич, надо положить конец этому глубоко-неприятному делу, истощив весь ум, чтобы сказать обо всем этом фон Моллеру…» Сходные высказывания встречаются в ивановских письмах и позднее: «Пименов <Николай Степанович, русский скульптор> женился на римлянке <католичке Корнелии Нибби>, вопреки всем моим возражениям». Встречаются они и у Гоголя – см. письмо к В. А. Панову лета 1841 г. (об «итальянской любовнице» последнего, Джюлии). Все это в целом отзывается и сюжете гоголевской «Женитьбы», законченной в 1842 г., само действие которой (сватовство) разворачивается… в пост.
[Закрыть]. Недвижный, утаив дыханье, он поглощал ее глазами. Красавица наконец навела на него свои полные очи, но тут же смутилась и отвела их в другую сторону. Его пробудил крик: пред ним остановилась громадная телега. Толпа находившихся в ней масок в розовых блузах, назвав его по имени, принялась качать в него мукой, сопровождая одним длинным восклицаньем: «У, у, у!..» И в одну минуту с ног до головы был он обсыпан белою пылью, при громком смехе всех обступивших его соседей. Весь белый, как снег, даже с белыми ресницами, князь побежал наскоро домой переодеться.
Покамест он сбегал домой, пока успел переодеться, уже только полтора часа оставалось до Ave Maria.[321]321
…оставалось до Ave Maria. – т. е. до начала вечернего богослужения. Ave Maria (ит.) – начало католической молитвы к Пресвятой Деве.
[Закрыть] С Корсо возвращались пустые кареты: сидевшие в них перебрались на балконы – смотреть оттуда не перестававшую двигаться толпу, в ожидании конного бега. При повороте на Корсо встретил он телегу, полную мужчин в куртках и сияющих женщин с цветочными венками на головах, с бубнами и тимпанами в руках. Телега, казалось, весело возвращалась домой, бока ее были убраны гирляндами, спицы и ободья колес увиты зелеными ветвями. Сердце его захолонуло, когда он увидел, что среди женщин сидела в ней поразившая его красавица. Сверкающим смехом озарялось ее лицо. Телега быстро промчалась при кликах и песнях. Первым делом его было бежать вслед ее, но дорогу перегородил ему огромный поезд музыкантов: на шести колесах везли страшилищной величины скрыпку. Один человек сидел верхом на подставке, другой, идя сбоку ее, водил громадным смычком по четырем канатам, натянутым на нее вместо струн. Скрыпка, вероятно, стоила больших трудов, издержек и времени. Впереди шел исполинский барабан. Толпа народа и мальчишек тесно валила вслед за музыкальным поездом, и шествие замыкал известный в Риме своею толщиною пицикароло, неся клистирную трубку вышиною в колокольню. Когда улица очистилась от поезда, князь увидел, что бежать за телегой глупо и поздно, и притом неизвестно, по каким дорогам понеслась она. Он не мог, однако же, отказаться от мысли искать ее. В воображенье его порхал этот сияющий смех и открытые уста с чудными рядами зубов. «Это блеск молнии, а не женщина, – повторял он в себе и в то же время с гордостью прибавлял: – Она римлянка. Такая женщина могла только родиться в Риме. Я должен непременно ее увидеть. Я хочу ее видеть не с тем, чтобы любить ее, нет, – я хотел бы только смотреть на нее, смотреть на всю ее, смотреть на ее очи, смотреть на ее руки, на ее пальцы, на блистающие волосы. Не целовать ее, хотел бы только глядеть на нее. И что же? Ведь это так должно быть, это в законе природы; она не имеет права скрыть и унести красоту свою. Полная красота дана для того в мир, чтобы всякий ее увидал, чтобы идею о ней сохранял навечно в своем сердце. Если бы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имела право принадлежать одному, ее бы мог он унести в пустыню, скрыть от мира. Но красота полная должна быть видима всем. Разве великолепный храм строит архитектор в тесном переулке? Нет, он ставит его на открытой площади, чтобы человек со всех сторон мог оглянуть его и подивиться ему. Разве для того зажжен светильник, сказал Божественный Учитель, чтобы скрывать его и ставить под стол?[322]322
Разве для того зажжен светильнику сказал Божественный Учитель, чтобы скрывать его и ставить под стол? – Перефразируются следующие слова Спасителя: «Никтоже (убо) светилника вжег, в скрове полагает, ни под спудом, но на свещнице, да входящий свет видят» (Лука. 11, 33). Вопреки «возвышенным» романтическим размышлениям героя, сравнивающего, ни много ни мало, женскую красоту с светом Божественного откровения, сам Гоголь намеревался подчеркнуть в «Риме» прежде всего внеморализм исповедуемого римским князем эстетического «законодательства». Как явствует из содержания повести, предполагаемая женитьба князя на красавице-альбанке должна была стать его прямым «грехопадением» – преступлением обычая римлян заключать браки только между представителями своего рода (см. коммент. к с. 192– «Не знаю, должно быть, иностранка»). Отмечено, что имя красавицы «Рима» означает в переводе «благовещение» (лат. Annuntiatio; ит. Annunciazione) (Виролайнен М. Н. Гоголевская мифология городов//Пушкин и другие: Сборник статей, посвященный 60-летию со дня рождения С. А. Фомичева. Новгород, 1997. С. 233). Однако Гоголю, познакомившемуся в 1838 г. с итальянским поэтом Дж. Белли (1791–1863), было, вероятно, известно и то, что в сонетах Белли Нунциата – прямо «вопреки» своему имени – девица легкого поведения. Примечательны и упоминания в «Риме» о римских Теттах, Туттах и Наннах, «служивших моделями для живописцев». В цензурном экземпляре № 3 «Москвитянина» за 1842 г. (с повестью Гоголя), подписанным цензором Н. И. Крыловым, после слов: «Тут были всех родов модели»; были исключены следующие строки: «были такие, который позволяли писать с себя одно только лицо, были такие, который позволяли писать с себя грудь и плечи, в чем однако же каялись всякой раз на исповеди духовнику, и наконец такие, который раздевались с ног до головы, в чем даже и не исповедывались» (Бодрова А. С. «…Поправки были важные…»: К истории текста повести Н. В. Гоголя «Рим» // Гоголь: Материалы и исследования. М., 2009. Вып. 2. С. 10). 3 февраля (н. ст.) 1839 г. Гоголь писал А. С. Данилевскому из Рима: «Я живу… в том же доме и той же улице… Те же самые знакомые лица вокруг меня… Так же раздаются крики Анунциат, Роз, Дынд, Нанн и других в шерстяных капотах и притоптанных башмаках…» Двойственный образ «гибкой пантеры» Аннунциаты (см. коммент. к с. 166 – Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений), такое же двойственное отношение Гоголя к красотам католического Рима (см. коммент. к с. 184– Долго, полный невыразимого восхищенья, стоял он перед таким видом..) – обнаруживают, в числе прочего, скрытую параллель между итальянским князем и петербургским художником Пискаревым, между красавицей «Невского проспекта» и красавицей римского Корсо.
[Закрыть] Нет, светильник зажжен для того, чтобы стоять на столе, чтобы всем было видно, чтобы все двигались при его свете. Нет, я должен ее видеть непременно». Так рассуждал князь и потом долго передумывал и перебирал все средства, как достигнуть этого, – наконец, как казалось, остановился на одном и отправился тут же, нимало не медля, в одну из тех отдаленных улиц, которых много в Риме, где нет даже кардинальского дворца с выставленными расписными гербами на деревянных овальных щитах, где виден нумер над каждым окном и дверью тесного домишка, где идет горбом выпученная мостовая, куда из иностранцев заглядывает только разве пройдоха немецкий художник с походным стулом и красками да козел, отставший от проходящего стада и остановившийся посмотреть с изумленьем, что за улица, им никогда не виданная. Тут раздается звонко лепет римлянок: со всех сторон, изо всех окон несутся речи и переговоры. Тут все откровенно, и проходящий может совершенно знать все домашние тайны; даже мать с дочерью разговаривают не иначе между собою, как высунув обе свои головы на улицу; тут мужчин не заметно вовсе. Едва только блеснет утро, уже открывает окно и высовывается сьора Сусанна, потом из другого окна выказывается сьора Грация, надевая юбку. Потом открывает окно сьора Нанна. Потом вылезает сьора Лучия, расчесывая гребнем косу; наконец, сьора Чечи-лия высовывает руку из окна, чтобы достать белье на протянутой веревке, которое тут же и наказывается за то, что долго не дало достать себя, наказывается скомканьем, киданьем на пол и словами: «Che bestia!»[323]323
…«Che bestial» (ит.) – Какое животное!
[Закрыть] Тут все живо, все кипит: летит из окна башмак с ноги в шалуна сына или в козла, который подошел к корзинке, где поставлен годовой ребенок, принялся его нюхать и, наклона голову, готовился ему объяснить, что такое значат рога. Тут ничего не было неизвестно: все известно. Синьоры все знали, что ни есть: какой сьора Джюдита купила платок, у кого будет рыба за обедом, кто любовник у Барбаручьи, какой капуцин лучше исповедует. Изредка только вставляет свое слово муж, стоящий обыкновенно на улице, облокотясь у стены, с коротенькою трубкою в зубах, почитавший необходимостью, услыша о капуцине, прибавить короткую фразу: «Все мошенники», – после чего продолжал снова пускать под нос себе дым. Сюда не заезжала никакая карета, кроме разве только одной двухколесной трясучки, запряженной мулом, привезшим хлебнику муку, и сонного осла, едва дотащившего перекидную корзину с броколями, несмотря на все понуканья мальчишек, угобжающих каменьями его нещекотливые бока. Тут нет никаких магазинов, кроме лавчонки, где продавался хлеб и веревки, с стеклянными бутылями, да темного узенького кафе, находившегося в самом углу улицы, откуда виден был беспрестанно выходивший боттега, разносивший синьорам кофий или шоколад на козьем молоке в жестяных маленьких кофейничках, известный под именем Авроры. Домы тут принадлежали двум, трем, а иногда и четырем владельцам, из которых один имеет только пожизненное право, другой владеет одним этажом и имеет право пользоваться с него доходом только два года, после чего, вследствие завещания, этаж должен был перейти от него к padre Viocenzo на десять лет, у которого, однако же, хочет оттягать его какой-то родственник прежней фамилии, живущий во Фраскати и уже заблаговременно затеявший процесс. Были и такие владельцы, которые владели одним окном в одном доме, да другими двумя в другом доме, да пополам с братом пользовались доходами с окна, за которое, впрочем, вовсе не платил неисправный жилец, – словом, предмет неистощимый тяжб и продовольствия адвокатов и куриалов[324]324
Куриал – судейский чиновник.
[Закрыть], наполняющих Рим. Дамы, о которых только что было упомянуто, – все, как первоклассные, честимые полными именами, так и второстепенные, называвшиеся уменьшительными именами, все Тетты, Тутты, Нанны, – большею частию ничем не занимались; они были супруги: адвоката, мелкого чиновника, мелкого торгаша, носильщика, факино[325]325
Факино (ит.) facchinoj – носильщик.
[Закрыть], а чаще всего незанятого гражданина, умевшего только красиво драпироваться не весьма надежным плащом.
Многие из синьор служили моделями для живописцев. Тут были всех родов модели. Когда бывали деньги – они проводили весело время в остерии с мужьями и целой компанией; не было денег – не были скучны и глядели в окно. Теперь улица была тише обыкновенного, потому что некоторые отправились в народную толпу на Корсо. Князь подошел к ветхой двери одного домишка, которая вся была выверчена дырами, так что сам хозяин долго тыкал в них ключом, покамест попадал в настоящую. Уже готов он был взяться за кольцо, как вдруг услышал слова:
– Сьор принчипе хочет видеть Пеппе? – Он поднял голову вверх: из третьего этажа глядела, высунувшись, сьора Тутта.
– Экая крикунья, – сказала из супротивного окна сьора Сусанна. – Принчипе, может быть, совсем пришел не с тем, чтобы видеть Пеппе.
– Конечно, с тем, чтобы видеть Пеппе, не правда ли, князь? С тем, чтобы видеть Пеппе, не так ли, князь? Чтобы увидеть Пеппе?
– Какой Пеппе, какой Пеппе! – продолжала с жестом обеими руками сьора Сусанна. – Князь стал бы думать теперь о Пеппе! Теперь время карнавала, князь поедет вместе с своей куджиной[326]326
…вместе с своей куджиной… – Куджина (ит. cugina) – кузина, двоюродная сестра.
[Закрыть], маркезой Монтелли, поедет с друзьями в карете бросать цветы, поедет за город far allegria. Какой Пеппе! Какой Пеппе!
⠀⠀ ⠀⠀
Девочка-альбанка в дверях.
Александр Андреевич Иванов (1806–1858)
Начало 1830-х.
Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея

Князь изумился таким подробностям о своем препровождении времени; но изумляться ему было нечего, потому что сьора Сусанна знала все.
– Нет, мои любезные синьоры, – сказал князь, – мне, точно, нужно видеть Пеппе.
На это дала ответ князю уже синьора Грация, которая давно высунулась из окошка второго этажа и слушала. Ответ дала она, слегка пощелкав языком и покрутив пальцем, – обыкновенный отрицательный знак у римлянок, – и потом прибавила:
– Нет дома.
– Но, может быть, вы знаете, где он, куда ушел?
– Э! куда ушел! – повторила сьора Грация, приклонив голову к плечу. – Статься может, в остерии, на площади, у фонтана; верно, кто-нибудь позвал его, куда-нибудь ушел, chi lo sa (кто его знает)!
– Если хочет принчипе что-нибудь сказать ему, – подхватила из супротивного окна Барбаручья, надевая в то же время серьгу в свое ухо, – пусть скажет мне, я ему передам.
«Ну, нет», – подумал князь и поблагодарил за такую готовность.
В это время выглянул из перекрестного переулка огромный запачканный нос и, как большой топор, повиснул над показавшимися вслед за ними губами и всем лицом. Это был сам Пеппе.
– Вот Пеппе! – воскликнула сьора Сусанна.
– Вот идет Пеппе, sior principe! – вскрикнула живо из своего окна синьора Грация.
– Идет, идет Пеппе! – зазвенела из самого угла улицы сьора Чечилия.
– Принчипе, принчипе! вон Пеппе, вон Пеппе (ессо Рерре, ессо Рерре)! – кричали на улице ребятишки.
– Вижу, вижу, – сказал князь, оглушенный таким живым криком.
– Вот я, eccelenza[327]327
…eccelenza… (ит.) – Ваше сиятельство.
[Закрыть], вот! – сказал Пеппе, снимая шапку. Он, как видно, уже успел попробовать карнавала. Его откуда-то сбоку хватило сильно мукою. Весь бок и спина были у него выбелены совершенно, шляпа изломана, и все лицо было убито белыми гвоздями. Пеппе уже был замечателен потому, что всю жизнь свою остался с уменьшительным именем своим Пеппе. До Джузеппе[328]328
…Пеппе… Джузеппе… (ит. Giuseppe) – Иосиф.
[Закрыть] он никак не добрался, хотя и поседел. Он происходил даже из хорошей фамилии, из богатого дома негоцианта, но последний домишко был у него оттяган тяжбой. Еще отец его, человек тоже вроде самого Пеппе, хотя и назывался sior Джиованни, проел последнее имущество, и он мыкал теперь свою жизнь, подобно многим, – то есть как приходилось: то вдруг определялся слугой у какого-нибудь иностранца, то был на посылках у адвоката, то являлся убирателем студии какого-нибудь художника, то сторожем виноградника или виллы; и по мере того изменялся на нем беспрестанно костюм. Иногда Пеппе попадался на улице в круглой шляпе и широком сюртуке, иногда в узеньком кафтане, лопнувшем в двух или трех местах, с такими узенькими рукавами, что длинные руки его выглядывали оттуда, как метлы; иногда на ноге его являлся поповский чулок и башмак, иногда он показывался в таком костюме, что уж и разобрать было трудно, тем более, что все это было надето вовсе не так, как следует: иной раз просто можно было подумать, что он надел на ноги вместо панталон куртку, собравши и завязавши ее кое-как сзади. Он был самый радушный исполнитель всех возможных поручений, часто вовсе безынтересно: тащил продавать всякую ветошь, которую поручали дамы его улицы, пергаментные книги разорившегося аббата или антиквария, картину художника; заходил по утрам к аббатам забирать их панталоны и башмаки для почистки к себе на дом, которые потом позабывал в урочное время отнести назад от излишнего желанья услужить кому-нибудь попавшемуся третьему, и аббаты оставались арестованными, без башмаков и панталон, на весь день. Часто ему перепадали порядочные деньги, но деньгами он распоряжался по-римски: то есть на завтра никогда почти их не ставало; не потому, чтобы он тратил на себя или проедал, но потому, что все у него шло на лотерею, до которой был он страшный охотник. Вряд ли существовал такой нумер, которого бы он не попробовал. Всякое незначащее ежедневное происшествие у него имело важное значение. Случилось ли ему найти на улице какую-нибудь дрянь, он тот же час справлялся в гадательной книге, за каким нумером она там стоит, с тем чтобы его тотчас же взять в лотерее. Приснился ему однажды сон, что сатана, который и без того ему снился неизвестно по какой причине в начале каждой весны, – что сатана потащил его за нос по всем крышам всех домов, начиная от церкви Св. Игнатия, потом по всему Корсо, потом по переулку tre Ladroni[329]329
…tre Ladroni… (ит.) – Трех разбойников.
[Закрыть], потом по via della stamperia[330]330
…via della stamperia… (ит.) – Улица печатников.
[Закрыть] и остановился наконец у самой Trinita[331]331
…у самой Trinita… (ит.) – у храма Пресвятой Троицы.
[Закрыть] на лестнице, приговаривая: «Вот тебе, Пеппе, за то, что ты молился святому Панкратию: твой билет не выиграет». Сон этот произвел большие толки между сьорой Чечилией, сьорой Сусанной и всей почти улицей; но Пеппе разрешил его по-своему: сбегал тот же час за гадательной книгой, узнал, что черт значит 13 нумер, нос 24, святой Панкратий 30, и взял того же утра все три нумера. Потом сложил все три нумера, вышел: 67, он взял и 67. Все четыре нумера, по обыкновению, лопнули. В другой раз случилось ему завести перепалку с виноградарем, толстым римлянином, сьором Рафаэлем Томачели. За что они поссорились – Бог их ведает, но кричали они громко, производя сильные жесты руками, и, наконец, оба побледнели – признак ужасный, при котором обыкновенно со страхом высовываются из окон все женщины и проходящий пешеход отсторанивается подальше, – признак, что дело доходит наконец до ножей. И точно, толстый Томачели запустил уже руку за ременное голенище, обтягивавшее его толстую икру, чтобы вытащить оттуда нож, и сказал: «Погоди ты, вот я тебя, телячья голова!» – как вдруг Пеппе ударил себя рукою по лбу и убежал с места битвы. Он вспомнил, что на телячью голову он еще ни разу не взял билета; отыскал нумер телячьей головы и побежал бегом в лотерейную контору, так что все, приготовившиеся смотреть кровавую сцену, изумились такому нежданному поступку, и сам Рафаэль Томачели, засунувши обратно нож в голенище, долго не знал, что ему делать, и наконец сказал: «Che uomo curioso!» (Какой странный человек!) Что билеты лопались и пропадали, этим не смущался Пеппе. Он был твердо уверен, что будет богачом, и потому, проходя мимо лавок, спрашивал почти всегда, что стоит всякая вещь. Один раз, узнавши, что продается большой дом, он зашел нарочно поговорить об этом с продавцом, и когда стали над ним смеяться знавшие его, он отвечал очень простодушно: «Но к чему смеяться, к чему смеяться? Я ведь не теперь хотел купить, а после, со временем, когда будут деньги. Тут ничего нет такого… всякий должен приобретать состояние, чтобы оставить потом детям, на церковь, бедным, на другие разные вещи… chi lo sa!» Он уже давно был известен князю, был даже когда-то взят отцом его в дом в качестве официанта и тогда же прогнан – за то, что в месяц износил свою ливрею и выбросил за окно весь туалет старого князя, нечаянно толкнув его локтем.
– Послушай, Пеппе! – сказал князь.
– Что хочет приказать eccelenza? – говорил Пеппе, стоя с открытою головою. – Князю стоит только сказать:
«Пеппе!» – а я: «Вот я». Потом князь пусть только скажет:
«Слушай, Пеппе», – а я: «Ессо me, eccelenza!»[332]332
…«Ессо те, eccelenza!» (ит.) – Вот я, ваше сиятельство!
[Закрыть]
– Ты должен, Пеппе, сделать мне теперь вот какую услугу… – При сих словах князь взглянул вокруг себя и увидел, что все сьоры Грации, сьоры Сусанны, Барбаручьи, Тетты, Тутты – все, сколько их ни было, – выставились любопытно из окна, а бедная сьора Чечилия чуть не вывалилась вовсе на улицу.
«Ну, дело плохо!» – подумал князь.
– Пойдем, Пеппе, ступай за мною.








