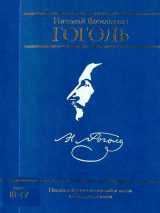
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том III. Повести. Том IV. Комедии"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 47 страниц)
Мотив «цивилизованного» петербургского севера лег и в основу повести Гоголя «Нос», где комическое попадание носа майора Ковалева в хлеб цирюльнику Ивану Яковлевичу выступает своеобразным аналогом той цены, в какую обходится герою повести его «просвещенная» жизнь в северной европеизированной столице.
Этим, в частности, и объясняется отправление Ковалевского «хлеба»-«носа» в Ригу – за границу, – откуда получала Россия всевозможные предметы европейской роскоши – например, «хорошие сигарки» (согласно реплике Хлестакова в одной из сцен черновой редакции «Ревизора») или почитаемый самим майором Ковалевым табак «рапе» – «по два рубля фунт» (ремесленник Шиллер в «Невском проспекте» из-за дороговизны этого табака готов даже отрезать себе нос; тогда как герой «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» оставляет без табака свой нос в целях наказания: «…нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал… от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его»). Из Риги, вероятно, привозилось в Петербург и то «хорошее вино», рюмку которого «любил выпить» (согласно черновому наброску к повести) майор Ковалев «после обеда», – отчего нос героя приобрел соответствующий красноватый оттенок – «тонкие и самые нежные жилки» (ср. также в «Коляске»: «Генералу был прислан из Риги какой-то необыкновенный ром и шнапс, который тут же подавался в больших стаканах»). «Что касается в особенности до Риги, смело можно сказать, что торговля была давнею и единственною благодетельницею ее…» (Глинка Ф. Н. Письма к другу. М., 1990. С. 218).
Таким образом, выстраивается ряд повестей Гоголя, являющий единый образ «цивилизованного» европеизированного Петербурга: «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель»…
К содержанию этих «петербургских» повестей прямое отношение имеет еще одно из впечатлений Гоголя, полученных им в первые месяцы пребывания в Петербурге. К этим месяцам относится одно загадочное событие в жизни Гоголя, объяснение которого приводит в затруднение биографов писателя. Летом 1829 года только что начавший обживаться в столице Гоголь вдруг все бросает и уезжает за границу. Перед отъездом он пишет матери отчаянное письмо о какой-то неведомой красавице, встреча с которой и вынуждает его «бежать от самого себя». Некоторый свет на эту загадку проливает дальнейшее творчество Гоголя. Изображенная пять лет спустя в «Невском проспекте» падшая женщина, вероятно, и встретилась тогда Гоголю. Описание терзаний, приведших к самоубийству художника Пискарева, прямо повторяет рассказ Гоголя в письме к матери от 24 июля 1829 года о пережитых им страданиях от той встречи.
⠀⠀ ⠀⠀
История эта имела и продолжение. Неделю спустя Гоголь отправил матери новое письмо, где объяснял свой внезапный отъезд на сей раз тем, что врачи предписали ему лечиться за границей («…у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи…»). Мать, сопоставив оба письма, сделала неожиданный вывод, что причиной болезни сына была встреча с женщиной. Гоголь же, получив письмо матери, пришел в ужас от одного этого предположения: «.. как! вы могли, маминька, подумать даже, что я… нахожусь на последней степени унижения человечества!.. Но я готов дать ответ пред лицом Бога, если я учинил хоть один развратный подвиг…» (По замечанию современного исследователя, эти слова Гоголя, воспитанного в благочестивой религиозной семейной традиции, полностью исключают предположение о полученном им заболевании; Крейцер А. Зачем уезжал Гоголь из Петербурга в 1829 году? // Нева. 1993. № 4. С. 285–286.) (Письмо матери Гоголя, как и большинство ее писем к сыну, до нас не дошло. Однако о его содержании можно судить из ее послания к двоюродному брату Петру П. Косяровскому 1829 года, в котором она сообщает, что «часто получает» от сына письма и сама пишет ему «по нескольку листов морали» (Сажин В. На пороге. Из архивных разысканий о Н. В. Гоголе //Звезда. 1984. № 4. С. 178). Эта самокритическая нотка в оценке содержания собственных писем, возможно, появилась у Марии Ивановны именно после ответа Гоголя на ее неосновательное, но как бы само собой напрашивающееся (по подсказке «морали») предположение о полученном сыном заболевании.)
Позднее, в письме к А. С. Данилевскому от 20 декабря 1832 года, Гоголь замечал по поводу сердечных увлечений друга: «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновенье».
При всем том сама возможность представленного в «догадке» матери случая – и то потрясение, которое пережил тогда Гоголь от одного этого предположения, обладавший недюжинным, «страшным» воображением, судя по всему, и дала писателю впоследствии материал для повести «Нос». (В 1849 году Гоголь, в частности, признавался Ф. В. Чижову: «Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать – и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы» (<Кулиги П. А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1856. Т. 2. С. 241).
С ранней петербургской поры 1829 года в переживании Гоголем прекрасного навсегда поселяется мысль о нетождественности в мире красоты и добра, о недостаточности только лишь эстетического критерия в оценке действительности. Мечтательному эстетическому гуманизму Шиллера было противопоставлено апостольское и святоотеческое свидетельство о том, что «сам сатана» может принимать – и «принимает»– «вид Ангела света» (2 Кор. 11, 14; с этими словами апостола прямо перекликается в «Невском проспекте» описание падшей красавицы: «Все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти»). Встреча с красавицей в 1829 году стала для Гоголя своеобразной вехой для осмысления собственной судьбы.
Гоголь приехал в Петербург с чрезвычайно широкими (и смутными) планами о благородном труде на благо Отечества. Однако ему предстояло начать свою деятельность с низших ступеней чиновничьей лестницы. Это очень болезненно отразилось на его юношеском честолюбии. Еще в 1827 году он писал из Нежина своему дяде Петру Косяровскому: «Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу… бросали меня в глубокое уныние… быть в мире и не означить своего существования – это было для меня ужасно». Этот страх был подхлестнут в Петербурге неудачей с первым литературным произведением Гоголя – поэмой «Ганц Кюхельгартен», решившись напечатать которую, он долго молился, стоя на коленях и кладя земные поклоны. Опубликованная летом 1829 года под псевдонимом «В. Алов», поэма получила в журналах уничижительные рецензии, и Гоголь, скупив имевшиеся у книгопродавцев экземпляры, сжег их. В те самые дни он и встречает свою загадочную красавицу.
Можно представить, как к честолюбивым желаниям юноши после случившейся с ним литературной неудачи с необходимостью присоединяется ужас от возможного превращения в обыкновенного и даже ничтожного чиновника– в Акакия Акакиевича Башмачкина из будущей «Шинели» (ранние письма Гоголя из Петербурга полны перекличек с этой повестью). Аналогией же к столь унизительному употреблению талантов, каковой представилось Гоголю от самого его приезда в Петербург чиновничья деятельность, очевидно, и явилось для него унижение высокого дара красоты в постыдной торговле им. «…За цену ли, едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола, мне должно продать свое здоровье и драгоценное время? и на совершенные пустяки, и на что это похоже?..» – писал Гоголь матери о предстоящей ему чиновничьей службе уже за два месяца до бегства.
«Бог указал мне путь в землю чуждую, – писал он матери, – чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира».
Можно, кажется, прямо указать, куда держал путь Гоголь. Сосед Гоголей по имению В. Я. Ламиковский в январе 1830 года не без сарказма сообщал своему приятелю И. Р. Мартосу: «Никоша пишет к матушке: “я удивляюся, почему хвалят Петербург, город сей более превозносится, чем заслуживает, и я, любезная маменька, намерен ехать в Соединенные Штаты”…» (Киевская Старина. 1898. Т. 68. № 7–8. С. 123). А. С. Данилевский, нежинский однокашник Гоголя, позднее вспоминал: «Его тянуло в какую-то фантастическую страну счастья и разумного производительного труда… такой страной представлялась ему Америка» (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 182; курсив наш. – И. В).
Судя по всему, труд мелкого чиновника в Петербурге представлялся Гоголю и «неразумным», и «непроизводительным». 30 апреля 1830 года в письме к матери он замечал о занятиях петербургских чиновников: «…все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их».
Очевидно, что предполагавшееся бегство в Америку в поисках достойного поприща во всем подобно у Гоголя его приезду в Петербург с той же целью. Еще в 1827 году Гоголь писал своему другу Г. И. Высоцкому о нежинских обывателях: «Они задавили корою своей земности… высокое назначение человека».
Можно догадываться и о причинах скорого – через два месяца – возвращения Гоголя из Германии. Разочарованный в Петербурге, Гоголь за границей неожиданно для себя встречается здесь… снова с «Петербургом»! – то есть с тем же «цивилизованным» европейским образом жизни, все «прелести» которого неизбежно должны были ожидать его и в Америке (в Любеке Гоголь знакомится с «гражданином Американских Штатов», из разговоров с которым мог составить себе соответствующее представление об этой стране; см. его письмо к матери от 25 августа (н. ст.) 1829 года). Взгляд на Петербург как на средоточие в России подавляющей человеческую личность европейской (и американской) цивилизации мы встречаем в одной из ранних статей Гоголя– «Петербургских записках 1836 года». Характеристика Петербурга в этих записках («что-то похожее на европейско-американскую колонию») совпадает со строками другой ранней статьи Гоголя, посвященными Америке – «этой всемирной колонии, вавилонском смешении наций» («О преподавании всеобщей истории», 1834).
Несомненно, что Америка (как ранее Петербург) была утопией Гоголя, развеявшейся при первом соприкосновении с действительностью. Много позднее архимандрит Феодор (Бухарев), беседовавший с Гоголем о его книге «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой Соединенные Штаты тоже подвергались критике как государство-«автомат» – «колониальное» государство, «где неизвестны ни самоотверженье, ни благородство, а только корыстные личные выгоды», – возможно, со слов самого Гоголя замечал: «Америка в духовном отношении, – такой страждущий ребенок, который, может быть, более других зовет одну истинную матерь человеческих душ Церковь Православную» (<Бухарев Л. М.> Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1860. С. 253).
Материальные затруднения и проблема выбора пути, с которыми столкнулся Гоголь по приезде в Петербург, вплотную поставили перед ним вопрос о достойном употреблении дарованных ему Богом талантов. «Цивилизованный» Петербург, который первоначально представлялся юному Гоголю средоточием разнообразной человеческой деятельности, местом приложения самых разных сил и способностей, трудов на благо Отечества, на деле открылся ему как город «кипящей меркантильности», честолюбивых притязаний, развращающей роскоши – где каждый житель, от юноши до старика, тем или другим губительным для души «ремеслом» зарабатывает себе свою долю не менее пагубных и греховных «удовольствий»: «Здесь вы встретите почтенных стариков… бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим…» («Невский проспект»). Такой предстала Гоголю по приезде в столицу истинная суть «просвещенного» европейскими новшествами «блестящего» Петербурга.
«Страшным оскорбительным упреком и праведным гневом поразит нас негодующее потомство, – писал позднее Гоголь во втором томе «Мертвых душ», – что… играя, как игрушкой, святым словом просвещенья, правились швеями, парикмахерами, модами…» «Неприметно» и неотвратимо растет «счет», предъявляемый в «Носе» майору Ковалеву «просвещенной» петербургской жизнью. Одним из многих такой счет предъявляет герою цирюльник Иван Яковлевич, образ которого прямо связан с размышлениями Гоголя о проникновении западноевропейской цивилизации в Россию, начавшейся «во время Петра, когда Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили» (из письма Гоголя к М. П. Погодину от 1 февраля 1833 года). По словам рассказчика «Повести о капитане Копейкине» в «Мертвых душах», где тема петербургских соблазнов также является одной из ключевых, «платить цирюльнику – это составит, в некотором роде, счет» (ср. также упоминание о метели в «Ночи перед Рождеством», «намыливающей» героя снегом «проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву»). По такому же «счету» платит герой «Носа» актрисе («синяя ассигнация»), газете («дорого заплатить за объявление»), медику («благодарность за визит»), квартальному надзирателю («красная ассигнация»). Свой счет предъявляют «баба, продававшая манишки», и прачка – «Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален» («как можно реже отдавать прачке мыть белье» составляет, в частности, одну из статей экономии Акакия Акакиевича Башмачкина в «Шинели»). С дороговизной «съестных припасов» («Очень большая поднялась дороговизна на все припасы…»– замечает в «Носе» квартальный) связано упоминание о кондитерских, где майор Ковалев частый гость. Замечание об этом можно, в частности, найти у Гоголя и в «Портрете»: «Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста… отправиться тот же час в театр, в кондитерскую… и прочее, – и он, схвативши деньги, был уже на улице». По особому «счету» – прямо связанному с пропажей носа – и оплачиваются в «Носе» «потребности», подсказанные в «Портрете» многозначительным отточием – именно исполнение «секретных приказаний» майора Ковалева «какой-нибудь смазливенькой» уличной торговкой – одной из будущих «нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся». Прямой намек на эти «потребности» содержится в «Носе» в реплике частного пристава, потревоженного неурочным визитом к нему майора Ковалева и потому замечающего, что «у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. – То есть не в бровь, а прямо в глаз».
Именно этому, связанному с «буквальной» утратой носа, мотиву гоголевской повести и соответствует ироническое рассуждение о носе в рассказе В. И. Карлгофа «Панегирик носу» (1832), на который в свое время было обращено внимание при изучении повести Гоголя (Виноградов В. Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос»//Начала. 1921. № 1. С. 86). В рассказе Карлгофа, в частности, говорится: «О нос! чистейший нравственностью, ты вопиешь о пороках того человека, который тебя носит… Твои улики безмолвны, но красноречивы. Твой пунцовый цвет изобличает человека, предавшегося вполне Бахусу: ты как будто стыдишься слабости человека, носящего тебя, и вместе с тем, бросаясь в глаза каждому своим ярким цветом, для бедного грешника, как булла отвержения от церкви. Но в этом ли одном пороке ты уличаешь смертных?» (Карлгоф В. Панегирик носу//Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду. 1832. 3 авг. № 62. С. 489). Уместно напомнить, что о «свидетельстве» носа в пристрастии человека к «Бахусу» (этот мотив, вообще говоря, нельзя назвать оригинальным) Гоголь впервые упомянул в своих произведениях еще до публикации рассказа В. И. Карлгофа, в 1831 году. Эти упоминания появились тогда в повестях «Пропавшая грамота» и «Ночь перед Рождеством». Очевидно, Гоголь вполне самостоятельно «нашел» объяснение тому, чему уделил позднее особое внимание в «Носе».
Примечателен в картине пагубных петербургских соблазнов, изображаемых Гоголем в этой повести, образ «спекулатора почтенной наружности», продающего «при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки». «Спекулатор» по-церковнославянски – «оруженосец», «палач» (лат. speculator). К этому мотиву «Носа» примыкает, в частности, и образ цирюльника в «Иване Федоровиче Шпоньке…», где герой, «казнимый» опять-таки через пищу, гибнет от ее неумеренного употребления.
Так, «умерщвляемый» искусными «ремесленными» кулинарными приготовлениями своей матушки, помещик Сторченко в «Иване Федоровиче Шпоньке…» сравнивается Гоголем– в тот момент, когда садится на свое обыкновенное, «лобное», место за столом и завешивается салфеткой, – с теми «героями, которых рисуют цирюльники на своих вывесках». Соответственно изображается и матушка (играющая здесь как бы роль «тирана-цирюльника»): «…это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить… сколько вы на зиму насоливаете огурцов? “Вы водку пили?” – спросила старушка». К этой же теме Гоголь обращался и во втором томе «Мертвых душ» в образе неистощимого в кулинарных выдумках помещика Петуха: «Закуске последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником». (Помимо прочего, в этих образах угадывается и содержание басни И. А. Крылова – одного из любимых Гоголем поэтов: «“Соседушка, мой свет! Пожалуйста, покушай”. – “Соседушка, я сыт по горло”. – “Нужды нет, еще тарелочку; послушай: ушица, ей-же-ей, на славу сварена!”»; «Демьянова уха».)
Этот же мотив встречается в «Старосветских помещиках»: «Я любил бывать у них, и… объедался страшным образом… мне это было очень вредно… если бы… вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то… очутился бы лежащим на столе». Всем этим провинциалам, однако же, чрезвычайно далеко, по Гоголю, до всевозможных петербургских «ресторанов-французов», представителей «обжорливой Европы», «отворяющих кровь» своим клиентам как «десятерными ценами», так и распалением пагубного сластолюбия.
Теме идеологического «оправдания» порока, пагубных «ремесл» западной цивилизации и гибели художника, вставшего на путь доходного «ремесла», посвящена следующая, после «Носа», повесть Гоголя из петербургской жизни – «Портрет». Сюжет этой повести был намечен Гоголем еще в статье «Несколько слов о Пушкине» (датированной 1832 годом и опубликованной в 1835 году в «Арабесках»). Так, в судьбе художника Чарткова, начавшего льстить в создаваемых им портретах самолюбию своих заказчиков, прямо угадываются строки статьи Гоголя о Пушкине: «Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: “Изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине…” Но попробуй поэт… изобразить все в совершенной истине… она тотчас заговорит: “…это нехорошо…” Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий…» Эта мысль прямо повторена Гоголем в «Портрете»: «Дамы требовали… облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе… Мужчины тоже были ничем не лучше дам». Именно так, идя на поводу публики, и поступает в повести художник Чартков: «Он бесстыдно воспользовался слабостью людей, которые за лишнюю черту красоты, прибавленную художником к их изображениям, готовы простить ему все недостатки».
Позднее критик Д. И. Писарев, размышляя по поводу проблем, поставленных Гоголем в «Портрете» (и впоследствии в «Мертвых душах»), писал: «Ноздревы, Чичиковы, Собакевичи… ищут себе… таких художников, которые, сохраняя им все их типические особенности, превратили бы их в милых, интересных и очаровательных героев романа: “…Эй, поэты, воспойте нас… За деньгами мы не постоим”» (Писарев Д. И. Наши усыпители // Соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 4. С. 254). Прямое соответствие этому замечанию Писарева можно найти в противопоставлении Гоголем в заключении шестой – начале седьмой главы первого тома «Мертвых душ» «возвышенного» Шиллера и «писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи»; а также размышлений в одиннадцатой главе поэмы о «так называемых патриотах»: «.. Они выбегут со всех углов… и подымут вдруг крики: “Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом?”»
Подразумевая эти строки и имея в виду содержание «Невского проспекта», Писарев, в свою очередь, замечал: «Гете, конечно, очень умен, очень объективен, очень пластичен и так далее; все это при нем и останется на вечные времена. Но своему отечеству Гете сделал чрезвычайно много зла. Он, вместе с Шиллером, украсил, тоже на вечные времена, свиную голову немецкого филистерства лавровыми листьями бессмертной поэзии. Благодаря этим двум поэтам немецкий филистер имеет возможность мирить высшие эстетические наслаждения с самою бесцветною пошлостью… Он читает своих великих поэтов, и вздыхает над ними, и умиляется, и заводит глаза, как откормленный кот, и остается безнадежным пошляком, и твердо уверен при этом, что он человек и что ничто человеческое ему не чуждо» (Писарев Д. И. Генрих Гейне//Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 224).
Показательный пример «безнадежной» пошлости немецкого романтика-«филистера» приводил в 1849 году сам Гоголь. «…Немец вообще не очень приятен, – говорил он, – но ничего нельзя себе представить неприятнее немца-ловеласа, немца-любезника, который хочет нравиться». И Гоголь рассказал, как встретил однажды «такого ловеласа в Германии». Этот немец-«ловелас» добился успеха у своей возлюбленной тем, что, по словам Гоголя, каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед ее глазами, «обнявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных». «Воображал ли он в этом что-то античное, мифологическое, – заканчивал рассказ Гоголь, – или рассчитывал на что-нибудь другое, только дело кончилось в его пользу: немка действительно пленилась этим ловеласом и вышла скоро за него замуж» (Арнольди Л. И. Мое знакомство с Гоголем//Гоголь в воспоминаниях современников. С. 473).
Здесь необходимо затронуть весьма важный, принципиальный для понимания гоголевского творчества вопрос. Несомненно, в своих «петербургских» и «непетербургских» повестях, вошедших в третий том собрания сочинений, – от «Невского проспекта» до «Рима» – Гоголь прослеживает пагубное, «опошляющее» и растлевающее воздействие на душу человека западной ремесленной цивилизации – цивилизации «Шиллеров, Гофманов и Кунцев». Однако парадоксально, что именно эти повести, где наиболее сильно воплощено Гоголем развенчание секуляризованной европейской культуры, первоначально отнесены были критиками… к плодам влияния немецкого романтизма.
В. Г. Белинский, например, в 1835 году писал о гоголевском «Портрете», что это «фантастическая повесть a la Hoffmann <Гофман>» (Белинский В. Г. И мое мнение об игре г. Каратыгина//Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 130). С. П. Шевырев в 1842 году также полагал, что в повестях «Арабесок» и в «Носе» Гоголь «подчинялся немецкому влиянию» (Шевырев С. П. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Статья вторая // Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. М., 1982. С. 77). Добавим, впрочем, что в 1843 году Шевырев отчасти пересмотрел свои взгляды и писал Гоголю, что «Портрет» являет собой произведение, не укладывающееся в рамки «немецких» теорий. Впоследствии исследователями был высказан еще целый ряд замечаний о существенном отличии гоголевских повестей от произведений немецких романтиков (см., в частности: Михайлов Л. В. Гоголь в своей литературной эпохе//Гоголь: История и современность. М., 1985. С. 115–119). Тем не менее вопрос этот остался до конца не проясненным.
Отношение Гоголя к европейскому романтизму лучше всего может быть понято из собственных высказываний писателя. В статье «Петербургская сцена в 1835-36 г.» Гоголь писал: «…Что такое романтизм?., это больше ничего, как стремление подвинуться ближе к нашему обществу, от которого мы были совершенно отдалены подражанием обществу и людям, являвшимся в созданиях писателей древних… Но как только… выказывался талант великий, он… обращал это романтическое, с великим вдохновенным спокойством художника, в классическое, или, лучше сказать, в отчетливое, ясное, величественное создание. Так совершил это Вальтер Скотт и, имея столько же размышляющего, спокойного ума, совершил бы Байрон…»
Однако, согласно размышлениям Гоголя, Байрон, не имея этого «размышляющего, спокойного ума», не только не «продвинулся ближе к нашему обществу», но, напротив, «от бессилия передать… светлость и величие» жизни создал себе «в замену отвергнутого собственный… нестройный и чудный мир» (статья «О поэзии Козлова», 1831–1832). «Он слишком жарок, слишком много говорит о любви и почти всегда с исступлением, – замечал Гоголь о Байроне в письме к А. С. Данилевскому от 20 декабря 1832 года. – Это что-то подозрительно».
Еще менее Байрона, согласно статье Гоголя «Петербургская сцена…», оказались способными к созданию нового «классического» произведения французские романтики во главе с Виктором Гюго.
«Их имя, – замечал Гоголь, – не остается в числе чистых воспоминаний». Далее он писал о драме В. Гюго «Венецианская актриса»: «В этой драме, как во всех других, показал Гюго в полной мере молодость и незрелость своего таланта…» В «напряженных произведениях необузданной французской музы» (повесть «Рим») обнаруживается, на взгляд Гоголя, отрыв от жизни едва ли не больший, чем в удаленных от современности созданиях «писателей древних» или продолжателей античной традиции писателей-классицистов вроде Мольера. «Когда весь мир ладил под лиру Байрона… – размышлял Гоголь в «Петербургских записках 1836 года», – в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканж и другие стали всемирными законодателями!.. О Мольер, великий Мольер!.. Где… жизнь наша? где мы со всеми современными страстями?., лжет самым бессовестным образом наша мелодрама…» «Стремление к странному произвело… в такой степени отступление в драме, – писал он и в статье «Петербургская сцена…» – какого не произвели прежние классические писатели педантическою аккуратностью и отчетливостью… Мольер… явившись в нынешнее время, изгнал бы нынешнюю… беззаконную драму».
С этими размышлениями прямо связано ироническое замечание Гоголя о «решительном торжестве» романтизма над классицизмом – «французским кораном на ходульных ножках», высказанное им ранее в письме к А. С. Пушкину от 21 августа 1831 года. Говоря о решительной «победе» романтизма над классицизмом, Гоголь с иронией писал здесь о том, что будто бы «в Англии Байрон, во Франции необъятный великостью Виктор Гюго, Дюканж и другие, в каком-нибудь проявлении объективной жизни, воспроизвели новый мир ее нераздельно-индивидуальных явлений».
Можно заметить, что оба упоминаемых здесь явления – и романтизм, и классицизм – в своем равном отвлечении от реальной жизни одинаково подходят под гоголевское определение (в статье «Об архитектуре нынешнего времени», 1835) «восточного воображения» – источника арабских «волшебных сказок» и «азиатской роскоши» – «воображения… горячего, чудесного, облекшегося в иперболу <гиперболу> и аллегорию, пролетевшего мимо жизни и прозаических нужд ее». В качестве одного из представителей этого «романтизмо-классицизма» Гоголь изобразил в «Арабесках» отвлеченного «философа-теоретика» арабского халифа Ал-Мамуна, пребывающего «в государстве муз, им же самим созданном и совершенно отдельном от мира политического». С этой же характеристикой отвлеченного, «романтического» воображения «классического» Востока (а также с ироническим определением классицизма как «французского корана на ходульных ножках») прямо перекликается и замечание Гоголя о настоящем создателе Корана в университетской лекции 1834 года «Первобытная жизнь арабов…»: «Желая сильнее действовать на пламенную, чувственную природу арабов, <Магомет> обещал рай, облеченный всею роскошью восточных красок…»
Несомненно, с гоголевским определением романтизма в статье «Петербургская сцена…»– как проявления «стремления подвинуться ближе к нашему обществу» – мог вполне согласиться князь В. Ф. Одоевский, который в 1833 году, в период наиболее тесного творческого и дружеского общения с Гоголем (работа над альманахами «Тройчатка» и «Двойчатка», участие Гоголя в издании «Пестрых сказок» Одоевского и др.), записал в своем дневнике: «До сих пор я стою на распутии, и вся жизнь выходит на мелочи. Не для того ли определил мне это Бог, чтобы я мог понять заблудших, перечувствовать их чувства, передумать их мысли – и говорить им их языком» (цит. по: Замотин И. И. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе. СПб.; М., 1913. Т. 2. С. 418). Позднее, имея в виду псалмы св. пророка Давида, Гоголь писал Н. М. Языкову: «Все тут сердечный вопль и непритворное восторгновенье к Богу… Перечти их внимательно… Но из твоей души должны исторгнуться другие псалмы, не похожие на те, из своих страданий и скорбей исшедшие, может быть, более доступные для нынешнего человечества…» (письмо от 13 февраля (н. ст.) 1844 года). «Книга моя, – замечал Гоголь по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» в письме к о. Матфею Константиновскому от 9 мая (н. ст.) 1847 года, – подействовала только на тех, которые не ходят в церковь… если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непременно потом встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие».
Задачу самого фантастического в искусстве Гоголь видел прежде всего в отрешении читателя «от материализма». На это он, в частности, указывал, характеризуя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» немецкую фантастическую литературу, а также превосходящую ее по решению указанной задачи фантастическую поэзию В. А. Жуковского: «Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия… стали предметом немецких поэтов… Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явленьем. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем… Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному… Внеся это… дотоле незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение». Эти строки прямо напоминают характеристику Гоголем в «Переписке с друзьями» народной песни и «церковных песней и канонов» – одинаково (хотя и в разной степени) проникнутых, по наблюдению писателя, «желаньем лучшей отчизны»: «стремлением как бы унестись куда-то вместе с звуками».








