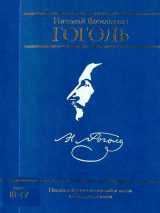
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том III. Повести. Том IV. Комедии"
Автор книги: Николай Гоголь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 47 страниц)
Уместно обратиться здесь к интерпретациям гоголевского творчества в революционно-демократической критике. Нельзя сказать, чтобы радикальные критики совсем не замечали в «Шинели» тему «мертвой души» рядового, «маленького» человека– основополагающую тему повести. Однако выводы отсюда эти критики делали прямо противоположные гоголевским. Всю проблему героя «Шинели» радикальная критика предпочитала видеть исключительно в «вещественной», материальной, стороне дела. Н. Г. Чернышевский, например, писал: «Акакий Акакиевич… был круглый невежда и совершенный идиот… Зачем же Гоголь прямо не налегает на эту часть правды об Акакии Акакиевиче?.. Говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно… Будем же молчать о его недостатках… Нет, Акакий Акакиевич безусловно прав и хорош; вся беда его приписывается бесчувствию, пошлости, грубости людей, от которых зависит его судьба… подлецом почел бы себя Гоголь, если бы рассказал нам о нем другим тоном» (Чернышевский Н. Г. Не начало ли перемены?//Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 7. С. 857–859).
Вопреки этим заявлениям критика, сострадание Гоголя к своему герою носило принципиально иной характер. В «Переписке с друзьями» Гоголь, обращаясь к поэту Н. М. Языкову, восклицал: «На колени перед Богом, и проси у него Гнева и Любви! Гнева – противу того, что губит человека, любви – к бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам». Неблагополучие социальной среды – якобы единственной виновницы в произрастании «совершенных идиотов» – Гоголь объяснял не влиянием некоей группы злонамеренных лиц, но видел в этом проявление присущей каждому человеку общей греховности человеческой природы – неблагополучным состоянием души каждого из членов этой «среды». Утопическим упованиям на социальные реформы и революции Гоголь противопоставлял трезвое понимание необходимости духовного воспитания каждого члена общества. «А вы думаете, легко воров выгнать?.. – писал он в 1848 году последователям Белинского. – Что спьяна передушите всех, думаете поправить?.. Те, которых шеи потолще, останутся. Что, те святые, что ль. Еще больше станут допекать друг друга». «Нужно вспомнить человеку, – замечал Гоголь, – что он… высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданства, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство».
Вместо «классовой ненависти» к властям предержащим – при снисходительном в то же время взгляде (и плохо скрываемой досаде) на «недозревших» до этой ненависти подчиненных – Гоголь с подлинным состраданием отнесся к самой гибнущей душе человека. Эта требовательная любовь – не чуждающаяся, по словам Гоголя, самого «смрадного дыханья уст несчастного» – и определила тон рассказа о ничтожном чиновнике Акакии Акакиевиче. Ибо, несмотря на резко критическую оценку Гоголем незавершенного образования новейших «недорослей» (о чем предлагал попросту «молчать» Чернышевский), отношение Гоголя к герою «Шинели» (как и отношение к Белинскому) – отнюдь не чувство вражды и ненависти. В «Переписке с друзьями» Гоголь прямо сравнивал гордого своей чистотой непримиримого «праведника» с евангельским богачом, отталкивающим «покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего». «Не нужно отталкивать от себя совершенно дурных людей и показывать им пренебрежение, – писал Гоголь сестре Елисавете, – лучше стараться иметь на них доброе влияние» (письмо от 15 сентября (н. ст.) 1844 года). В послании к князю П. А. Вяземскому от 11 июня (н. ст.) 1847 года Гоголь, имея в виду. Белинского и его сторонников, которым Вяземский публично выразил в печати свое неодобрение, замечал: «…Выразились вы несколько сурово о некоторых моих нападателях… может быть… многие из них… влекутся даже некоторым… желанием добра… может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что несколько жестоко оттолкнули их…»
В самом деле, глубокое сострадание и жалость вызывает человек, для которого самым «светлым» праздником – настоящим «воскресением» и «пасхой», становится день приобретения новой шинели. Это душевное состояние своего «титулярного советника» рассказчик «Шинели» подчеркивает неоднократно: «Это было… в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича…»; «Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств…»; «Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник».
Взгляд Гоголя не останавливается при этом на одном Акакии Акакиевиче. Ибо не только ничтожный Башмачкин испытывает эти «торжественные», «праздничные» чувства. Сами окружающие героя чиновники, считающие себя и умнее, и образованнее Акакия Акакиевича, – никогда ранее, до приобретения им новой шинели, не оказывавшие ему «никакого уважения», – вдруг проникнувшись почтением к обновке, «великодушно» принимают Башмачкина в свое «братство» и приглашают разделить приятельскую вечеринку. Очевидно, однако, что «радушное братство» чиновников – отнюдь не духовное братство героев «Тараса Бульбы», это лишь жалкая пародия на «святые узы товарищества», и «торжество» чиновников по поводу новой шинели – лишь подмена «того святого дня, в который, – по словам Гоголя в «Переписке с друзьями», – празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого…» («Светлое Воскресенье»).
Петербургское «братство», в которое вступает Башмачкин с приобретением новой шинели, заключается, согласно с содержанием повести, вовсе не в обретении героем подлинно братских отношений, но лишь в «новых», сомнительного качества, «возможностях», которые открываются Акакию Акакиевичу с изменением его «вещественного» облика. «Что это!.. – восклицает, например, герой «Невского проспекта» художник Пискарев при взгляде на свой «нещегольской», «запачканный красками» сюртук. – Он покраснел до ушей… Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами». Точно так же – по необходимости «скромно» – ведет себя при встрече с красавицей и герой «Записок сумасшедшего»: «Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона». Но новая шинель придает «отваги» и ничтожному Акакию Акакиевичу. Прогуливаясь после «приятельской» вечеринки, он «даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения». Так, с приобретением новой шинели Башмачкин, подобно другим чиновникам, становится «полноправным» обитателем северной столицы и ее «всеобщей коммуникации» – Невского проспекта.
Само воинское, «рыцарское» братство изменяется в «цивилизованном» Петербурге до неузнаваемости. Поручик Пирогов, например, ничем не выделяется среди «пошлых» завсегдатаев Невского проспекта. То же самое следует сказать и об отважном капитане Копейкине из вставной новеллы в десятой главе первого тома «Мертвых душ» – герое Отечественной войны 1812 года, потерявшем в сражении руку и ногу («жизнию жертвовал, проливал кровь»), но ставшем впоследствии – по невоздержаности к чужеземным соблазнам петербургской жизни (и вследствие «распеканья» важного генерала) прямым врагом Отечества – опустошающим «казенный карман» разбойником. (Напомним о вечернем преследовании Копейкиным, обнадеженным получением денежного пенсиона, «какой-то стройной англичанки» на тротуаре.) Нетрудно заметить, что судьба этого бравого капитана (а чин капитана в русской армии прямо соответствовал гражданскому чину титулярного советника) во многом напоминает судьбу «незлобивого» чиновника Акакия Акакиевича, героя, который в конце концов сходит с мирного гражданского поприща и, подобно Копейкину, вступает на путь «воина»-«разбойника» – загробного демонического мстителя.
Все сказанное дает возможность по-новому осмыслить агиографический подтекст гоголевской «Шинели» (Акакий Акакиевич Башмачкин – св. Акакий) – тему, ставшую уже общепризнанной в работах о Гоголе (внимание исследователей в этой связи обычно привлекают необыкновенные «самоограничение» и «подвижничество» героя на его незавидном поприще). Очевидно, однако, что герой, вложивший всю без остатка душу в «шинель» – в свою самозащиту и самоукрашение, вряд ли может быть назван подлинным христианским подвижником. Страдания его – сначала по приобретению шинели, потом от ее утраты – прямо противоположны мученичеству тезоименитого ему св. Акакия из сорока мучеников, пострадавших за исповедание Христа в 320 году в Армении, произвольно вдавших себя на мучения: замерзнувших во льду Севастийского озера, совлекшись тем самым и одежды, и самой плоти. На связь «Шинели» со страданием сорока мучеников Севастийских впервые указано в работе Э. Пеуранена «Акакий Акакиевич Башмачкин и Святой Акакий» (Slavica Finlandensia. Т. 1. Helsinki, 1984).
На эту неприглядную сторону героя «Шинели» (заслуживающего не только сострадания, но и порицания) в свое время уже было обращено внимание. Критик Аполлон Григорьев писал в 1847 году в статье «Гоголь и его последняя книга»: «В образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеленья Божьего создания, до той степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и уничтожающего горя, до того, что шинель делается трагическим fatum в жизни существа, созданного по образу и подобию Вечного…» (Григорьев А. А. Гоголь и его последняя книга//Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. М., 1982. С. 113–114).
Очевидно, что Башмачкин, при всем его «самоотвержении», мало чем отличается от окружающего мира с его показным «благоприличием» и внутренней пустотой. Обретая с новой шинелью новое «качество», Башмачкин становится способен даже и сам посмеяться над своим старым «капотом»: «Он… нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой… взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот».
С другой стороны, окружающий мир, в свою очередь, мало чем отличается от ничтожного Башмачкина. Согласно замечанию рассказчика «Невского проспекта», из обитателей Петербурга многие лишь тем и примечательны, что «превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое». В мир, озабоченный приобретением шинелей, сюртуков (или столь же «самоотверженным» ухаживаньем за «чудными» усами и бакенбардами), входят не только «ничтожные» мелкие чиновники вроде Акакия Акакиевича. К этому миру, несомненно, принадлежит и самый избранный великосветский бомонд– к примеру, недостижимый для бедного художника Пискарева в «Невском проспекте» мир «молодых людей в черных фраках», которые «были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук… что он растерялся вовсе».
Тема показного светского блеска является сквозной для замысла «Шинели». Лицемерие, прикрывающее внутреннюю пустоту, пронизывает не только частную жизнь петербургских обитателей, но буквально все сферы деятельности «цивилизованного» Петербурга. «Боже, какие есть прекрасные должности и службы! – восклицает не без иронии рассказчик «Невского проспекта», – как они возвышают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников». «У нас служба благородная, – замечает, в свою очередь, герой «Записок сумасшедшего», – чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению, столы из красного дерева, и все начальники на вы».
Здесь необходимо еще раз обратить внимание на автобиографическое начало «Шинели» – в частности, на отразившиеся в повести впечатления Гоголя, полученные им во время его собственной службы в 1830–1831 годах в должности мелкого чиновника в одном из петербургских департаментов. Именно в то время, когда Гоголь – еще неизвестный тогда никому литератор – сообщал матери, что «отхватал всю зиму в летней шинели», он поступил на службу канцелярским чиновником в департамент уделов. «После бесконечных исканий, – писал он матери 2 апреля 1830 года, – мне удалось наконец сыскать место, очень однако ж незавидное…»
В департаменте уделов Гоголь прослужил около года, с апреля 1830-го по февраль 1831-го. Именно этот департамент был в России первым по части внешнего европейского «облагороживания» присутственных мест. Эти преобразования были сделаны здесь в 1827 году министром Императорского Двора и уделов князем П. М. Волконским, после чего в следующем, 1828 году, 21 января, департамент посетил, с целью осмотра, Император Николай Павлович. Непосредственный начальник Гоголя в департаменте уделов В. И. Панаев (крайне неодобрительно, кстати, отзывавшийся позднее о гоголевском «Ревизоре»: «Вдруг какой-то коллежский регистраторишка дерзает осмеивать… даже самих губернаторов»; (Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1956. С. 159) вспоминал: «Столы, стулья, конторки, шкафы, все явилось новое, просто, но изящно сделанное. Для хранения дел придуманы форменные картонки; на столах однообразные чернильницы; пол паркетный, ковровые дорожки через анфиладу комнат. Это был первый пример благоприличного устройства присутственных мест, поданный князем Волконским» (Воспоминания В. И. Панаева IV Вестник Европы. 1867. № 12. С. 143).
Во втором томе «Мертвых душ» Гоголь так описывал поступление своего героя, юного помещика Тентетникова, на государственную службу: «…проведя два месяца в каллиграфических уроках, достал он наконец место списывателя бумаг в каком-то департаменте… Когда ввели его в великолепный светлый зал с паркетами и письменными лакированными столами, походивший на то, как бы заседали здесь первые вельможи государства… и увидел он легионы красивых пишущих господ, шумевших перьями… и посадили его самого за стол, предложа тут же переписать какую-то бумагу, как нарочно несколько мелкого содержания… необыкновенно странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, как бы он очутился в какой-то малолетней школе, затем, чтобы сызнова учиться азбуке, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний».
Очевидно, именно европейскому показному блеску– европейской светскости и европейской бюрократии, прикрывающим внутреннюю пустоту и бессодержательность, – во многом и обязан, по мысли Гоголя, чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин, с одной стороны, поглотившим всю его душу пристрастием к внешнему «благолепию» (к «шинели»); с другой – самым характером своей формальной служебной деятельности. Об этом, в частности, можно судить из содержания одной из сцен упомянутой комедии Гоголя «Владимир 3-ей степени», опубликованной еще в 1836 году под заглавием «Утро делового человека». Здесь как бы прямо изо-. бражается формирование «сферы» служебных занятий будущего героя «Шинели». Прообраз Башмачкина – «чиновник для письма» с университетским образованием «немец» Шрейдер – вынужден заниматься здесь бессмысленным переписыванием лишь потому, что, как замечает его начальник, «поля по краям бумаги неровны». Начальник этот, правитель канцелярии Иван Петрович Барсуков, обращается здесь к чиновнику Шрейдеру: «Что это значит? у вас поля по краям бумаги неровны. Как же это? Знаете ли, что вас можно посадить под арест?..» В разговоре с приятелем герой добавляет: «Порядочный молодой человек, недавно из университета, но вот тут (показывая на лоб) нет. Вы себе не можете представить… скольких трудов мне стоило привесть все это в порядок… Вообразите, что ни один канцелярский не умел порядочно буквы написать. Смотришь: иной «къ» перенесет в другую строку; иной в одной строке напишет «си», а в другой: «ятельству»… Теперь возьмите вы бумагу: красиво! хорошо! душа радуется, дух торжествует». – Вполне очевидно, что должной стойкости в реализации своего таланта «прототип» Акакия Акакиевича чиновник Шрейдер из «Владимира 3-ей степени» при этом не проявляет, обещая тем самым вполне уподобиться впоследствии своему начальнику, – погубив, таким образом, данный ему от Бога талант в «им самим на себя наброшенных» оковах. В 1882 году исследователь Н. Я. Аристов писал по поводу образа Акакия Акакиевича: «Мелкое чиновничество тянулось за крупным и подражало ему во всем… созданное искусственно на бюрократический немецкий лад, оно размножало класс нищих в Петербурге, как прекрасно изображено в повести “Шинель”…» (Аристов Н. Я. Иноземное влияние в России, изображенное Гоголем в его сочинениях // Аристов Н. Я. Сочинения Н. В. Гоголя со стороны отечественной науки. СПб., 1887. С. 96). В «Пестрых сказках» князя В. Ф. Одоевского этому прямо соответствует характеристика подчиненных коллежского советника Ивана Богдановича Отношения: «Подчиненные подражали во всем своему начальнику: спокойно, бесстрастно писали, переписывали бумаги и составляли им реестры и алфавиты…» (<Одоевский В. Ф., князъ> Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою… С. 77–78).
Добавим, что к образу Башмачкина как погубившего свой талант «художника» имеет, по-видимому, отношение и сама фамилия его прототипа – Шрейдер. Известно, что Гоголь, на протяжении трех лет посещавший в Петербурге классы Академии художеств, знакомый и с вице-президентом Академии графом Ф. П. Толстым, и с секретарем Академии и Общества поощрения художников В. И. Григоровичем (см. письма Гоголя В. И. Григоровичу от 1 января 1833 г., от 7 января (н. ст.) 1841 года, а также: Воспоминания М. Ф. Каменской!/Исторический Вестник. 1894. № 9. С. 629), хорошо знал круг петербургских художников. Поэтому вполне вероятно, что и фамилия героя «Утра делового человека» – «чиновника для письма» Шрейдера – тоже связана с размышлениями Гоголя об искусстве. Такую фамилию носил один из столичных художников – в 1830-х годах начинающий, а в 1840-1850-е годы получивший некоторую известность художник-гравер К. Шрейдер (Schroeder). Творчество Шрейдера с самого начала отличалось ярко выраженным «торговым» направлением – он известен как автор многочисленных литографий с изображением предметов модной петербургской роскоши: щегольских экипажей, мебели, люстр, часов; «внутренней и наружной отделки магазинов», витрин, мостиков, лестниц, садовых «павильонов», «изящно отделанных комнат», полов, потолков… – исполненных в разных «стилях: греческом, итальянском, византийском, готическом, французском и проч.». Об этой роскоши упоминает, в частности, «переписчик» Поприщин в «Записках сумасшедшего»: «Хотелось бы мне заглянуть в гостиную… Эх, какое богатое убранство! Какие зеркала и фарфоры! Хотелось бы мне заглянуть… в будуар: как там стоят все эти баночки, скляночки…» В статье «Об архитектуре нынешнего времени» (1834) Гоголь замечал: «Мы имеем чудный дар делать все ничтожным. Египетскую архитектуру… мы издерживаем на небольшие мостики, на ворота… Из готической мы делаем серьги, футляры для часов; греческую мы употребляем в беседках». Об этом «искусстве» Гоголь и упоминает в «Утре делового человека». «Довольно хорошо у вас потолки расписаны… Очень, очень недурно: корзиночки, лира, вокруг сухарики, бубны и барабан! очень, очень натурально!» – говорит правителю канцелярии Ивану Петровичу Барсукову его приятель. (Известна уничтожающая характеристика «таланта» К. Шрейдера, данная В. Г. Белинским, когда в 1842 году Шрейдер взялся иллюстрировать произведения А. С. Пушкина; Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 6. С. 231.)
Очевидно, что и со «значительного лица» вину за превращение «художника» Башмачкина в Башмачкина-«идиота» Гоголь тоже не снимает. Вина европейски «образованного» начальства Акакия Акакиевича в том, что, несмотря на столы из красного дерева и «тонкое обращение» с подчиненными, отношение между людьми в «благородных» службах не приобретает «благородства» и маленький чиновник Башмачкин оказывается «существом, никем не защищенным, никому не дорогим, ни для кого не интересным»: «Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически… Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия…» Эта настоящая цена европейской светскости и открывается молодому чиновнику, услышавшему «немой» возглас Башмачкина «я брат твой»: «.. И много раз содрогался он потом на веку своем, видя… как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и… даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным…»
Как бы подытоживая многовековой опыт заблуждений человечества, Гоголь в отдельном наброске писал: «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии. Сколько раз уже отшатывалось от него человечество и сколько раз обращалось. Несколько раз совершит человечество свое кругообращение… и возвратится вновь к Евангелию, подтвердив опытом событий истину каждого его слова». Этот вывод вполне может быть отнесен и к размышлениям писателя о судьбе героя «Шинели». Подчеркивая отличие подлинной, христианской, образованности от лицемерной «утонченной» светскости, Гоголь в «Переписке с друзьями» замечал: «Настоящее comme il faut скомильфо – как надо, как следует; фр.> есть то, которое требует от человека Тот Самый, Который создал его, а не тот, который приводит в систему обеды… и не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикеты…»
В «Размышлениях о Божественной Литургии» Гоголь указал и на основу подлинно братских отношений между людьми: «Если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату». Как бы прямо обращаясь к «значительному лицу», сыгравшему роковую роль в судьбе «маленького» чиновника Башмачкина, Гоголь писал: «Если только молившийся благоговейно и прилежно следит за всяким действием, покорный призванью диакона… он невольно становится милостивей и любовней с подчиненными».
С другой стороны, имея в виду задачу, поставленную в 1836 году в статье «Петербургская сцена…», – изобразить «нашего честного, прямого», верного присяге человека, Гоголь в качестве источника жертвенного служения на воинском и гражданском поприще опять-таки указал на Божественную Литургию.
Несомненно, Гоголю было хорошо известно первоначальное значение слова «литургия» как «общественное служение или служба». Об этом значении, в частности, упоминал – со ссылкой на св. Иоанна Златоуста – И. И. Дмитревский, чьими изъяснениями на Литургию Гоголь пользовался в работе над «Размышлениями…»: «Св. Златоуст называет литургиею благочестивую жизнь всякого христианина». «Верховнейшая минута» Евхаристии, пресуществление, писал Гоголь в книге о Литургии, «есть минута и жертвоприно-шенья, и напоминанья всякому о жертве Творцу».
«Литургическое» значение Гоголь придавал и гражданскому служению. Об этом, в частности, позволяет судить появившийся в 1842 году, в соответствии с «рекомендациями» его ранней статьи «Петербургская сцена…», образ страдающего, но не изменяющего голосу совести честного чиновника в «Театральном разъезде…». Один из героев пьесы по поводу его восклицает: «Да хранит тебя Бог, малознаемая нами Россия! В глуши, в забытом углу твоем, скрывается подобный перл, и, вероятно, он не один. Они, как искры золотой руды, рассыпаны среди грубых и темных ее гранитов». Образ этого честного труженика («имя» которого – «Очень скромно одетый человек» – прямо напоминает о герое «Шинели») был, в частности, навеян Гоголю письмом матери. 1 сентября 1842 года он отвечал ей: «Из всех подробностей письма вашего… более всех остановило меня известие ваше о чиновнике, которого вы встретили в Харькове… скажите или напишите ему, что его благородство и честная бедность среди богатеющих неправдой найдут ответ во глубине всякого благородного сердца, что уже есть выше многих наград… Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к сердцу страждующего душою, тогда идите с ним прямо в церковь и выслушайте Божественную Литургию… Тот, Кто умел все в жизни претерпеть за нас, Тот вооружит твердостью и силой его душу, о которые разлетятся земные несчастия».
Как позволяют судить строки черновика этого письма, упоминание здесь о литургии прямо связано с представлением Гоголя о всяком подвиге как «жертве», подобной Жертве, приносимой за весь мир на литургии. «Скажите ему… – писал Гоголь матери, – что как бы ни казалась ему ничтожна приносимая им доля на жертвенник правды, эта малая доля многое сделает… Тот, Кто все вытерпел из любви к человекам… Тот услышит и оценит всякую жертву…»
Образ готового к самопожертвованию незаметного честного труженика стал одним из важнейших для «Выбранных мест из переписки с друзьями». Его имеет в виду Гоголь, когда упоминает в письме к А. О. Смирновой «Что такое губернаторша» о неподкупном уездном судье М*** уезда, которого она, как «губернаторша», вызвала к себе с тем, чтобы «почтить его радушным угощением и дружеским приемом за прямоту, благородство и честность». «Мне нравится при этом случае то, – добавлял Гоголь, как бы вновь напоминая о герое «Шинели», – что судья (который, как оказалось, был просвещеннейший человек) одет был таким образом, что его… не приняли бы в переднюю петербургских гостиных». В том же письме Гоголь, говоря о необходимости занятия дворянами «невидных должностей и неприманчивых мест» провинциального управления, опять напоминает о «жертве»: «.. ни в каком случае не должно упускать из виду того, что это те же самые дворяне, которые в двенадцатом году несли все на жертву, – все, что ни было у кого за душой».
Непосредственно к самому безвестному честному труженику – своему читателю – обращался Гоголь в «Переписке с друзьями» в письме «Напутствие»: «Все вижу и слышу: страданья твои велики… Но вспомни… всех нас озирает свыше Небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора». Так в «Выбранных местах…» Гоголь очертил иную судьбу и иное, подлинное назначение героя «Шинели». «Монастырь ваш – Россия!.. – обращался он к графу А. П. Толстому, вышедшему в 1840 году в отставку, но впоследствии вернувшемуся к служебной деятельности и занявшему пост обер-прокурора Святейшего Синода (возможно, произошло это не без влияния Гоголя). – Не отговаривайтесь вашей неспособностью, – у вас есть много того, что теперь для России потребно и нужно». «Не уклоняйся же от поля сраженья, – обращался Гоголь к читателю в статье «Напутствие», – не ищи неприятеля бессильного… Вперед же, прекрасный мой воин!.. С Богом, прекрасный друг мой!»








