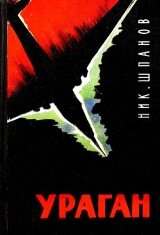
Текст книги "Ураган"
Автор книги: Николай Шпанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
2
Ченцов распахнул дверь.
– Андрей!.. Входи!
За руку втянув Андрея в комнату, Ченцов ласковым толчком в грудь заставил его сесть на диван.
Андрей долго тер платком мокрое лицо. С возмутительной, на взгляд Ченцова, медлительностью и педантичностью складывал платок. Даже в карман его прятал как-то особенно неторопливо и тщательно.
Ченцов не выдержал:
– Слушай, Андрей, не надо ни одного лишнего слова. Мне нет дела до того, что и как вы там делаете. Но я не в силах больше томиться: знать, как это меня интересует, и вести себя подобно какому-то…
– Много будешь знать, скоро состаришься… – Андрей рассмеялся. Он смеялся совсем не так, как в доме отца, и вообще держался иначе – словно был совсем другим человеком. – Если уж по науке… – Андрей сделал паузу и многозначительно подмигнул Ченцову. – Так вот: мы можем все!
– Как?
– Все!
Ченцова не удовлетворил такой ответ, но Андрей уклонялся от расспросов. Некоторое время Вадим Аркадьевич молча стоял у окна, глядя на дождь, и вдруг сказал:
– Идем. Пройдемся.
– В эдакую-то хлябь?
Но Ченцов уже накинул плащ и первым вышел на улицу. Сквозь шуршание дождя по деревьям бульвара был слышен скрежет троллейбусного провода. Сверкнув фарами, пронесся автомобиль. Из-под шипящих шин фонтан грязной воды ударил по плащу Ченцова. Впереди серебрилась будка регулировщика. Высоко горел огонь светофора. Друзья молчали. Ченцов шел быстро, согнувшись. Он втянул голову в воротник и засунул руки в карманы так, что ткань плаща обтянула плечи и худые крылья лопаток.
Справа мерцали огни Лужников. За ними электрической туманностью до самого горизонта светилась Москва. Слева высилась громада университета.
Шаги Андрея были мельче, но, широко размахивая руками, он легко поспевал за Ченцовым.
– Может быть, хватит, а? – проговорил он и остановился. – За каким чертом ты потащил меня в эту мразь? Я для тебя и без того уже нарушил режим.
– Ты нездоров?
– А по-твоему, режим нужен только больным и старцам – кому он вовсе и не надобен?
– А, понял… – Ченцов опять попытался заглянуть под капюшон Андрея. – Извини. Очень хотелось поговорить.
– Славно поговорили, – с добродушной иронией сказал Андрей, обведя вокруг широким движением руки, и повернул обратно, к дому. – Не пойму, почему говорить нужно в первом часу ночи.
Ченцов склонился к самому его лицу. Казалось, вот-вот его нос, острый и длинный, как клюв большой тощей птицы, коснется лица друга.
– Не знаю, – неожиданно повысил голос Ченцов, – сумеют ли использовать это как нужно? Я не политик, но всем существом чувствую неразрывную связь между тем, что делаю, и самой высокой политикой. Нет сейчас более важной цели, нежели мир.
– Эва, куда: политика!
– Да, да, именно туда! Если вы, черт вас дери… Если ты и тебе подобные не сможете использовать «тау» для ликвидации этого ужаса, грош вам цена!
– Ой-ой-ой! – Андрей из-под капюшона посмотрел на Ченцова. – Уверен: у нас порядок. Только добейтесь габаритов. Пока ваша чертовщина – не Лайка и не Белка.
– Да, габариты – это ужасно, – пробормотал Ченцов. – Просто ужасно. – И устремился вперед, будто торопясь уйти от собственных мыслей.
– Постой, погоди! – рассердился Андрей. – Пожалуйста, не психуй. Поди скажи Тимоше, что ты гений, а твои «тау» будут доставлены, куда и когда нужно.
– Желаю тебе… так желаю… – бормотал Ченцов. – И так я тебе, Андрюша, завидую. Ах, как завидую!.. Ты же можешь даже глянуть на луну с заднего фасада, а?!
– Поглядеть и – домой, чай пить. Удивительная штука – чай с молоком. И к нему мед. И знаешь, есть такие сушки – горчичные. Вот бы к чаю с молоком! Это да! По науке! После луны.
– Мерзость! Чай с молоком! Даже в детстве не мог…
Дальше до дома шли молча. Андрей сел в машину. Рука Ченцова лежала на опущенном дверном стекле. Он задумчиво размазывал капли дождя.
– И все-таки завидую: ты вот такой. У тебя такое дело. И вообще…
– Век летающего короче воробьиного.
– Ну, непременно уж…
– Я не о том. Существовать можно и сто лет. Да что толку! Речь идет о возрасте, когда можно летать. Чем стремительней совершенствуется самолет, тем меньше времени оставляется человеку для работы на нем.
– И вылетавшись можно работать.
– Можно, да не всем охота. Больше яблони разводят. Иные с утра до вечера на корде лошадей гоняют. Но это редко. Кто попроще – яблонями занимается. Еще цветами.
– А ты?.. Ты тоже не останешься у дела?
– Я и сейчас почти сыт, – нахмурился Андрей.
– Значит, яблони или лошади?
– Скорей уж цветы. А вернее всего – писать. Всю жизнь мечтаю: написать бы воздух. Воздух и человека воздуха. Летающего человека. И машину.
– А я думал, стихи…
– Стихи – это тоже здорово! Люблю стихи:
Мне с тобою, как горе с горою, Мне с тобой на свете встречи нет.
Но весенней лунною порою Через звезды мне пришли привет…
– Твое?
– Увы, нет!
Шум двигателя смешался со смехом Андрея.
Прошуршали шины.
Вдали, за поворотом бульвара, исчезла белая полоска света. Следя за нею взглядом, Вадим пробормотал:
– Нам с тобою, как горе с горою… О ком бы это он?..
Покачал головой и, шлепая по лужам, побрел домой.
3
Шипение баллонов по мокрому асфальту, удары воды снизу по машине, когда она проносится над большими лужами; брызги, когда они летят в стороны или оседают на стекле и через минуту обращаются в сухие пятна, мешающие смотреть; ошеломляющий свет встречной машины, одинокий пешеход, не спеша переходящий дорогу, – все вызывало реакцию Андрея – мгновенную, точную. И вместе с тем его мысли были далеко и впервые вернулись сюда, на мчавшийся навстречу автомобилю асфальт, лишь в тот момент, когда показался знакомый сложный перекресток. Кончался город. Нога плавно остановила машину: он решил не ехать дальше. Некоторое время смотрел немигающими глазами сквозь грязное стекло, потом развернул автомобиль и погнал обратно. Гнал со всей скоростью, какую мог выжать. Непреодолимо хотелось домой. Хотелось увидеть Веру. Именно сейчас. Непременно. Это стало необходимо. Более необходимо, чем ехать в Заозерск и ложиться в постель для отдыха перед утренним выходом на аэродром. Вера! Она была сейчас необходимее всего на свете! Необходимее самого света. Сейчас. И, может быть, всегда? Или?..
Отомкнув дверь квартиры, Андрей неслышно прошел в столовую и остановился перед дверью спальни. Вдруг подумалось: а правда ли, что ему этого так хочется? И следовало ли сейчас быть здесь?.. Пальцы, лежавшие на ручке двери, ослабли… И тут вдруг ручка опустилась сама, нажатая с другой стороны. В полуосвещенном прямоугольнике двери стояла Вера.
При виде Андрея она не удивилась. С глубоким вздохом протянула руки и охватила его шею. Прижалась лицом к его лицу. Андрей сразу почувствовал, что щека ее мокра. Целуя, ощутил соленость слез. А Вера, всхлипывая, все крепче сжимала его шею. И вдруг сквозь вкус соли и привычный аромат терпких духов Андрей услышал противный запах вина. Кровь прилила к лицу. Но Вера влажными губами закрыла ему рот, словно угадав и предупреждая вопрос.
4
Ченцов стащил с себя дождевик и рассеянно сунул его на вешалку мимо крючка. Плащ упал на пол. Ченцов не обернулся. Лужа медленно растекалась по паркету.
Опустив голову, Ченцов лениво переступал со ступеньки на ступеньку. Казалось, все его внимание было сосредоточено на звуке, доносящемся сквозь щель под дверью мансарды: Тимоша втягивала носом воздух.
На верхней площадке Ченцов присел на корточки и подул под дверь. Тимоша тявкнула на той стороне. Ченцов с шумом ворвался в мансарду, подхватил взвизгнувшего от восторга терьера и закружился по комнате. Прилег было на диван. Но, заметив, что его клонит ко сну, вскочил. Раздернул штору. Дождь перестал. Деревья на левой стороне бульвара посветлели. За ними ясно открылась панорама Юго-Запада.
…Андрей сказал: «тау» может быть доставлена, куда нужно, когда нужно…
– Тимка! Какая теснотища в черепе! Такая маленькая коробочка. Мысли стремятся убежать… Куда? На свободу. Чтобы никогда не вернуться, если ты не достоин их. Хотел бы я знать, куда они деваются, освободившись? Тимка!
Собака любопытно склонила голову. Лопушки мохнатых ушей поднялись. Угольками глаз, укрытых нависшими космами шерсти, собака старалась поймать взгляд хозяина. А Вадим стоял, глядя вверх. Может быть, там ему виделось что-то, чего искала мысль? А может статься, это и не было еще мыслью. Только интуиция подсказывала, что там что-то должно быть. Должно быть!
– Гулять, Тимош. Скорей гулять! И думать, думать, думать! Погляди, уж солнце встало, а мы с тобою будто спим. Стоя спим. Ходим – спим. А надо думать, думать, думать!..
Ченцов устремился вниз, по гулко загремевшим ступенькам. Внезапно остановился:
Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну.
Ты вечности заложник, У времени в плену!..
– Мы выбьем эти слова на стене. – Ченцов прислушался к собственному голосу: – «Ты вечности заложник, у времени в плену». Золото этих слов засверкает перед нами. «Не спи, не спи, художник!..» Разве все, что есть на свете, не плод бессонных ночей какого-нибудь художника? Движение вперед – это бессонные ночи. Где бы художник ни работал – в живописи, физике, хирургии, даже в сапожном деле. Всюду он у времени в плену. Удивительная жизнь!
Ченцов распахнул дверь на двор, навстречу влажной прохладе утра и, предшествуемый весело семенящей собачкой, почти побежал по бульвару. Казалось, он просто послушно следует за собакой. Внезапно остановился, стал шарить в карманах. Его лицо выразило напряжение.
– Бумаги!.. Тима, кусочек бумаги… – жалобно проговорил он.
На пустом бульваре лаком блестели омытые дождем липы. По ту сторону глянцевой черной реки асфальта, такой же вымытый, нарядный, розовел в утреннем солнце город. Взгляд Ченцова скользил, ничего не замечая.
– Бумаги… бумаги!..
Тимоша поджала хвост, казалось, вот-вот готовая повторить: «Бумаги… бумаги…»
Продавец поднимал деревянный щит газетного киоска. Ченцов побежал.
– Газету… Скорее газету!
Продавец смотрел удивленно.
– Какую-нибудь, – торопил Ченцов, – вчерашнюю, старую! Только скорей!
Схватил с прилавка первое, что попалось, и побежал к скамейке. Следом вприпрыжку неслась Тимоша.
Перо Ченцова лихорадочно бежало по узкому краю газетного листа. Математические знаки расплывались, цеплялись друг за друга беспорядочной колонкой. Ченцов не дописывал строк, знаков, букв, захлебывался в обилии напирающих символов.
Кончились чернила в пере.
– Мы нищие, Тима, какие мы нищие, – бормотал он. – Половина того, что мы думаем, пропадает, погибает. Рука не поспевает за мыслью. Нужна машина, записывающая мысли. Непременно нужна машина. Диктовать не слова, а мысли.
Завалявшийся в кармане карандаш оказался сломанным. Ченцов попробовал отлущить дерево, но ногти ломались. Зубами оторвал деревянную обложку графита и стал писать. Но вдруг изгрызенный конец карандаша замер над газетой.
Ченцов нахмурился. Он глядел на купы лип, не видя их зелени; на небо, не замечая его голубизны; на громаду университета… Губы плотно сжаты, а пальцы разжались – карандаш упал и покатился. Скатился с края тротуара на мостовую. Тимоша подняла лапу, вильнула обрубком хвоста, вопросительно оглянулась на Ченцова. Тот ничего не замечал, пока не раздался пронзительный скрежет совсем рядом: неживой, железный. Взгляд Ченцова, как фотографический аппарат, навсегда запечатлел: Тимоша, хватающая зубами катящийся по асфальту желтый карандаш, и над нею толстая автомобильная шина. И страшный визг тормозов.
Через минуту Ченцов, судорожно прижимая к груди дрожащую собаку, шел домой. Он то и дело спотыкался; длинные ноги путались, как будто он забывал, какою ступить вперед.
Газета осталась на скамейке. Ветерок пошелестел листами, сбросил их со скамьи, протащил по мостовой. Подхватил, поднял и перебросил сразу на несколько метров. Газета прилипла к влажному асфальту.
На бульваре было тихо и пусто. Сверкали на солнце отмытые липы, блестел маслянисто-черный асфальт.
Проехал троллейбус. Огромное колесо прошло по газете, отпечатав на ней широкий грязный след. Он покрыл все, что было написано на узком поле листа.
Глава 3
1
Андрей знал, что генерал-лейтенант Ивашин, командир Особой дивизии ВВС, куда входила Отдельная эскадрилья «МАКов», непременно приедет в Заозерск, чтобы поговорить с летчиками о недавней аварии капитана Семенова. Уступив свой стол генералу, Андрей уселся у окна. Отсюда открывалась широкая, до мелочей знакомая и вместе с тем всегда чем-то новая панорама аэродрома. Она не отвлекала внимание Андрея от того, что говорил генерал. Пройдя сквозь сознание Андрея, слова комдива словно уплывали вдаль, к синей каемке леса, и исчезали между изжелта-красными кронами рябин, которыми была обсажена бетонная дорожка, ведущая от штаба к летному полю.
Огорчало, что Ивашин, делая выводы о причинах неудачного катапультирования Семенова, не посчитался с Андреем. Правда, генерал умолчал о том, что его решение расходится с мнением Андрея. Даже можно было подумать, будто они сделали вывод в самом твердом согласии. Этим Ивашин как бы поддержал авторитет полковника Черных. Но для Андрея разногласие с комдивом оставалось неснятым.
– Не останавливаясь на чисто медицинских подробностях, считаю все же необходимым дать общую картину состояния капитана Семенова после выброса. Повторю то, что установлено врачами, – говорил Ивашин звонким голосом, на ударениях срывавшимся в высокие ноты. – Глазные яблоки летчика выпучены за пределы век; кончик носа оторван, все лицо изранено и изрезано. Значит, капсула не была закрыта. Почему? Вина конструкции или летчика? Так или иначе, сильный удар воздуха по животу вызвал прилив крови к лицу, раздул его. Воздух, сдавивший горло, пришлось удалять желудочной помпой…
Будь на месте Ивашина кто другой, Андрей не удержался бы от повторения того, что говорил вчера: «Дело не в капсуле, а в капитане Семенове». Но сейчас Андрей не возражал. Он любил своего бывшего учителя, как летчик только может любить человека, которому обязан всем авиационным, что в нем есть. Эта любовь дожила в Андрее до зрелых лет почти в том же мальчишеском виде, в каком она в школе, а потом в академии заставляла смотреть на любимого наставника как на образец летающего человека. Впрочем, Андрей не был исключением: большинство тех, кто прошел через руки Ивашина, сохранили такое же чувство.
Ивашина уважали. Знали: он никогда не станет утверждать того, во что сам не верит. Будь хоть трижды предписано. Ивашин считался «самым трудным» генералом в ВВС. Быть может, отчасти это и создавало ему ореол неподкупной прямоты и резкости – репутацию человека, готового отстаивать свои взгляды и своих подчиненных перед старшими начальниками с риском для собственного благополучия. Впрочем, эти качества, положительные во всяком офицере, у Ивашина с годами начинали перерастать в свою противоположность. Это смахивало на что-то вроде бравады, не всегда способствовавшей укреплению дисциплины.
Чуть-чуть ироническое выражение не сходило с лица Ивашина и тогда, когда он говорил самые серьезные вещи. Коротко остриженные белесые волосы вокруг небольшой лысины завивались в наивные кудряшки, какие к лицу деревенскому парнишке, а не авиационному генералу. Они вздрагивали и пушились всякий раз, когда Ивашин в запале беседы встряхивал головой. А встряхивал он ею то и дело – в полную силу своего неугомонного темперамента, на первый взгляд никак не вязавшегося ни с курносым лицом, ни со срывающимся на фальцет, совсем «не генеральским» голосом. Трудно было себе представить, что такой напор жизненных сил держится в человеке за шестьдесят лет. А вот попробуй-ка разберись, когда на тебя уставятся глаза генерала: смеются они оттого, что он вовсе и не сердится, или оттого, что он не может без смеха глядеть на такого дурака, каким ты чувствуешь себя под его взглядом?
– Отчет о физическом состоянии капитана Семенова, – говорил Ивашин, – можно закончить тем, что его тело едва ли не по всей своей поверхности имеет повреждения от ударов. Врачи говорят, что после длительного лечения зрение, вероятно, восстановится, но глаза навсегда сохранят повышенную чувствительность к свету и медленную адаптацию к темноте. Питание будет ограничено вследствие повреждения печени. Если в дальнейшем летчик и будет пригоден к полетам, то разве только на легких тренировочных самолетах. Иными словами, он потерян для боевой работы, не говоря уже о гиперзвуковой авиации.
Подняв голову, Андрей столкнулся с многозначительным взглядом Ивашина. Значит, все же, по мнению генерала, именно он, Андрей, виноват в том, что авиация потеряла летчика первого класса капитана Семенова?
А Ивашин, словно нарочно, настойчиво повторил:
– Да, потерян хороший летчик, из строя выбыл способный офицер.
«Что он, издевается, что ли? – подумал Андрей. – Как будто вчера не было переговорено все с глазу на глаз?»
***
«Отлично понимаю, – сказал вчера Ивашин, – совершенно очевидно: приняв решение катапультироваться, Семенов действовал неправильно. Он скверно управлял своими движениями, потому что не вполне владел собственными мыслями. И пусть винит в этом самого себя. Но я обязан смотреть дальше. Если не за то, что он думает, то, во всяком случае, за то, что делает, передо мною отвечает его командир. Этот командир ты, полковник. Ты отвечаешь за то, что Семенов нарушил режим. Ты отвечаешь за то, что накануне полета он пил на каком-то семейном празднике… Ты виноват и в том, что, вернувшись с пирушки, Семенов вместо своей постели лег в постель к жене».
«Ну, знаете!..» – вырвалось у Андрея, но генерал еще крепче сжал его локоть, и Андрей увидел, как этот полнокровный, сильный человек, покраснев, поспешил добавить:
«Надеюсь, ты не подозреваешь меня в пошлости. Но если у них там что-нибудь не так, жизнями за это расплачиваться им, а отвечать – тебе. Значит, не научил их, как надо жить офицерам такой тяжелой службы».
«Многовато от меня хотите», – хмуро сказал Андрей.
«Ничуть не больше, чем ты обязан. Да что тут разглагольствовать, сам понимаешь. Дураки небось захихикали бы: «Монастырь, обет целомудрия». Что ж, ежели хочешь, своего рода монастырь. Да, пожалуй, построже святых обителей. И ты в нем – игумен, а я – архимандрит».
2
Глядя на исполосованное бетоном летное поле, Андрей не мог видеть ничего, кроме стоящих у дальнего края связных и транспортных самолетов. Но он так же отчетливо представлял себе все, что, по существу, скрывалось и под землей, – ангары и стоящие там в сиянии электричества ракетопланы своей эскадрильи. Каждый «МАК» был для Андрея полным жизни, почти сознательным существом. Летчик в нем – только часть организма. Может быть, самая важная, сознательная, и все-таки часть. Именно та часть, ради которой на самолете нужна катапульта; часть, о спасении которой нужно думать и думать. В этом отличие летчика от всякой другой части бинома человек – ракетоплан.
Пусть человеческий мозг уже не единственный точный инструмент, управляющий самолетом. И все же именно он, человек, остается душой, сердцем и совестью комбинации «летчик-машина». Да, так: он – ее совесть!
Ивашин отпустил офицеров. Оставшись вдвоем, генерал и Андрей еще долго говорили о том, чего ни тот, ни другой не хотели выкладывать при других. Андрей мог спорить, не роняя авторитета комдива. И он спорил, уверенный в правильности конструкции капсулы. Однако спор и на этот раз ничем не кончился, потому что генерал, поглядев на часы, сказал:
– Ты несправедлив к Семенову: у него поворотливые мозги, он даже остроумный парень.
– Он просто недисциплинированный офицер. Вот и все.
– Когда я был у него в госпитале, – с усмешкой сказал Ивашин, – он сказал мне кое-что такое… Ах, сукин сын! Если бы и я вместе с тобой не отвечал за то, что он натворил, – простил бы. Ей-ей! Человек, лишенный чувства юмора, без фантазии, без способности расширить видимый горизонт, навсегда заперт в том, что видит. Такому в нашем деле – гроб. Ей-ей!..
Когда они шли по летному полю, Ивашин сказал:
– Учи их хватать за уши темную силу, что приводит ко всем несчастьям.
– Какие уши? – недовольно отозвался Андрей.
– А черт их знает какие! – рассмеялся Ивашин. – И кого хватать – то ли технику, то ли слепые силы природы, то ли самого себя – тоже сразу не объяснишь. В том-то и дело, что каждый в каждом случае должен понять это сам. – И, помолчав, продолжал: – Однажды мальчонкой в деревне понесла меня лошадь. Я, как полагается, босиком, без седла, вместо узды – обрывок веревки. Все существо мое стало величиной с червяка: его можно было уложить в одно слово: «Удержаться!» Я слыхивал, что коня можно усмирить, ухватив за уши. Но ведь до ушей надобно дотянуться. А руки нужны, чтобы держаться за холку. Даже шею-то лошади не обнять – руки коротки. А тут дотянуться до ушей! А они, проклятые, вот они: под самым носом торчат, навостренные. Чувствую: не удержусь. Еще два-три взбрыка – и полечу под ноги коню. Ей-ей, не скажу теперь, как решился: наверное, уж не от храбрости – от страха. Страх, братец, враг номер один. Его-то и надобно хватать за уши.
«Да, хватать его за уши! – думал Андрей, молча шагая за генералом. – Может, и впрямь иногда страшно. Но иначе сбросит, как Семенова…»
Проводив Ивашина до самолета, Андреи смотрел, как генерал непринужденно, без усилия, поднялся в самолет, сел на край кабины, аккуратно постучал сапогом о сапог и легко перекинул ноги через борт. Тело генерала, казавшееся таким грубо срубленным, возле самолета обрело удивительную упругость. Этим Ивашин восхищал Андрея и в годы ученичества. Андрей всегда стремился подражать ему в движениях – простых, уверенных и легких.
Захлопнувшийся фонарь, рев двигателя, и машина точно, уверенно, но вместе с тем как-то особенно осторожно вырулила на взлетную полосу.
Ивашин оторвался, сделав лихачески-короткий, не уставный разбег. В этой старой повадке генерал не мог себе отказать даже тут, хотя знал, что на глазах летчиков должен блюсти авторитет инструкций. Лихость взлета и точность посадки отличали его всю летную жизнь.
Солнце совсем выползло из-за темной стены далекого леса. Рябины зардели еще ярче, отграничивая летное поле от той части авиагородка, где жили уже не самолеты, а люди – те самые сотые доли летающих машин, которые не могут считать так быстро, как электронные машины, видеть так далеко, как они, ориентироваться, как они, стрелять, как они, бомбить, как они, но без которых всей электронике – грош цена.
Андрей сошел с бетонки. Ноги приятно погрузились в некошеную траву, и сапоги заблестели от росы. Андрей слышал особенный, зоревый запах влажных цветов. Но чем ближе он подходил к штабу, тем больше хмурился. Хочется или нет – нужно считаться с тем, что говорит командование. Дело не только в том, что именно в такой части и именно под его командой не должно происходить ничего подобного случаю с Семеновым! Случай особенно неприятен тем, что катапультируемая капсула, с которой выбросился летчик Семенов, конструировалась при участии Андрея. К его слову прислушивались люди, работавшие над приспособлением для спасения жизни летчику при катастрофе гиперзвукового самолета. Андрей убежден: все испытания капсулы проведены с необходимой тщательностью; не допущено ни просчета, ни какого-нибудь недосмотра. Капсула должна была сработать безотказно и точно, если бы… Если бы не Семенов… И виноват в этом он, Андрей?..
Андрей остановился и посмотрел себе под ноги. С особенной отчетливостью ощутил сквозь кожу сапог холодок травы. Седые от росы стебельки чуть-чуть шевелились. Андрей присел на корточки и сорвал несколько травинок. Одни, сочно-зеленые, оставались еще совсем мягкими, другие уже подсыхали, были тверды как иглы. Андрей собрал пучок султанчиков и провел ими по лицу. В них было что-то детски простое и милое. Он отставил пучок на вытянутую руку и смотрел на него, как будто не верил тому, что это он, полковник Андрей Черных, сидит здесь в траве и забавляется травинками. Оглядевшись, подумал: до какой степени нет ничего общего между этими травинками и ревом самолетов, грохотом взлетных дорожек.
Андрей рассыпал метелку султанчиков и провел по одному из них ногтями: «Петушок идя курочка? Если петушок – значит, я прав: все с капсулой в порядке; если курочка…» Поглядел на оставшийся в ногтях султан: «Петушок!» Что ж, если есть уверенность в полноценности катапультируемого устройства, то все очень просто: самому испытать действие капсулы.
А вдруг все-таки?.. Нет, глупости!








