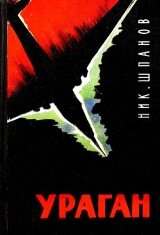
Текст книги "Ураган"
Автор книги: Николай Шпанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
2
С тех пор как в заозерском штабе появилась «рыжая», о Ксении, казалось, вовсе забыли.
«Рыжей» Ксения мысленно именовала Серафиму.
Андрей их не знакомил, и Ксения могла только гадать, кто эта решительная дама. Она является в штаб с таким видом, словно тут ее собственная контора, и здоровается со всеми молчаливым кивком головы.
Андрею пора было одеваться. Перед этим Ксения хотела проверить его сердце, дыхание, реакции. За все, что происходит в полете, она несет ответственность не меньшую, чем инженеры, и, во всяком случае, большую, нежели эта рыжая. Имеет ли эта особа представление о том, что тело Андрея должно испытывать нагрузки настоящего артиллерийского снаряда? Небось гостья не может и вообразить, что значит ощущение проклятых «g» хотя бы в момент, когда начинают работать стартовые ускорители. Сколько неприятностей причиняют они летчику! Нужно иметь поистине железный организм, чтобы все это выносить. Даже тренировочная тележка в момент перехода от скорости М1 к нулю дает ускорение с огромным числом «g». Какие же мрачные возможности таит для летчика переход к полету со скоростями 6М, 7М, 9М! Когда летчиков начинают тренировать, то, «провесив» только несколько секунд на какую-то полутонну тяжелее самих себя, они перестают соображать, видеть, двигать руками и ногами. А когда при перегрузке опорные ткани глаза прогибаются, хрусталик выходит из фокуса, артериальное давление крови оказывается недостаточным для снабжения мозга кислородом, развивается коматозное состояние. Ксения насмотрелась на такие штуки. А ощущения летчиков, когда ракетоплан выходит на орбиту?!
Теоретически, в случае полной исправности всех автоматических устройств, эти ощущения, может быть, и имели второстепенное значение, но Ксения держалась той точки зрения, что автоматика автоматикой, а, во всяком случае, и сам человек должен сохранять способность действовать, как если бы на борту не было никакой автоматики или она отказала. В последний раз, когда Андрей проходил в камере тренировку на полет по орбите в состоянии невесомости и было создано нулевое «g», рука Андрея совершила растерянное движение, прежде чем ухватиться за правую рукоять «космического» управления. Правда, всего лишь один раз произошла эта растерянность и через день Андрей сразу нащупал рукоять, но все же оставалось коварное «через день». Разве не она, майор медицинской службы Ксения Руцай, отвечает за то, что Андрей способен мгновенно отозваться на любой толчок нервов, вызванный одним из сигналов – красных, зеленых, синих, белых в виде лампочек, стрелок, капель? Его нервы должны быть в непрестанном напряжении, чтобы воспринять, и проанализировать сигналы любой автоматики, и мгновенно принять решение, и, если нужно, изменить задание всей системе электроники. Он, Андрей, должен крепко держать свои нервы в таком железном подчинении, какое не снится людям, ходящим по земле. А ведь он не автомат, он только человек. Существо во сто крат более совершенное, чем вся созданная им автоматика, и вместе с тем только человек.
Расхаживая по коридору перед дверью командирского кабинета, Ксения в десятый раз давала себе слово, что рапортом потребует отмены полета, если… Если что?.. Если Андрей?.. Если эта рыжая?.. Что? Что?
Между тем Андрея куда больше собственного самочувствия заботила сейчас работа «КЧК» – катализатора Ченцова – Короленко. Вадим болел и возню с прибором целиком предоставил Серафиме. Андрей не сомневался в ее знаниях, но не мог не видеть, что чем дальше подвигалось дело, тем больше Серафима нервничала.
Может быть, разгадку ее настроения следовало искать в разговоре, который у них как-то произошел.
– Война – мрачное, гнусное прошлое. С ним обязаны покончить они, их поколение, старшие. А мы должны работать на будущее, на жизнь, где не может быть войны и не будет. – И упрямо заключила: – Черт бы его побрал, этот КЧК. Почему мы ради него бросили свою отличную работу?
– Все это очень… – Андрей запнулся было, но все же с улыбкой договорил: – очень по-дамски. Как будто вы, физик, не понимаете, какой страшный джинн выпущен из кувшина. Кто загонит его обратно? Разве не вы, физики, обязаны наложить печать, которую человечество хочет видеть на кувшине? Ченцов нашел свой тау-прим, но не сумел пустить его в ход. Вы держали в руках генератор, но не знали, что сила, которую он родит, убивает войну. Скажу вам больше: будь мы даже на все сто уверены в работе вашего КЧК, мы не имеем права отказаться от активно-оборонительного оружия. До тех пор, пока…
– Ладно, оставим это, – решительно отрезала Серафима, – что бы я тут ни болтала, этот заказ будет выполнен, хоть меня и тошнит от слова «война».
Она слушала его, сдвинув брови.
– Вот вы все обо мне, о них и никогда ничего о своей работе…
Андрей пробормотал что-то об обыкновенности своего дела, «такого же, как всякое другое». Но она, казалось, его не слышала:
– Уже подходя к самолету, вы сознаете, что, оторвавшись от земли, можете на нее не вернуться… Знаете и все-таки… Я бы не могла. Я слишком дорога себе.
– Поверьте, мое «я» мне не менее дорого, чем вся солнечная система! – Андрей принужденно засмеялся. – Но дело совсем не в этом. Вы ведь тоже знаете, что каждый день рискуете жизнью, подходя к своему генератору. Нарушение изолирующего магнитного поля – и все! Вас нет! И так каждый день. Чаще, чем я летаю. Не говоря уже о том, что одно соседство с аппаратурой обеспечивает вам хорошую дозу рентгенов…
В предстоящем полете Андрей не видел сложности: самолет приблизится к блиндажу с урановым контейнером, электронное устройство приведет КЧК в готовность выдать поток тау-прим. Магнитная бутыль «откупорится» в тот момент, когда радиолуч, посланный с самолета, отразится от уранового заряда контейнера. Добрый джинн – тау-прим выскочит из бутылки и превратит злого джинна – уран в безобидный свинец. Эти операции будут автоматически повторены при прохождении над вторым контейнером, изображающим «водородную бомбу». Заключенная в ее заряде потенциальная энергия взрыва будет локализована. Дейтерий станет инертным гелием. Все это произойдет на шестисоткилометровой трассе полигона в несколько минут. Чтобы сделать площадку на высоте ста семидесяти километров, Андрею нужно провести взлет, подъем и выравнивание в течение примерно девяти-десяти минут. По окончании операции Андрею предстоят вернуть «МАК» в нижние слои атмосферы и на скорости триста семьдесят километров посадить его на аэродром.
Летчики Андреева поколения еще помнили, с какими трудностями, с какими жертвами авиация перешагивала пресловутый звуковой барьер; как лучшие пилоты платили жизнями за стремление понять, в чем же трудность шага в зазвуковые скорости. Теперь гиперзвуковой полет стал профессией Андрея. Повседневностью офицеров его эскадрильи было то, что для строевых частей ВВС еще оставалось завтрашним днем. Андрей хорошо знал, что люди его профессии несут тяжкое бремя ответственности, не задумываясь над высоким благородством этого добровольного бремени.
***
Наконец Ксения дождалась Андрея, но он так и не дал себя осмотреть с обычной тщательностью. Быстро закончив разговор с Ксенией, он поехал на аэродром.
Для Андрея-инженера в конструкции «МАКа» не было ничего тайного. Машина оставалась машиной, готовой подчиниться воле Андрея, но с такою же силой готовой оказать ему сопротивление: пусть только он забудет, упустит что-либо в ее повадках, в управлении. Равнодушно вознеся его за пределы атмосферы, машина ударит его о землю со всей силой, какую ей сообщит двигатель в семьдесят тысяч лошадиных сил.
Просто смешно, как мало Андрей знает о собственном теле по сравнению с тем, как точно его знание металлического чудовища. Тупорылый, со скошенным лбом, «МАК» некрасив. Едва намеченные, словно недоразвитые, отростки крыльев не внушают доверия. Трудно представить, что на этих тонких, как бритва, плавниках на грани атмосферы может держаться самолет. Глаз летчика, десятилетиями воспитывавшийся на стройности плавных форм, с неудовольствием задерживается на всем угловатом, что торчит из корпуса «МАКа». Профили крыла, элеронов, хвостового оперения кажутся повернутыми задом наперед. Их обрубленные консоли возбуждают сомнение в естественности конструкции, смахивающей на человека со ступнями, повернутыми пальцами назад. Летчик не сразу свыкается с тем, что аэродинамика гиперзвукового полета за пределами плотной атмосферы опрокинула традиционные представления об устойчивости и управляемости. Угловатый подфюзеляжный киль окончательно лишает машину привычной стройности. Куцая стальная лыжа, не подобранная внутрь фюзеляжа, торчит, как хвост доисторического ящера, возвращает мысль в глубину веков. Лыжи, необходимые далеким предкам «МАКа», чтобы, не капотируя, ползать по земле, и потом отмершие из-за полной ненужности, вдруг снова стали нужны, как внезапно отросший атавистический придаток. Старики помнят пращура «МАКа» «Авро», бегавшего по аэродрому с выставленной вперед антикапотажной лыжей, похожей на неуклюжий суповой черпак. Полсотни лет, как сгнили останки последнего «Аврошки с ложкой», а неуклюжая лыжа снова тут?
Но дело не только во внешнем облике машины. То, что творится внутри конструкции, в ее металлическом нутре, так же непривычно для летчика дозвуковых и даже звуковых скоростей. Температура встала на пути самолета. На смену звуковому барьеру пришел барьер аэродинамического нагрева. Его преодоление давалось с таким же трудом, как и в свое время преодоление числа «М», равного единице. Эта преграда увеличивалась до катастрофы в момент возвращения самолета в атмосферу. Конструкторам самолетов приходилось заимствовать опыт у строителей газовых турбин. Свести предательские ножницы прочности и веса – вот над чем пришлось ломать голову металлургам. Предыдущему поколению авиационных технологов не снилось, что в строительстве самолетов могут понадобиться материалы, сохраняющие прочность, вязкость, упругость в температурах, близких к рабочим условиям газовой турбины. От поверхности самолетной обшивки эта температура передавалась всей конструкции. Возникала опасность разрушения металлов, применяемых в конструкции.
Андрей на опыте знал, что такое кабина самолета, обшивка которого нагрета до семисот-восьмисот градусов. Холодильная установка, продувание полостной конструкции, одежды и даже шлема скафандра не делали существование летчика сколько-нибудь сносным. Температура в кабине подчас повышалась до семидесяти-восьмидесяти градусов.
Пока еще эскадрилья «МАКов» была единственной, сформированной из машин, едва вышедших в первую серию, и самую эту эскадрилью, по справедливости, можно было назвать «опытной» в составе ВВС. Как ни была «отработана» техника ракетоплана и методика его вождения, почти каждый вылет открывал новое в поведении скоростной машины и самого человека на этих высотах. Перед каждым полетом об этом думалось, как о чем-то, с чем нужно справиться, что нужно преодолеть. Андрей был человеком; его психика оставалась психикой существа, не приспособленного природой к перенесению такого рода ощущений, существа, вынужденного искусственно воспитывать в себе выносливость, необходимую для гиперзвуковой авиации.
Иногда Андрей задумывался над тем: были бы способны люди прежних поколений при всей их физической прочности и невосприимчивости к лишениям вынести то, что выпало на долю нынешнего летчика?
Андрей всегда относился к самолету с уважением. Это было уважение к норовистому коню – опасному, но благородному. Впрочем, иногда примешивалось и отчетливое ощущение неприязни. Она рождалась из хмурой затаенности «МАКа». Это случалось в те дни, когда Андрей чувствовал себя не в своей тарелке – был раздражен какими-либо неприятностями, устал или, попросту, не выспался. Если в такие дни предстоял полет, Андрей не раз думал, что он не должен позволить неприязни перерасти в отвращение. Потому что за отвращением, как за тонкой завесой, готовой вот-вот прорваться, очень часто таилась отвратительная рожа страха. Страх был врагом Андрея. Даже смутно обнаружив его, Андрей мог потерять себя. А потерять себя на секунду значило навсегда потерять власть над машиной.
Когда же небо отражалось в толстых стеклах фонаря, они становились голубыми. И тогда уже казалось, что это, обычно такое мрачное, с головы до пят выкрашенное в черно-черную краску чудовище смеется. Одними голубыми глазами, а все-таки смеется. Ракетоплан становился веселым. Ну, а веселое чудовище – это уже хорошо. С ним можно сговориться.
***
«МАК» подняли из подземного ангара, и он стоял на стартовой платформе. Андрей спросил инженера:
– Как?
Тот молча поднял руку с оттопыренным большим пальцем. Андрей положил ладонь на крыло. С минуту постоял, с удовольствием ощущая спокойный холод металла. Мысли, что сегодня предстоит особенное – не то, что он уже не раз проделал на этом ракетоплане, исчезли: полет будет таким же, как всегда. Об этом говорило стальное спокойствие «МАКа». Машина поделилась своим спокойствием с человеком.
3
Когда Андрей на аэродроме влезал в высотный костюм, генерал Черных у себя дома оторвался от газеты и посмотрел на жену:
– Чем ты обеспокоена?
– Нет, нет! Ничего… – поспешно ответила Анна Андреевна, но тут же вдруг проговорила: – Я больше не могу…
– Не понимаю.
– Я никогда не говорила об этом…
– Напрасно, – спокойно ответил он, – что там у тебя?
– Андрейка…
– Что-нибудь с Верой? – спросил генерал и нахмурился: он считал, что улаживать свои семейные дела Андрей обязан сам.
Анна Андреевна старалась не встретиться взглядом с мужем. Он лучше ее понимает, чем угрожает сыну работа. Она столько прочла за эти дни, чтобы понять смысл ужасных слов «гиперзвуковая скорость». Число «М» представлялось ей чудовищем, ждущим жертв – молодых, полных сил, таких, как Андрей. Она, как дура, воображала, что опасность грозит ему от какой-то Серафимы, а вместо ученой дамы перед ней выросло таинственное число «М» – огромное, мохнатое, бездушное. Оно жило в темной пропасти, по ту сторону звукового барьера.
В книгах, которые она читала, непонятности нагромождались тем страшнее, чем больше она в них вдумывалась. У Анны Андреевны кружилась голова при попытке представить высоту в сто семьдесят километров, на которую должен в несколько минут подниматься Андрей. Тошнота подступала к ее горлу при словах «семьдесят тысяч лошадиных сил». Эти силы рождались в струе пламени с температурой за тысячу градусов. Все, решительно все, с чем имел дело Андрей, с чем он соприкасался в своей повседневности, была смерть… Смерть?! Во имя чего?
Она посмотрела на Алексея Александровича.
– Ах, боже мой, не делай вида, будто не понимаешь. Как будто… – она осеклась, не решившись сказать, что у мужа нет сердца, что он не любит своего сына так, как любит она.
Она знала, что это неправда. Он был не только отцом своего Андрея – он творец всего, что было в Андрее хорошего. Она это отлично знала и гордилась этим. Не только тем, что было в муже, а от него и в Андрее хорошего, но и тем, что другие осуждали: грубоватой прямотой, которую иные считали гордостью, но которая на самом деле происходила от застенчивости.
Сейчас Анне Андреевне хотелось пробудить в муже жалость: ей была невыносима мысль, что, может быть, вот в эту самую минуту… Нет, слишком страшно выговорить!
– Не знал, что у тебя бывают такие мысли, – грустно выговорил Алексей Александрович. – Ты что, хочешь, чтобы наши дети возлежали среди неприкосновенных дубрав и ловили бабочек? Хватит, мол, трудностей, пришедшихся на долю отцов. Этими нашими трудностями мы заслужили покой, счастье и что-то там еще для них, для наших детей и для внуков. Так? Что ж ты молчишь?..
Анна Андреевна потупилась, словно было не под силу говорить и даже слушать его. А он продолжал:
– Может быть, ты против того, чтобы мы двигались вперед?
– Мне хочется, чтобы они получили свое счастье! – в отчаянии воскликнула она.
– А что такое счастье, Анна? – строго спросил Алексей Александрович. – Стремление вперед – вот истинная природа человека. Удовлетворенность – противоестественнейшее из всех состояний. Счастье не в ней.
– Но у Андрея это уже не просто неудовлетворенность – это какой-то психоз: все выше и выше, не знаю куда…
– Андрей знает, – с уверенностью проговорил генерал.
– Неправда! – крикнула она, едва не плача. – Он сам не знает.
– Так хочет знать.
– Неправда, не он хочет, а вы, ты и такие, как ты, бросаете их в черноту. Подумать только: чернота, одна чернота. И холод. Зачем? Неужели нам мало того, что есть здесь? Швырять своих детей бог знает куда, на Луну…
– Они сами себя туда швыряют.
– На гибель?
– Почему гибель, а не победа?
– Над кем, над чем, для чего?
– Не сидеть же им у юбок? Пускай летят хоть на Марс. Это право их поколения. Мы делали революцию у себя дома. – Алексей Александрович усмехнулся. – Нам земля представлялась необъятной, эдаким шаришем – не обоймешь, не оглядишь, а даже Чкалов, в его, по существу говоря, детскую эпоху авиации, называл землю «шариком». Такие у них аппетиты, у летающих…
Анне Андреевне не хватало воздуха.
– А ты вместо того, чтобы отговаривать его… – она прижала руку к сердцу.
Генерал, глядя мимо скорбного лица жены, говорил больше для себя:
– Как он бунтовал тогда! – И губы его сложились в усмешку. – Бунтовал! Не хотел повторять меня: ваше переиздание? Нет! – Голубые глаза генерала улыбались.
– Ну да, ему непременно нужно не то, что другим, что-то необыкновенное.
– Ты, видно, забыла, как он говорил: «По-вашему, самолет – нечто необыкновенное, а обыкновенное – это трактор? А по-моему, именно самолет и должен быть обыкновенным в нашей жизни, таким обычным, чтобы трактор выглядел необычностью…» Помнишь? – Голос генерала наполнился такой теплотой, что Анна Андреевна улыбнулась.
Все же она с последним упрямством сказала:
– Сделай так, чтобы Андрюша стал гражданским. Есть же на свете Аэрофлот, нужны же там такие люди, как Андрюша, делают же они там большое дело… Алеша!
– Алеша, Алеша!.. – ласково передразнил генерал. – Аэрофлот?! Да, конечно. – И вдруг с сожалением: – Не за горами день, когда мы все снимем погоны и станем не нужны… Да, как ни жаль…
– Жаль?
– Нет, нет. Я, конечно, не то болтаю, – смутился генерал. – Это большое счастье для народа, для людей: знать, что военные профессии не нужны, исчезли, умерли раз и навсегда… Но не так-то легко, – он вздохнул, – да, не так-то легко снять форму, которую носил всю жизнь. Мы, коммунисты-военные, конечно, не такие военные, как там, по ту сторону. Мы ведь существуем не для нападения. Но мы готовы нанести самый жестокий удар любому противнику! Вынудить нас к этому может только его собственное нежелание жить в мире. А в конечном смысле наша цель убить войну как явление, порожденное уродством исторического процесса. – Черных усмехнулся: – Что-то я расфилософствовался, словно на собрании… В общем ясно. Одним словом, можешь утешиться: увидишь еще своего Андрейку в кителе Аэрофлота.
Анна Андреевна ласково положила руку на плечо мужа:
– Алешенька, дети родятся для счастья. Они должны жить легко.
– Вот этого мы и добиваемся, – заключил генерал и с деланной торопливостью отправился в кабинет.
4
Правило, что в авиации нет мелочей и каждый винтик может оказаться решающим, Андрею внушили еще в авиашколе. В условиях современного полёта важность этого правила умножалась во сто крат. Непоправимое в гиперзвуковом полете становится роковым. Не боясь показаться трусом или придирой, Андрей проявлял крайний педантизм, чтобы иметь право требовать того же от летчиков. Тем более удивительным показалось Ксении, что сегодня облачение в высотный костюм проходило словно мимо сознания Андрея.
Андрей с несвойственной ему безучастностью давал себя одевать. Все его мысли были заняты предстоящим полетом. Хотя, по существу, они были только звеном в целой цепи размышлений, связанных с прошлыми полетами. Было в прошлом и будущем одно неясное звено: предел разгона самолета. Что может при этом стать причиной разрушения: аэродинамическая или температурная нагрузка?..
Будь Андрей просто пилотом, хоть и самого высокого класса, он об этом, возможно, и не думал бы. Но сказывалась закваска инженера и летчика-испытателя: мысленно всегда возникал сверхштатный вопрос: «А что еще может произойти, что может дать машина?» Не командуй Андрей строевой частью, где нужно заниматься не опытами, а боевой подготовкой, он пошел бы на риск полного разгона, какой могли выдать двигатели. Бывали минуты, когда он даже подумывал о том, чтобы попроситься обратно в испытательный институт: после первых радостей, связанных с формированием и отработкой новой для ВВС гиперзвуковой части, он начинал немножко тяготиться строгими рамками работы в строю. Пора исканий миновала прежде, чем угасла в Андрее страсть к поискам нового: взять от самолета то, чего не пробовал никто. Это не было тщеславием молодости, как не было уже и самой молодости. Для испытательной работы его возраст был ближе к концу. Ее требования, предъявляемые к физиологии, были так высоки, что физические силы отставали от запаса душевных. Впрочем, душевные силы?! Если бы они были нужны только для работы! Но, к сожалению, дела дома шли неважно.
Вот тут Андрей мог бы себя поймать на том, что одной из причин его сегодняшней озабоченности является не только невозможность испробовать до предела разгон самолета, а и тот разгон, какой приобрели его отношения с Верой. Вот уже сколько времени он не может его остановить.
Андрею доложили, что правительственная комиссия где-то на подходе к Заозерску, и все, кроме мыслей о полете, вылетело из головы. Когда составлялось задание этого полета – последнего для испытания КЧК, Серафима настаивала на том, чтобы поток частиц тау-прим был послан с высоты, предельно доступной «МАКам», – со ста восьмидесяти километров. Вадим возражал. По его расчетам, в условиях скоростного полета нельзя рассчитывать на то, что пучок частиц, посланный КЧК, сохранит необходимую плотность: наибольшее расстояние, на которое рассчитывал Вадим, – сто километров. Было решено, что Андрей сделает площадку на высоте ста километров.
***
Как ни старались конструкторы, им не удалось погасить действие пороховых ускорителей на пилота так, чтобы при взлете на его долю не осталась все-таки труднопереносимая перегрузка. Тело Андрея с огромной силою давило на сиденье, стенки кровеносных сосудов мозга были, вероятно, на пределе прочности. А сердце – несчастное человеческое сердце! – било по диафрагме, как тяжкий молот.
«МАК» вонзался в пространство так, словно его засасывал туда абсолютный вакуум. Белая стрелка высотомера быстро отсчитывала сотни метров. Вслед ей солидно, деление за делением, двигалась красная стрелка тысяч. За десять километров до ста Андрей должен был пустить КЧК.
Все движения, какие должны быть совершены для той или другой операции, были давно отработаны до полной автоматичности. Вероятно, даже в полной темноте Андрей нашел бы нужные тумблеры. Тем не менее взгляд машинально пробежал по рычажкам на панели слева. Тумблеры были так малы, что всякий раз у Андрея возникало инстинктивное опасение, как бы не задеть то, что не нужно.
Когда ракетоплан достиг заданной высоты, с земли ему указали направление на условную бомбу.
На этой высоте аэродинамические рули были бесполезны. Андрей включил реактивные насадки и вывел ракетоплан на курс. Через полторы минуты загорелась лампочка бортового искателя, отмечая приближение к урановому заряду контейнера. Андрей переключил управление на автомат и почти машинально обежал взглядом приборы по твердо заученному кругу. Каждый прибор отражал состояние звена сложной цепи, державшей самолет в воздухе, сообщавшей ему движение, направлявшей его, связывавшей его с землей. Это была цепь жизни. Звенья в ней были большие и маленькие, ясно видные и совсем невидимые, но не было ни одного, без которого вся эта цепь не начала бы рваться, как гнилая веревка.
Взгляд Андрея мог перейти от прозрачного фонаря к приборам. Приборов на доске меньше, чем в самом скоростном самолете, – электроника позволила снять с летчика заботу о многом; многое было автоматизировано – показания десятка приборов суммировались и сводились к одному сигналу. Но решающее значение этого одного сигнала при данных скоростях было таково, что невнимание к нему, опоздание реакции пилота на десятую долю секунды могло означать катастрофу. Никакая автоматика не могла подменить волю человека в принятии решения.
В любое мгновение каждое из звеньев в цепи жизни «МАКа» могло властно потребовать внимания Андрея. А в добавление к тому нужно было следить еще и за состоянием системы, питающей воздухом пилотскую кабину, скафандр, высотный костюм. От этого зависели самочувствие и жизнь Андрея. Следить, когда загорится или погаснет какая-нибудь из цветных лампочек на щитке, где контролируется работа электросистемы. Электрооборудование – это нервная система самолета. От ее исправности зависит работа двигателей, так же как от работы самих двигателей зависит жизнь этой нервной системы. От электроэнергии работает вся система электроники – механический мозг, органы чувств, зрения, слуха. От того, есть на борту электричество или нет его, зависит все, что двигается, вращается, жужжит, мигает – решительно все. Стрелки приборов должны были оставаться в зеленых секторах безопасности. Выход из них означал опасность. Андрей должен был немедленно оценить ее степень, чтобы решить вопрос об ее влиянии на все остальные звенья и, если нужно, ликвидировать угрозу. На решение вопроса об аварийности положения давалась секунда. Андрей знал: не секунды, а именно секунда. Одна!
Автоматически, почти без мысли, Андрей отмечает благополучие во всем организме «МАКа». После этого он может ненадолго вернуться к толстому стеклу фонаря. Там чернота. Такая, какой не может вообразить человек, не побывавший выше ста километров. Чернота стоит вокруг самолета плотной стеной. Перед ней, за ней, под ней, по сторонам от нее – ничего, кроме такой же ужасающей черноты. Самолет врезается в нее, как в нечто последнее. Только когда Андрей поворачивает голову вправо, насколько позволяет воротник шлема, он видит над изогнутым краем земного шара плавающий в абсолютной черноте огненно-голубой, будто готовый вот-вот расплавиться, диск солнца. Туда можно смотреть, только надвинув на шлем скафандра защитный козырек.
Андрей редко взглядывает на стекла фонаря: все равно там нет ничего, кроме безнадежной темноты. Он полон тем, что говорят приборы; ему достаточно того, о чем изредка человеческими словами дает знать оставшаяся по ту сторону черной вечности родная и далекая планета Земля.
В тишине шлема почти не слышны двигатели. Их рев срывается с сопел и остается позади, не в силах догнать самолет, несущийся во много раз быстрее звука. Но воображение Андрея восстанавливает картину работы двигателей по легкой вибрации всей конструкции. Почти невероятно, но все – жужжание генератора КЧК, вой турбин и даже рев сопел – все покрывает шум собственного дыхания Андрея, резонирующего в шлеме. Да и самый процесс дыхания, несмотря на все старания Ксении и ее инженеров, не так прост, как ей хотелось бы. Обратное дыхание раздражает и утомляет больше всех шумов, вместе взятых. Впрочем, говорят, что человеку так же невыносима абсолютная тишина, как трудно перенести сильный шум. Мозг нуждается в шумовом фоне, ему необходим поток едва слышных, не фиксируемых сознанием, но все же воспринимаемых им звуков. Врачи говорят, будто без такого фона мозг не только не отдыхает, а даже ухудшает свою работу. Может быть, так. А может быть, и совсем не так?
Что здесь «так» и что «не так»?..
Впрочем, Андрею сейчас не до подобных размышлений. Мелькнула было мысль о возможности исследовать разгон. Но Андрей ее поспешно отбрасывает: она мешает тому, что нужно делать по заданию данной минуты. Ракетоплан имеет огромную инерцию – при подходе к цели скорость будет все еще слишком велика. Нужно пускать в ход тормозные устройства. На этой высоте аэродинамические тормоза так же бесполезны, как рули. Андрей осторожно поворачивает рычаг шторки перед соплами двигателей, чтобы направить часть реактивной струи навстречу движению. Он делает это с таким же чувством, как человек, спускающийся на лыжах с очень крутой горы и не имеющий возможности изменить направление, садится на палки, чтобы уменьшить скорость спуска: чуть-чуть пережать – и палки пополам. Чуть-чуть передать обратный газ – и хвоста самолета как не бывало.
Указатель скорости пошел вниз. Заколебался. Замер. Андрей перевел взгляд на прицел – регистратор урановой цели: оранжевый блик, ярко вспыхнув, почему-то вдруг почти затух, снова вспыхнул и часто-часто замигал, как глаз растерянного человека, – цель вошла в зону действия КЧК. Андрей нажал красную кнопку и услышал резкий свисток: прибор заработал с высшей интенсивностью. На какой-то миг Андрей представил себе: что, если сдаст поле магнитной изоляции? Он получит такую дозу рентгенов, что, вернувшись на землю, останется только писать завещание. Но, вероятно, в этой части все обстояло благополучно: контрольный счетчик радиоактивности на потолке кабины молчит. Спасибо и на том. Андрей отсчитал по маятнику десять миганий – пять секунд – и перекрыл излучение. Генератор перестал свистеть. Где-то внизу уран в контейнере превратился в свинец. Прибор нужно будет снова включить через сорок секунд – на вертикальном траверзе второго бункера с водородной бомбой. Сорок секунд! Здесь это большой срок. Восемьдесят счетов: один-и, два-и… Чертовски длинно. Просто огромно до нудности. Световой секундомер мигает и мигает.
От урановой оболочки водородного контейнера затеплилась оранжевая полоска в прицеле – искателе КЧК. Андрей включил его, и скоро земля сообщила, что в обоих пунктах зарегистрировано действие пучка частиц достаточной мощности: задача Андрея была завершена. «МАК» – молодчина. Он был вполне на высоте. А Андрей? Об этом Андрею не думалось. «МАК»! Благодарю тебя, сегодня мы с тобой дружим. А завтра? Если бы знать, что ты выкинешь завтра?! Но что бы ты ни задумал, я не отпущу узды, я заставлю тебя слушаться. Ты будешь делать то, что захочу я, а не то, чего захочешь ты! Завтра и всегда! Пока существую я!»
***
Земля дает приказ заканчивать полет, идти на посадку. Кажется, что тут особенного: посадка? Разве до Андрея не совершали посадку миллионы летчиков, не совершено уже много сотен посадок ракетоплана? И все-таки приземление «МАКа» – событие для пилота. Событие, завершающее полет.







