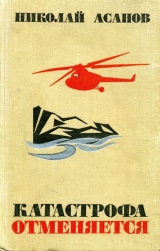
Текст книги "Катастрофа отменяется"
Автор книги: Николай Асанов
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
Малышев не любил бездеятельных людей.
Возможно, это происходило потому, что для него много лет подряд каждый день начинался трубной побудкой, затем приходили начальники, командиры, раздавали задания, приказы, сыпали команды, а то и выговоры, если он проявлял леность или – упаси боже! – сомнения в справедливости того или иного приказания, и затем все шестнадцать часов бодрствования он уже не принадлежал себе, а лишь исполнял то, что от него требовалось.
Но вот прошли годы длительной и утомительной учебы, Малышев давно уже командир и даже, как говорят характеристики, решительный, волевой, у него под командой несколько сотен людей, и он не переносит бездеятельных, безынициативных, нерадивых. Но все это относится к солдатам, к подчиненным. Какое же он имеет право думать, будто эти ученые, которых он видел каких-нибудь десять – пятнадцать минут, и есть бездеятельные люди?
А может, он относится к ним враждебно потому, что они чем-то привлекли к себе Тому? А чем? Она всю-жизнь ищет и находит героев. Какого же героя обнаружила она на этом островке среди ледников – на гляциологической станции?
То, что надо иметь характер, чтобы жить из года в год в этой почти монашеской обители среди ледников, – это нельзя не признать фактом. Конечно, можно сказать и так: ушли от жизни и отсиживаются в этой глуши. Но вряд ли это самое удобное место для «отсиживания». Пожалуй, можно найти что-нибудь и поуютнее. Однако сейчас Малышеву все отчетливее казалось, что люди эти там, на станции, не заслуживают иного определения, как бездельники.
Он пытался быть справедливым. Он поговорил о гляциологах и с Адыловым, и с Ованесовым, спросил про них и у двух аксакалов – председателей. Даже с Уразовым перебросился несколькими словами. И никто не мог ему сказать с достаточной отчетливостью, чем же они там занимаются. Прогнозом таяния ледников? Изучением гор? Но не смогли же они предсказать, даже не предсказать, а хотя бы предположить, что гора Темирхан расколется надвое и одна половина ее сползет в долину и перекроет реку. И насчет таяния они ничего, видно, не знают, потому что вдруг ледник начал колоться на части и всплывать. А это уже совсем ни к чему ни Малышеву, руководящему спасательными работами, ни людям, которых он пытается спасти от катастрофы. По-видимому, там действительно отсиживаются настоящие бездельники.
Так кто же из них показался Томе настоящим героем?
Но, задавая себе этот вопрос, он тут же понимал, что совсем не те люди возмущают его, его возмущает Тома.
На станции он приметил только красавца радиста да молоденького аспиранта, а начальник Чердынцев ему даже понравился: жестковатый, сухой, деятельный, каким и должны быть начальники. Пройдет еще несколько лет, и Малышев сам воспитает в себе эти качества. Сейчас ему еще далеко до настоящего командира. И хотя характеристики ему дают положительные, в личных беседах то командир полка, то командир дивизии нет-нет да и намекнут, что у него еще недостает чувства дистанции, которое отличает опытного офицера от молодого. Это чувство дистанции он и проявит, когда снова попадет на гляциологическую станцию. А попасть туда надо, и как можно скорее.
Уразов не стал возражать, когда Малышев сообщил, что должен вылететь на озеро: там его солдаты. И хотя сводки от сержанта поступали благополучные – женщины и дети перевезены с рудника, грузы доставлены на рудник, капитан Соболев, пробившийся таки к Ташбаю, принял и переправил эвакуированных на восток, в город, – все равно Малышев должен был навестить свой десант. И попутный вертолет под рукою, летит на рудник Коржова с медикаментами и продуктами.
Вертолетчики вылетели рано утром, когда нисходящие и восходящие токи воздуха еще чуть заметны, только изредка вертолет проваливается, словно попадает в вакуум, но все же полет приятен…
Над завалом зависли ненадолго, Малышев осматривал гребень завала, то место, где придется взрывать эту перемычку, чтобы начать спускать воду. На завале теперь каждый день дежурили альпинисты – подъем стал почти безопасным, обвал перестал дышать. Только порой как бы сами собой вдруг скатывались небольшие лавины, но работе они не вредили, солдаты уже отошли от подножия завала. А альпинисты отыскали несколько подъемов, где камень и сланцевая глина плотно слежались. Вон и палатка альпинистов, скалолазы выбежали, машут руками и альпенштоками, приветствуют пилотов. Малышев взглянул попристальнее на озеро, которое сторожат эти альпинисты, и взгляд его стал острым и сердитым.
Озеро подходило к самому краю завала.
Когда вертолетчики по просьбе Малышева опустились пониже, стало ясно: через неделю оно перехлестнет гребень этой дамбы и хлынет на кишлак.
Малышев сразу забыл, зачем он отправился на озеро. Вынул из планшета бланк радиограммы, набросал несколько строк. Он просил начальника гляциологической станции по возможности быстрее составить прогноз повышения уровня воды: должны же у гляциологов быть хоть какие-то данные о системе рек и речек, которые несли в озеро свои воды. И сообщал, что надеется получить ответ через Коржова. Сказать, что сам собирается побывать на станции, он не захотел.
Он оглядел далекий голубой горизонт, казавшийся беспредельным, хотя горы почти что рядом. Беспредельность эта была порождена цветом воды, цветом неба, и, хотя горы были отчетливо видны, все равно казалось, что озеро, как море, сливается с небом.
Он показал вертолетчикам на юг, и они пошли по южному берегу озера. Снова под ним была перворожденная пустота, еще не ставшая обиталищем ни рыбы, ни водного зверя, просто вода, словно бы дистиллированная, какая продается в аптеках, без жизни, даже без надежды на жизнь, потому что Малышев выпустит ее из плена до того, как в ней начнется жизнь. Так он решил, так он и сделает.
Но она жила, эта вода. Она плескалась о скалы и смывала с них не космическую пыль, а то, что могло стать почвой, а в воде становилось илом. Этот ил мог стать пищей для планктона. Птицы занесут сюда икринки на своих лапках и крыльях. Так дикие утки переносят жизнь из водоема в водоем на тысячи километров. Икринка тоже умеет приспособиться к путешествию.
Но все-таки оно было мертвое, это озеро, и, как все мертвое, пугало. И оно все прибывало и прибывало, так что поневоле думалось, а не перельется ли оно через край, не проломит ли тонкую стенку завала.
Даже вертолетчики, лихие парни, ползавшие над самыми горами с риском разбиться от порыва ветра, и те стремятся прижаться к берегу, словно золотая, фиолетовая, синяя гладь может вдруг всплеснуться в небо и захватить с собой их неуклюжую машину.
Через час они дотянули до Ташбая.
Береговая дорога была теперь затоплена до самого кишлака. Ташбай стал перевалочной базой: отсюда понтоны Малышева перебрасывали продукты на рудник и на гляциологическую станцию. Малышев расспросил Севостьянова о последних рейсах. Понтонеры устали, это было видно и без расспросов, но держались мужественно. И сейчас они готовились к рейсу: везли на рудник муку, а оттуда собирались забрать последних женщин. Коржову надоела война с женами, не желавшими покинуть мужей, и он объявил решительный приказ об эвакуации.
О гляциологах Севостьянов сказал, что там все в порядке: дети здоровы, а спасенный им «крестник» даже и не кашляет, продуктов туда подкинули, а перевозить ребят еще раз через все озеро не стоит – опасно. Было уже несколько ветреных дней, когда понтоны захлестывало волной, приходилось отсиживаться в разных бухтах и бухточках, а тут и отсиживаться-то трудно, того и гляди, расшибет о скалы. О Томе Севостьянов ничего не сказал, но это и к лучшему: значит, здорова.
Вертолетчики ушли на рудник Коржова, пообещав завтра прийти за Малышевым.
К Коржову Малышев и его понтонеры попали только поздно вечером. Озеро было черным, скалы словно припали к нему, и вряд ли понтонеры отыскали бы рудник, если бы не прожектор, вынесенный Коржовым к самой шахте, в гору. Прожектор, как догадался Малышев, служил не только маяком – при его свете горняки продолжали возводить защитную стенку. А вода уже плескалась у самого, ее подножия.
Все дома были затоплены. В палатках шахтеры соорудили печи, и Малышев был благодарен Коржову, пригласившему его к себе, – к ночи на озере стало холодно. Понтонеров ждали тут как посланцев с Большой земли. Они везли письма, посылки, пакеты с чистым бельем – все, чем могли женщины, поселившиеся в Ташбае, облегчить жизнь своим мужьям, так же, как в войну, вдруг перешедшим на казарменное положение. И палатки у них были военного образца, не хватало только приказов да рапортов…
Малышев с удовольствием выпил стопку неразведенного спирта, поел всухомятку – Коржову было не до хозяйства, – прилег и сразу уснул.
Снилась ему вода. Подводный городок горняков и подводная станция на леднике, и он все спрашивал у Томы, почему она осталась жить под водой, а она лукаво улыбалась и отмалчивалась. Так он и не добился от нее никакого ответа.
Утром проснулся за полчаса до побудки, согрел воды и побрился. Сегодня он увидит Тому, и ему хотелось предстать перед нею во всеоружии, если уж ей вздумается – а он это предчувствовал – сравнивать его с гляциологами. Но на этот раз он ее там не оставит!
Понтонеры уже повыкидали на временную деревянную пристань, которую каждый час приходилось подтягивать все выше на берег, грузы для Коржова и ждали Малышева. Севостьянов уступил ему место в амфибии, а сам перебрался на первый понтон, и Малышев, помахав провожавшему их инженеру, включил мотор.
Глава восьмая
1Проводив Малышева, Чердынцев долго стоял на деревянном причале, обраставшем ледниковым припаем из мелких льдин и льдинок. Он думал о том, что придется деревянный причал закрепить канатами и все время поднимать его вверх по мере повышения уровня воды, иногда вполоборота смотрел на станцию, но видел только зашторенные окна. Женщины, что приехали с детьми, боялись, видно, простуды и, проводив понтоны и катер, заняли верхний этаж и забронировались зыбкой преградой занавесок и штор. То окно, что всего больше занимало Чердынцева, вообще не открывалось, будто занавеси там были железобетонные.
Он стоял на холоде, мерз, проклиная себя за нерешительность. Надо было пойти в дом, сказать Тамаре о том, какие права заявил на нее Малышев, но идти он не мог, будто ноги отнялись. И сердито думал, что никуда не пойдет и никого ни о чем не спросит. И вдруг услышал шаги.
– Вы еще долго собираетесь стоять на своем посту?
Он оглянулся. Тамара Константиновна остановилась у самого обрыва. Она словно бы и не видела его, подталкивала носком красного ботинка камешки и смотрела, как они срываются вниз, в ледяную кашицу, и тонут без всплеска. Она была в брюках, а поверх своей куртки накинула штурмовку Галанина, самую маленькую, но и в ней утонула. Так как Чердынцев не ответил, она снова спросила:
– Что он вам сказал?
– Что вы – его жена.
– Была. – Голос ее звучал сухо, бескрасочно. А ведь она умела модулировать им, как отличная актриса. По-видимому, этот разговор был нелегок и для нее.
– Этого он не говорил.
– Когда-нибудь скажет.
– А вы всегда уходите без предупреждения?
– Пойдемте лучше проверим показания ваших приборов. Галанин просил узнать, кому идти за данными. Но уж если мы здесь, так почему не проделать это самим? Кстати, вы покажете мне эти таинственные измерители, которые заставляют вас прозябать в пустыне вместо того, чтобы воевать в миру.
Только теперь Чердынцев заметил, что она тоже говорит с ним на «вы». А ведь несколько часов назад… Но заговорил он о другом:
– А как ваша нога?
– Чепуха! – Она отмахнулась от вопроса, словно обиделась.
Он промолчал и пошел за нею. Тут, на льду и на камнях, прогулочным шагом не ходят. Разве что след в след, как на минном поле. И разговаривать во время такой прогулки почти невозможно. Слова срывает с губ ветер, и понять можно лишь с пятого на десятое.
Но двигалась она ловко. Правда, нога, видимо, еще болела. Чердынцев замечал, с какой осторожностью она ее ставила. Так начинают ходить раненые в госпиталях. Но выбрав ритм дыхания и ходьбы, Тамара уже не теряла его. Они добрались до провешенной линии поперек ледника. Два «гурия» на скалах показывали неподвижные отметки. А вешки с флажками выгнулись дугой: центральная часть ледника ползла быстрее.
Чердынцев невольно присвистнул. За последние двенадцать часов ледник дал большую подвижку.
Собственно, его спутнице знать об этом ни к чему, и он сжал губы. Но она уже рассматривала самописцы. И хотя они не разговаривают с непосвященными, ей они что-то сказали.
– А линия-то рвется! – она оглянулась на Чердынцева. – Не собирается ли ваш ледник унести и вас и меня на своей спине?
Именно об этом Чердынцев и думал. При такой резкой подвижке ледник может толкнуть мореной завал и сорвать его или вытеснить воду, и тогда она перельется и размоет плотину. Еще одна неучтенная опасность!
– Но все-таки ваш великан еще не научился ходить! – сообщила она, просмотрев катушку самописца. – Какие-то пятнадцать метров за двенадцать часов… – Она посмотрела на Чердынцева с надеждой, должно быть, поняла его молчание.
– Где вы научились читать показания приборов? – ни с того ни с сего спросил он.
– Ну, в наш век техники… – протянула она. И тоже неожиданно закончила: – А ведь если он двинется по-настоящему, то сотрет в порошок не только ваш домик со всем содержимым, но и эти горы, и тот завал… ее голос дрогнул. Чердынцев понял: она сразу представила себе то, о чем не договорила.
– Будем надеяться, что этого не случится!
– Надежда на бога – плохое утешение! – сказала она.
Записав показания приборов, Чердынцев кивнул на узкую тропинку, убегавшую вверх, на каменистый склон.
Тамара смотрела на тропинку с некоторым сомнением.
– Спускайтесь на станцию, – посоветовал он. – Кстати, передадите Галанину эти данные… – Листок бумаги сиротливо трепетал в его руке. Но – вот странность человеческого поведения! – ему совсем не хотелось, чтобы она отступила. Тамара снова взглянула на тропинку, на него, сказала:
– Я уже давно замечала, что все ученые – как бы это помягче сказать? – психически неблагонадежны. Для своих наблюдений и опытов они выбирают самые трудные позиции. Ведь ясно же, если передвижка ледника зафиксирована здесь, то и вверху она тоже отмечена этими вашими доносчиками! – она показала красной рукавичкой на приборы.
– Доносчики? Ничего сказано! – он улыбнулся, но тут же снова стал серьезным. – Там эти «доносчики», – он глянул в гору, – могут показать нечто другое.
– Лед, он и есть лед, и ничто другое приборы не покажут! – пренебрежительно сказала она.
– А вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое лед? – Так как она молчала, Чердынцев ответил противным «лекционным» голосом, которого так не любил у других: – Лед есть жидкость, попавшая в необычные условия. А в необычных условиях жидкость и ведет себя необычно…
Тамара взглянула так, словно бегло оценивала оратора. И видно, несколько повысила оценку. Перешагнула валун и пошла вперед не оглядываясь.
Пока он закрыл коробки приборов, Тамара оказалась далеко. На гребне морены она выглядела, как флаг или вспышка пламени: красное на темно-голубом небе. Он догнал ее со странным чувством: здесь, среди камня, льда и ветра, под темным от глубины небом они были, как в чужом мире. Космонавты на чужой планете. Двое в пустыне. И не потому, что вокруг дикая пустыня, безлюдье, опасность, а потому, что этот мир ничем не похож на земной, привычный, от которого она еще не успела отвыкнуть и потому тосковала, а он всегда тосковал по этой своей «космической» лаборатории, по этой обстановке, разреженному воздуху, внезапному холоду, словно бы проникавшему сквозь скудный слой атмосферы прямо из дальних межзвездных миров. Такой он знал свою работу и такой ее любил. А что может привлечь здесь эту женщину?
Он сразу забыл и о Малышеве, и о своих сомнениях, видел только ее, следил за ее неспешными движениями: а она все-таки приспособилась к разреженному воздуху, – видно, в тех альпинистских лагерях, где она получила спортивный разряд, ее чему-то научили! Но скептические размышления о ней ничего не могли изменить: он снова заболевал тоской по ней, хотя она была рядом. Протяни руку и возьми. Но тоска его потому и была тоской, болью, грозой, что все это близкое, видимое, легко достижимое мгновенно исчезало, как только он вспоминал о том, что у его чувства нет завтра…
Она по-прежнему шла впереди, не оборачиваясь, и только на поворотах тропинки он на мгновение видел ее лицо, серьезное, сосредоточенное, словно самым главным для нее было идти. Впрочем, может быть, она догадывалась, что он думает о ней? Вдруг она оглянулась, спросила:
– Вы любите стихи?
– В этом отношении я впал в анабиоз еще во время войны. Все, что было позже, меня уже не касается. И потом, здесь опасно читать стихи, сразу сорвется дыхание. И петь романсы тоже не следует.
– Просто удивительно, как вы умеете обижать людей! А я надеялась услышать гимн любви.
– А может быть, страданию?
– Уж вам-то не о чем жалеть! – с вызовом сказала она.
– И это вы называете любовью?
Она остановилась, как от удара или оттого, что споткнулась, но пересилила себя. Только опустила голову, будто выбирала, куда ступить. Он выругал себя и замедлил шаги, отставая. Тамара сказала:
– Трусость вам не к лицу. И я не собираюсь ударить вас. – Голос ее звучал глухо.
– А что вы от меня хотите? – гневно крикнул Чердынцев, уже не боясь сорвать дыхание. – Вы врываетесь в мою жизнь, делаете меня смешным. Ну что я вам, усталый пожилой человек, прячущийся в горных пещерах. Я только начинаю верить вам, как является молодой здоровый человек и говорит: она – моя жена! Я пытаюсь излечиться отрицанием, вы не отпускаете меня ни на шаг. Зачем я вам? И что это – любовь?
Он побоялся сказать о подслушанном ночью в санатории разговоре, и так наговорил бог знает что. Но по мере того, как он казнил ее и себя жестокими словами, спина Тамары распрямлялась, голова поднималась, и вот эта женщина идет так же гордо, как всегда, а оказавшись на повороте и взглянув тайком в ее лицо, Чердынцев удивился еще более: она улыбалась тихой, почти мечтательной улыбкой. Он осекся. Значит, его слова – для нее лекарство?
Теперь он шел, опустив голову, рассматривая носки башмаков. Вспомнились чьи-то стихи о русских землепроходцах: «Бесноватый Ванька за Уралом шел да шел, смотрел на сапоги…» Пожалуй, Чердынцев тоже мог идти и идти за этой женщиной вокруг всего земного шара, лишь бы она не бросалась в сторону.
Они долго шли молча, словно каждый погрузился в свои мысли и забыл о спутнике. Тропинка петляла, следуя изгибам ледяной реки, и опять вокруг были камень, лед, вода на льду, темное, словно пронизанное черным цветом космоса небо, вершины гор в ледяных и снежных шапках, цвета грубые, резкие, прямые, каких не столь уж много на земле: черное, белое, голубое, голубое, черное, белое, но такой силы и первозданности были эти цвета, что ни один художник не рискнул бы нанести их на полотно да и не нашел бы подобных красок. Вдруг Тамара остановилась и словно выдохнула:
– Боже, как здесь прекрасно!
Он глянул через ее плечо. Тут, в бухточке, где лед был почти прозрачен или казался таким от солнца и черных теней гор, находился второй мерительный пункт. На береговой стороне стояла времянка с самыми дорогими приборами, а рядом, на льду, снова линия вех и огороженные колючей проволокой – порой по льду проходили дикие туры и джейраны – более грубые мерительные приборы. Только эти устройства и напоминали о человеке, все остальное было от первобытного мира: вода, лед, горы, небо. И еще необыкновенной яркости цвета. Цвета всего сущего.
Чердынцев снял перчатки, вынул дневник и принялся записывать показания, менять катушки. Волошина разглядела хижину-времянку, спросила:
– А туда можно войти? – Голос у нее снова был музыкальный, добрый и мудрый, как будто и не было между ними ссоры. Чердынцев предупредил:
– Только не трогайте приборы.
Она медленно открыла дверь, постояла на пороге, вглядываясь в темноту, и прошла внутрь. Чердынцев проследил за ней глазами, продолжая свою работу. Руки сразу окоченели, приходилось каждое движение делать осторожно, как ни хотелось поскорее натянуть перчатки.
Наконец он кончил работу, взглянул на солнце: пора было торопиться домой, в горах ночь начинается сразу.
Обернувшись к времянке, чтобы окликнуть Волошину, он увидел дым, валивший из железной трубы, распахнутую дверь, из которой тоже валил дым, будто там все охвачено пожаром. Бросился было бегом и сразу перешел на медленный шаг: она же забавляется, играет в жену охотника, ожидающего мужа, разжигает очаг, готовит обед… Жаль, что во времянке нет ничего, кроме круп, сухарей и соли. А почему бы и не доставить ей удовольствие? Ведь жены ждут охотников с добычей…
Обойдя времянку так, чтобы его не было видно из оконца, он подошел к кромке ледника. Там была хитрая ледяная глыба, обложенная по краям валунами, а рядом, спрятанный меж такими же валунами, лежал ломик. Чердынцев достал из тайника ломик, подсунул под ледяную глыбу и легко приподнял ее. Тут тоже был тайник. Не от людей, люди сюда не заходили, а от зверей. Раньше гляциологи хранили продукты прямо во времянке, но после двух-трех набегов маленьких гималайских медведей, начисто опустошавших времянку от продуктов, сделали этот тайничок. Чердынцев достал оттуда ногу джейрана, отрубил хранившимся тут же топором изрядный кусок мяса, вынул бутылку спирта, укрыл примитивный «ледник» плитой и пошел в домик.
Дым уже выдуло, печка гудела, в чайнике плавился лед, столик был обметен. Чердынцев сказал:
– Примите и мои приношения!
– О, мясо! – удивленно-радостно воскликнула Волошина. – Где вы его достали?
– Только что убил джейрана и вырубил седло. Вы знаете, что индейцы ели только седло дикой козы? Вот, пожалуйста.
– Фу, господи! – она весело рассмеялась. – Я же забыла, что гляциологи – это почти снежные люди…
– Ледниковые люди! – строго поправил он.
– Люди ледникового периода! – в свою очередь поправила она. – Я могла бы понять, что в окрестностях есть тайник. Я ведь люблю тайны.
Чердынцев принялся рубить мясо. Шампуры лежали на полке.
– Будем есть мясо по всем правилам хорошего тона, изобретенным во время великого оледенения Земли, – сказал он. – Приготовление мяса тогда было привилегией охотника, женщина получала только обглоданные кости. – Он встал на колени перед печкой и сунул шампуры прямо в огонь.
– Ой, сожжете! – жалобно воскликнула Тамара.
– Что говорил рыцарский кодекс того времени? – спросил Чердынцев. – Если женщина мешает приготовить настоящую охотничью еду, ее надо убить. И съесть! – яростно добавил он.
Огонь прыгал по кускам мяса, и оно шипело и словно плавилось. Чердынцев вытащил шампуры, присолил этот дикий «шашлык» и снова сунул в огонь. Волошина смиренно ставила на стол пиалы, отыскала вилки и ножи, заварила чай. Чердынцев кивнул на бутылку, она открыла ее и разлила понемногу спирту. Чердынцев еще повертел свои «шашлыки» и подал один шампур ей. Мясо было розовым, чуть пахло дымом, но от этого казалось только вкуснее.
Разведенный спирт стал теплым. Но Чердынцев пил чистый, и она тоже сделала маленький глоток, замахала руками перед ртом, в котором словно бы забилось пламя, еле сумела сделать глоток ледяной воды.
За едой разговаривали лениво, о вещах деловых и безразличных – сказывалась усталость от долгого подъема по леднику. А может быть, они опасались другого разговора?
Потом долго пили чай. Чердынцев учил ее пить зеленый чай без сахара, доказывая, что жители этих мест больше понимают в чае, даже лечатся им, и Тамара в конце концов призналась, что горьковатый напиток действительно приятнее привычного – с сахаром или конфетами.
Они не замечали течения времени. Или делали вид, что не замечают, хотя оба искоса поглядывали на окно, за которым прыгал зеленый огонь зари по белым вершинам, сгущались фиолетовые тени от близких гор на леднике, и вот уже что-то черное, как траурный плат, легло у ближнего подножия.
Волошина оторвалась от окна, оглядела дощатые стены, полки, печку, деревянный топчан в углу и сказала:
– А я бы с удовольствием прожила здесь несколько дней…
– Вы уже добились того, что останетесь ночевать.
Она вскочила со скамьи, схватилась за куртку.
– Почему же! Мы сейчас же пойдем.
– Не суетитесь. Ночью по леднику не ходят.
Он вышел, предоставив ей возможность устраиваться на ночлег, и добрался до середины ледника. Вешки стояли на той же линии. Не было и разрывов в теле ледника – об этом говорили приборы. Просто тело ледника вытянулось, как вытягивается под действием тяжести пружина. Пока никакой опасности не было.
Когда он вернулся, Тамара уже лежала на топчане, забравшись в спальный мешок и затянув завязки под подбородком. Только волосы, разметанные по изголовью из сложенной куртки и штурмовки, были на свободе. Второй мешок был аккуратно уложен отверстием вверх возле погасающего камелька. Достаточно было встать ногами в отверстие, поднять за края горловину, завязать так же, как сделала это Тамара, потом осторожно прилечь и спать, спать, спать… А он шагнул к топчану, сел на шершавые доски и зарылся лицом в ее волосы.
К утру во времянке стало холодно, а запас дров и угля Чердынцев безжалостно сжег, даже не подумав, что завтра кому-то придется тащить на санках или в заплечных мешках этот тяжелый груз, потому что времянка – единственное пристанище для того, кто задержится на леднике и не успеет добраться засветло до базы. Тамара не спала, смотрела на него, а он думал: прощается! Завтра появится муж и увезет ее. Если не на вертолете – а он может вызвать вертолет, – то на своей амфибии в сторону Ташбая, а потом на машине дальше на восток, к цивилизации, легковым машинам, самолетам, гостиницам. Он ведь понимает, что задерживает ее здесь не статья или очерк, а что-то другое, и сделает все, чтобы разлучить ее со станцией.
В окно медленно вливалась серая мгла, не расцвеченная, но уже напоминавшая о наступлении дня. Чердынцев медленно обулся, пошевелил остывающую золу в камельке, тихо сказал:
– Надо идти. Я еще раз проверю приборы, а ты успеешь одеться…
– Но почему? – голос ее звучал жалобно. – Неужели ты боишься, что кто-то подумает о тебе дурно? Твои «мальчики» ни в чем не заподозрят нас.
– По-твоему, они ангелы?
– Нет, но ты для них старик. А молодость самонадеянна…
Он невольно перебил ее, боясь даже признаться, что эти слова его обижают:
– Сегодня может приехать твой муж. Мы должны быть дома к завтраку.
– Я уже сказала тебе, что у меня нет мужа! – Теперь она гневалась, но он не очень верил в правдивость ее гнева.
– Однако он обязательно приедет.
– И ты можешь отдать меня ему… мужу?
– Ты не рабыня. Тебя нельзя отдавать или не отдавать. Выбирает всегда женщина.
– Господи, как это трудно – любить умного человека!
Он прикрыл дверь и не слышал больше ее причитаний. Она именно причитала – просто, по-бабьи, словно и не была раньше властной женщиной, привыкшей к почтению и поклонению. И было удивительно: голос причитающей женщины звучал правдивее и горше, чем голос той холодной красавицы, какой она притворялась до этого. Но он уже не слышал слов, уходил по линии вешек к мерительным приборам. Долго записывал показания. Когда взглянул на избушку, Тамара стояла на пороге, а солнце, вдруг прорвавшееся из-за гор, осветило ее с такой яркостью, словно хотело запечатлеть ее в памяти Чердынцева вот такой яркой, золотоволосой, с поднятым к небу лицом. Такой он ее и запомнил.
Обратно шли быстро, но Волошина часто оглядывалась, будто что-то оставила там, в горах…








