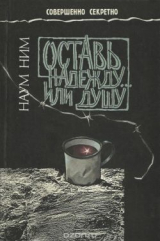
Текст книги "Оставь надежду... или душу"
Автор книги: Наум Ним
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Вот теперь Слепухин совсем в порядке… Прочно и крепко!.. Какой оползень?.. какие обвалы?..
Он толкнул фанерную дверь каптерки. Бугры, ментовские мразевки, завхоз – все козлы в сборе – не продохнуть.
– Масонской ложе «Ме», – Слепухин растопырил средний и указательный пальцы в приветствии, – от вольного народа самых свободных зеков в мире…
– Ты бы, Слепень, потише орал, – вскинулся культорг. – Тебе чего надо?
– Для кого Слепень, а для тебя – гражданин Слепухин, и только шепотом… Ты ж хоть и козел, но по культурной части шерстишь – понимать должен культурное обращение. Что это вы тут штудируете? Точите рога по книжке? – ну, смехота… Так кого забодать изучаете?
– Почти в точку, – хохотнул завхоз, – любуемся рогами, что на всех нас наточали, – он показал обложку, на которой всего-то и ухватил Слепухин, что крупным шрифтом «Режим…»
– Что это за букварь? – он протолкался к столу и зашуршал страницами.
– Режим работы ИТУ… Все по статейкам, за что нас дрючить и когда.
– Ну и что здесь изучили? за что и когда?
– А за все и всегда, – завхоз с деланным безразличием потянулся, хрустя сцепленными пальцами.
– Дай на часок.
– Не могу, сейчас Проказа заберет – это он за плиту чая дал полистать.
– Вот псина… – Слепухин перебрасывал наугад странички толстенькой книжицы, ухватывая то строку, то слово одно… – Ах, да – тазик здесь?
– Так ведь нельзя стирать, – ухмыльнулся завхоз. – Только что вычитал – серпом по белому – запрещается стирка в жилых помещениях, умывальниках и прочее, на виновных накладывается взыскание, а по-простому – вздрючка.
– Так что, завшиветь теперь?
– Завшиветь тоже нельзя – нарушение санитарного состояния и на виновных – опять вздрючка.
– А как стирать?
– В специально приспособленных помещениях, – завхоз начал выталкивать слова из-под углом вздернутой губы, и этим достигалось полное сходство с изморщенной невнятицей отрядника. – У нас при бане помещение есть.
– Да там же завшивеешь больше, в конуре той двое станут, третьему – лежать только, да и не работает ведь помещение твое с осени.
– А за этот непорядок должны быть вздрючены виновные козлы из банной обслуги… Ты не переживай: кого-то точно вздрючат, а может, и всех.
– Эй, Слепень, тебя Квадрат зовет, – в дверях торчала голова шныря.
– Иду, – и обернувшись к завхозу: – Гениальная книга. Заиграй для общей пользы, а Проказе чаем заплатим или вообще – на гвозди его, пусть оботрется…
– Пустое… все одно, долго не удержишь – отшмонают и вздрючат… вон ведь ушей сколько, – завхоз мотнул на свою же кодлу, – я и сам не рад, что ввязался – завтра уже потянут «что?», да «как?», да «кто надоумил?», да «кто дал? да «зачем читал?».
– Да ты что? – загомонилась козлячья свора. – Да мы что, не понимаем?
– Понимаете-понимаете, – хмыкнул завхоз. – Все мы все понимаем.
– Тазик-то дай, – вспомнил Слепухин и очередной раз посочувствовал Сереге. (Неплохой мужик был, а влез по дурости, развесил уши перед отрядником, раскатал губы на досрочное освобождение – и влез. Отряднику только и надо – сломать мужика. Кого кнутом, а этого – на пряник словил. Ни досрочного ему, ни в завхозах удержаться – натура не та: все старается послабить мужикам… Сковырнет его отрядник – и кичи не избежать, и наломается, и не видать потом козлячьих легкостей – паши с мужиками на равных да посильнее, и как бы похуже чего не было, ведь для мужиков все равно – козел. Козел – это навсегда. Себе Слепухин вроде зарубки сделал: не забыть завхоза, не дать братве на расправу его, когда отрядник вышвырнет из каптерки на кичу, и это самое большее, что хоть кто-нибудь сможет для Сереги сделать. Перекантуется как-нибудь в экс-козлах, но и хлебнет сполна…)
Тазик не отыскался (отыщи тут – одна посудина на весь отряд, и еще из других одалживают). Слепухин накрутил шныря, чтобы отыскал и сразу под его шконку определил, а потом поспешил (но чтобы не слишком, не «на цырлах») в закуток Квадрата.
Квадрат кивнул Слепухину присаживаться на соседнюю шконку (проход тут между шконками пошире, и сидеть удобно – не колени в колени, еще и табуреточку приспособил Квадрат посередине). Подоспел шнырь и бережно поставил на табурет закипяченный чаплак.
– На пике стоят? – не глядя на шныря, Квардат засыпал лошпарь чая в чаплак, и не плиточного, а весовуху, да по-щедрому, с присыпком.
– Со всех сторон расставил, не нагрянут.
Шнырь выждал чуток других каких поручений и умотал.
– Закуривай, – Квадрат бросил рядом с чаплаком пачку вольных, с фильтром. – Чего там? – Квадрат неопределенно мотнул головой, но Слепухин понял, что «там» означает – «в каптерке».
– Книжку листают, у Проказы выдурили… Инструкции по работе с нами, чего можно, чего нельзя, – Слепухин неторопливо разминал сигарету, прицеливаясь, когда Квадрат закурит, и загадывал: подставит он свою зажигалку или нет. Подставил! теперь все путем будет!
– Ну и что там можно, а что – нельзя? – насмешничал Квадрат.
– А все нельзя, – в тон ему отозвался Слепухин. – Я краешком только глянул, там же инструкций этих – выше крыши… Вот зажигалка твоя, к примеру, совсем нельзя, даже и перечислена особо, ну а всего, чего нельзя, не упомнить. Спать до отбоя, не спать после отбоя – все нельзя…
– А что можно?
– А можно приветствовать начальство, только обязательно громко и внятно, ну и еще – можно добиваться права на труд, если тебя этого самого права лишают почему-то.
– Ладно, порожняк это. Тут такое дело есть… – Квадрат замолчал, выжидая, не поторопит ли Слепухин, не замельтешит ли, будто у Слепухина совсем уже мозги набекрень. – Слыхал, наверно? семейник мой вчистую откинулся.
– Угробили, волки, – (как же не услышать! вчера еще с подъемом выпорхнула эта новость из ШИЗО и мигом разнеслась по зоне, но вот ведь скотская жизнь – вчера только из человека всю кровь выпили, и не вспомнилось за весь день, потонуло в прошлом, куда и оглянуться некогда.) – Узналось что?
– Узналось… но это потом, а к тебе у меня такое дело: как ты смотришь, чтобы место его занять?
Вот такого поворота Слепухин даже в самых радужных прикидках не разглядывал. Не зря, значит, он так держал себя все время – особнячком, отдельно, хотя – ежу понято! – в семейке жить проще, особенно ежели с деловым: всегда легче раскрутиться и с ларьком, и с чаем, и с куревом, да и веселее. (Сразу услыхав на тюрьме это слово, Слепухин навоображал себе всяких извращений – теперь-то и вспомнить смешно.) Однако, семейника выбрать – это тебе не на воле семью соорудить – тут если на облегчения только клюнешь, если без ума, то вляпаться можно по уши. За семейника во всем с тебя равный спрос и, даже если расплюешься с ним, все равно, по нему и тебе цена. Не раз уже хотел Слепухин прибиться к кому-либо, но те, к кому хотел, не предлагали, а кто предлагал – с тем Слепухин поостерегся, и вот теперь мог с полным правом поздравить себя и погордиться собой.
– Шконку занять? – уточнил Слепухин, прихлопнув ладонью рядом с собой.
– И шконку тоже.
– Я, конечно, с удовольствием.
– Ну тогда устраивайся пошустрей.
Слепухин чуть было не сорвался с места, но утихомирил себя, подловив насмешливый взгляд Квадрата.
– Эй, – выглянул он в сквозной проход, – кто там поближе?! (не слишком нахраписто, но – твердо) – шныря кликните!
– Вроде готово, – Квадрат, сняв с чаплака крышку, принюхивался.
– Барахло мое – в матрац и сюда, – объяснял Слепухин шнырю, и после маленькой паузы, – будь добр… Постой, куда же ты? эту постель убери.
Квадрат снова прикрыл чаплак и лег, чтобы не мешать, а шнырь уже приволок весь слепухинский скарб.
– В тумбочке место есть?
– Найдется.
Слепухин быстро растолкал разную мелочевку по ящичкам громадной тумбочки, сделанной по заказу – шкаф какой-то, комод двухспальный; оправил одеяло и закурил, с трудом удерживая уползающие в радостную улыбку губы.
Гугукнула два раза балда, и шнырь заорал на весь барак: «Пятый отряд – отбой!» Скрип шконок и пальм, гомон, кашель – все барачные шумы вспенились и тут же опали к ночному ровному гудежу. Погасли яркие светильники по проходам, и вместо них наполнились желтком маленькие лампочки на стенках, ожили тревожные тени на потолке, обозначились пустые провалы окон и раздвинули тесный барак: заподмигивали снаружи фонари зоны вперемежку со звездами, и поползла в духоту через пустые окна непроглядно темная ночь.
– Звал? – в проходе неслышно обозначился Долото.
– Присаживайся, – Квадрат подвинулся на шконке и передал Максиму кружку.
– Классный чифирек! – кружка перешла к Слепухину.
– Квадрат, – в проход всунулся завхоз, – ты извини, конечно, но сегодня в наряде Проказа.
– Пусть там стоят на пике… Поминки у нас.
Завхоз отступил и исчез, и почти сразу же втиснулись еще двое гостей.
Слепухин сдвинулся, уступая место на шконке, и кружка пошла по большому кругу – неторопливо, чинно выблескивая бочком в слабом отсвете упрятываемой в кулак сигареты.
Глаза уже привыкли к затемненности закутка, тем более, что из окон, оказывается, не только темень ночного неба вползала в барак, но и холодная белизна снега.
Рядом со Слепухиным сидел Славик, а за ним, у прохода – дед Савва, оба ни на кого не похожие и по-разному на всю зону знаменитые.
Как ни был радостно вздернут Слепухин негаданной переменой своей судьбы, но и его проняло настороженностью и чуть ли не враждебной даже настороженностью этого ночного чифирного круга. Похоже было, кроме Слепухина, все знали, для какого дела они собрались, и заранее уже ощетинились, изготовившись к этому делу. Что-то Слепухин прохлопал, копаясь в тоскующих своих внутренностях, и теперь никак не мог ухватить ситуацию, впрочем, и не старался особо – им теперь с Квадратом в одной упряжке, и, на Квадрата глядя, он тоже чуть ощетинился изнутри к этим трем: «авторитеты-то они авторитетные, головы-то они умные, но каждый со своим личным заскоком, в каждом свой чудик сидит да и живут наособняк и по-своему каждый, а рулит в отряде его семейник Квадрат, а не кто-то из них, пусть хоть у них семижды семи пядей на лоб»…
И чифирек закончился уже, и отхвалили его как положено… покурили…
Квадрат погнал шныря еще с одним чаплаком и по обязанности хозяина первый потянул ниточку разговора – дальнюю и случайную.
– Что, дед, прибавилось в твоем букваре мудростей? – затянул узелок и передал Савве.
– А как же, – подтянул дальше Савва (немного сильнее, чуть понапористей), – хочешь послушать?
Саввин цитатник был известен всей зоне и даже хозяину, и, говорят, хозяин иногда вызывал деда и полупросил, полуприказывал, а дед с охоткой изрекал; бывало – хозяин похохатывал, бывало – хмурился и изгонял Савву, однажды и на кичу закрыл – так говорят. Точно было то, что Савву старались не трогать и жил он себе крепко и отдельно, лечил нашептываниями и дрянью всякой разные болячки и лечил здорово, особенно все кожные заразы, лечил и псов, но не всех, некоторых пользовать отказывался наотрез, лечил и детей псовых – приводили к нему, когда подпирало; никуда не лез, а если уж высказывался о ком-то, что делал крайне редко, его решение принимала вся зона: надо признать, нюх у него на все скользкое и нечистое был поразителен.
Шнырь принес горячий чаплак и, пока Квадрат засыпал чай, ввернул по его команде лампочку прямо над шконкой, откуда ее потому и убрали, что светила Квадрату в глаза. Савва тем временем в сдвинутых далеко от глаз очках листал свою истрепанную общую тетрадь, которую всегда с собой таскал в специально для этого пришитом изнутри телогрейки кармане – это и был Саввин цитатник.
Когда-то и Слепухин пролистнул эту тетрадку, отогреваясь у Саввы в его будке (там дед должен был держать в тепле и чистоте всякие шланги и прочий инструмент, которому грязь и мороз противопоказаны. Надо сказать, что работку эту устроил Савве мастер после того, как дед очистил его дочку от каких-то там лишаев – завидная работка и не козлячья, а Савве на старости лет – в самый раз.) В общем, любопытная тетрадочка, но Слепухин на эти дедовы умствования поглядывал снисходительно, как, впрочем, и все остальные. Ну, например, было там такое: «Все люди – овцы; любая овца для кого-то – козел; любой козел для кого-то – овца; все овцы – козлы, а люди – тем более». (Не Спиноза», – сказал тогда Слепухин. «Это и хорошо, – буркнул Савва, – тем более, ни ты, ни я Спинозу этого в глаза не читали…»)
Хлопок двери, быстрая проходка по скрыпающим половицам, и рядом с Долотом втиснулся Малхаз, который должен бы сейчас блаженствовать на чистой коечке в уюте медчасти, куда закосил почти неделю назад.
– Думал уже не ждать, – буркнул Квадрат, передавая ему кружку.
– Едва добрался. Все дыры наново заделали, и путанка всюду свежая. Кто-то сдал все ходы целиком.
Если уж Малхаз с трудом прошел, то и впрямь прочно заделали все ходы. Этот стремительный грузин с ловкостью ящерицы проскальзывал через загородки по локалкам, сквозь промзоны, наводил дороги в БУР и на кичу, правда, и прапоров у него было подвязано – чуть ли не вся их стая, и солдат через одного, и, может, из офицерских псов тоже. При этом был Малхаз нетерпим, капризен, коварен, слышал насмешку, где ее не было, и реагировал стремительно. Сценка, когда Малхаз с резко проявившимся акцентом наседал на почудившегося насмешника: «Нэт, ты за сылава сываи атвычайш?!» – могла бы выглядеть донельзя комично, если бы с последним шипящим звуком не пускался вдогон резкий кулак. Столь же неожиданно Малхаз мог выплеснуть на кого-то незаслуженное радушие. Не успевающий думать, прикидывать и выбирать с той же скоростью, с какой выбрасывались кулаки, выплескивались слова, неслись, не чуя земли, ноги, он все же безоглядностью своей, лихостью и какой-то детской наивной искренностью испарял из памяти окружающих разные свои многочисленные пятна и пожинал почти одни только симпатии. Но, опять же, симпатии эти никого не сводили с Малхазом совсем уж накоротке, видимо, пятна, хоть и испарившиеся, предупреждающими знаками оберегали от такой оплошности. И все это не мешало (а может, и помогало) Малхазу держаться в отряде кем-то вроде рулевого-дублера, рулевого-2, и не только держаться, но и быть этим самым дублером, что, в свою очередь, накладывало на его отношения с Квадратом…
Слепухин отхлебнул, передал кружку, вспомнил, с какой именно досады начал он мысленно лязгать косточками Малхаза – трудно будет пробраться завтра в соседнюю локалку на денюху к землячку, а хотелось бы, тем более, в новом своем положении Квадратова семейника, но не для выпендрежу, нет…
– Что ты, Слепень, меня глазами кушаешь?
– Да вспомнил, Малхаз, что мы с тобой впервые чай пьем вместе…
– Ты бы сказал раньше, что Квадратов семейник, – уже два пуда выпили бы. А то смотрю на тебя: бобылем, сам-на-сам живешь. Думаю себе: вот – гордый человек, молодец какой! Говорю себе: не беспокой, Малхаз, это гордое одиночество гордого человека своим пошлым чаем.
– Успеете еще два свои пуда выпить, – медленно процедил Квадрат.
– Разве это будет тот чай? Теперь с каждым глотком этого чая я буду проглатывать горькие сожаления и буду думать себе: зачем ты, Малхаз, столько ждал? почему сто лет назад не открылся этому человеку? ты – гордый человек, он – гордый человек, вы могли сделать гордую семейку гордых людей. Я буду спрашивать себя: почему, Малхаз, этот удивительный человек, почти откинувшись, растоптал свое гордое одиночество? И я не найду ответа.
– Слепень, в отличие от нас всех, смотрит в будущее, – хмыкнул Славик. – В двухтысячном каждой семейке отдельную хату дадут.
– Так это ведь глав-козел обещал – для своих только, – ответно торкнул Слепухин Славика.
– Завязывайте, – бросил Квадрат. – Для дела собрались.
– Значит так, – Малхаз будто бы смахнул пылью весь предыдущий треп. – Все, что можно было, – выудил. Влепили Павлухе по просьбе отрядника пятнашку за отказ от работы. Он – хозяину: «Пиши, что отказ в две смены пахать, иначе – голодаловка». Хозяин – Красавцу: «Забирай и обломай». Красавец Павлуху закрыл в пустую 05, чтобы, значит, о голодовке в зоне раньше времени не узнали, и – морозить. Павлуха держится. Красавец говорит, что бросит его в 03. Назавтра Павлуха вскрыл сонник. Побывал он в 03 или до этого сонник вскрыл – неизвестно. Никто ни слова – как воды в рот, даже фельшер – ведь зек, понимать должен – лепит чернуху, он, видишь ли, не в курсе.
– А про 03 узнал?
– Даже медицинские карточки листал на них. Сидят там два петуха, подельники по групповому – малолетку трахнули. Говорят, из себя – бычины, один в одного. Пришли этапом два месяца назад и до звонка по полгода всего. Красавец сразу по приходу их подвязал. Они по его указке – беспредел, а он их содержит в подвале до звонка… Такое, значит, кино…
– Как Красавца перевели подвалом заправлять, душняк пошел плотный, – вставил Слепухин.
– Он из нас себе капитанские погоны выкусывает и, на него глядя, остальные пасти щерят, чтобы не отстать, – подбросил Славик.
– Ваши открытия козе понятны, – хмуро остановил Квадрат. – Не порожняки пришли гонять. Ты метрики этих петухов знаешь? – уточнил он у Малхаза.
– Не хуже своих.
– Решать надо, мужики.
– Реша-ать? – протянул Савва. – Да ты ведь решил все, еще когда с отрядником штырил. Или не так? И я решил, когда отрядник щенка своего пользовать привел. И он решил, когда обещал меня из моей будки выкинуть и, если не образумлюсь, Красавцу доверить мое перевоспитание… Все все решили – чего ж дуру гонять?
– Куда ты тянешь, Савва? – зашипел Квадрат, – чтобы я свою башку и пасть сунул невесть за что? Чтобы я этим овцам, – он мотнул головой куда-то вглубь барака, – помог залупнуться и крайняком пошел? Так еще хуже будет. Что мы можем?
– Ну, можем всякое, – вставил Долото и продолжил раздумчиво. – Если дружно – можем одно, и есть надежда; если каждый за себя – можем другое и почти бесполезно, но кое-что можем, пока у них мандраж не прошел.
– Вот пока у отрядника очко играет, я и нажал на него: ларек, посылки, свиданки да и на работе чуток послабят с перепугу…
– Маловато сторговал на Павлухиной голове… – съехидничал Савва.
– Не так уж и мало, Савва. Павлуха мой башкой своей фортку-то толканул, приоткрыл, переполошил волков, фасон стараются держать, но трухают. Теперь немного вздохнем. Чего ж зарываться и рисковать тем, что Павлуха сделал? Авось и не захлопнется пока фортка-то? Может, допрут, что им это тоже не в масть?
– Чтобы не захлопнулось, кость подставлять надо, а не «авось» твое.
– Каждый за себя, – засверлил Малхаз в Савву искрученными акцентом словами. – Почему я свою кость подставлять должен? Почему я этих овец защищать должен?
– А если – тебя к Красавцу, а он – в 03?
– Меня? Красавец еще долго подумает, и отрядник – два раза подумает, и петухи из 03 – они три раза подумают, а потом сами из хаты вылетят. Я на месте Павлухи прежде своих сонников много чужих искромсаю. И братья у меня на воле – дай Бог. Меня? – они еще пять раз подумают…
– Подожди, Абрек, – остановил Долото (ни тени насмешки, а одна лишь почтительная уважительность), и Малхаз остыл. – На, а если бы Квадрата в БУР, не дай бог, конечно, или еще куда, и ты бы рулил здесь, и, значит, решал не только за себя, но и за этих… овец? и за тех, кто уже в подвале?..
– Тогда – другое дело, – Малхаз сильно растерялся. – Не знаю, Максим. Тогда – трудно… Такое кино…
– Голодовка Павлухи им все карты путает, – рассуждал Долото, – скрыть ее трудно, врачи все знают, да и не только врачи, значит, будет проверка какая-то, чтобы нашими словами все это дело похоронить. Чтобы мы подтвердили, что не было работ в выходные и в две смены, что Павел от обычных работ бастовал и, значит, наказали его правильно, а голодовка его – необоснована, ну и так обо всем. Все дело в том, что мы говорить будем при проверке этой…
– Ты их всех научишь, что ли, что говорить?
– Не наседай, Квадрат, всех и не надо.
– А ты, Славик, что тишком примолк?
– Я ж – козел. Что меня слушать?
– А по делу?
– По делу, так Долото вроде прав. Упереться надо, пока совсем кровь не выпили. Но ведь мои слова мало весят – мне всего-то два месяца до звонка, но одной ноге простоять можно, даже и в БУРе. Ну, а если бы трубить и трубить еще – честно говоря, не знаю, что бы я сам выбрал, но душа все равно бы просила – упереться.
Кто-то покашливанием предупредил о себе.
– Максим, – тихонько издали позвал завхоз, – там тебя петушок этот ждет… твой который…
– На, передай ему, – Максим достал из кармана пачку сигарет. – Нет, не надо – я лучше сам.
– Долото под пресс всех тянет, – лениво и вроде равнодушно начал Квадрат. – Пускай каждый проверкам ихним отвечает как умеет, а сговариваться незачем. Гусей дразнить – дохлое дело. Валить на Павлуху никто не станет.
– Кто не станет, а кто – как умеет, – высморкался Савва (высморкался шумно и демонстративно, мол, сморкал я на весь ваш базар).
– А Максимка-то вон как даже умеет, петушок у него – ой, какой, – поцокал Малхаз и прищелкнул пальцами.
– Окстись, Малхаз, – попытался окоротить его Савва, – он же убогенький.
– Глухой-немой? А зачем с ним разговаривать? Кто же с петушками разговаривает?
Слепухин видел этого «обиженного», который иногда часами выстаивал на морозе, дожидаясь Максима, потом брал у него, что тот давал и сразу же уходил – равнодушный и вроде насквозь замороженный: эдакий хрупкий забледыш, пацаненочек с огромными глазищами.
– Ну так до чего мы добазарились? – Максим усаживался на прежнее место.
– Тут думаем себе: «Куда Максим петушка долбит?» – засмеялся Малхаз. – Почему Максим такой таинственный? почему не расскажет друзьям про своего петушка? Может, друзья тоже интересуются петушка долбить?
– Ну ладно, – Славик поднялся, – вроде каждый остался при своем и каждый решает за себя. Если так – то пора спать.
– А ты не интересуешься про петушка? – по голосу угадывалось, что Максим озлился нешуточно. – А то послушал бы… как раз к нашему разговору история. – Долото говорил уже спокойней. – Не слышал я, чтоб зеки по доброй воле в косяках своих кололись, но я про себя приколю, если вы не против?..
Слепухину стало неловко и, скрывая неловкость, он потянулся к сигарете. Славик сел, видимо, тоже не зная, что лучше делать в нелепой ситуации, Савва попытался встать, но Максим удержал его.
– Было это, как говорится, давно, но, к сожалению, и вправду было. Шел я этапом через Волгоград. Попало под очередной съезд, и по поводу запланированного ликования и повышенной бдительности этапы все заколдобило. Подобралась у нас хата путевая, мы и взялись качать права. Всей хатой три дня голодуем, что само по себе куда полезнее, чем их помои, но и свое все подчистили уже до крошечки. Является на четвертый день к отбою самому подкумок тамошний – малорослый албиносик, розовый, ресниц не видно, глазки пустые до дрожи. Как водится – руки за спину, пошли. Притопали вниз в подвал, а подвалы там еще от царских централов сохранились – теперь так не строят: потолки сводчатые и по дверным проемам видно, что стены – метра полтора. Завел в хату и сообщил: «Кричать здесь можно до посинения – никто не услышит, а выйдет отсюда только тот, кто скажет про себя: «Я – дерьмо», потому что дерьмо вы все и есть, – спокойненько так говорит. – Ну, нет желающих? Так я и думал, значит, переселяемся сюда». Потом привел бригаду, вроде для шмона: раздели нас, шмотье унесли и оставили голышом, а последним аккордом – облили всю хату водой, а в хате кроме камней – ничего, даже параши нету. Выяснилось, что температура сильно ниже ноля, чего мы в запарке сразу не заметили – вода замерзла. Ночка была та еще… бред сплошной… начались и бредовые разборки, кто, мол, непременно, скурвится и скажет, что велено. Как водится, про кого-то решили, потом про другого и – пошло. Били зверски и на ходу зверея. Я вроде и совсем спятил – не вмешиваюся ни во что и все вдоль стен торкаюсь… Психоз – это не передать, страшная штука. Как-то пережили мы эту ночь. Короче говоря, стали утром выводить по одному, а обратно не возвращают. Выведут, потом – провал, вроде вечность прошла и – следующего. Вывели и меня. Альбиносик этот и два мордоворота в старшинских погонах… Трясусь до психа – холод, голышом, вообще все это – трясусь без удержу. Подвели меня к соседней хате – дали заглянуть: вроде комнаты общежития, только с теми жи страшными сводами, и четверо раскормленных лосей кайфуют там при полном достатке и в тепле. «Эти, – говорит подкумок, – для того и спасены от вышки, чтобы помощь нам оказывать». Дали и следующую осмотреть – обиженка страшнячья: видели, как в сортире уличном черви в яме копохаются? – вот похоже. В общем так: делаешь, что велено, – забираешь шмотье и наверх в этапный продол, не делаешь – сначала в пресс-хату, потом из нее – в обиженку, ну и старшины-кабаны наготове уже… Такое вот, как говорит Малхаз, кино… Про расписочку тоже не забыли, мол, к администрации претензии ни-ни… А в хату свою я не попал – раскидали нас по разным этапкам, скричались потом, узнали кого-куда… Так вот, про мальчишечку этого глухонемого никто и не вспомнил, а подкумок – тем более не допер, чего это он молчит да глазами лупает. Вот и протащили его через все. Я его только в этапном отстойнике увидел, когда петухов затолкали. Ну и дальше, оказалось, в одно место идем…
Долото замолчал, и Слепухин с перехваченным дыханием вспомнил свое, но потонуть в своем не успел.
– Ну… – с вызовом протянул Долото, – кто предъявит?
– Не заводись, – остановил Квадрат. – Никто предъявлять тебе не посмеет.
– Ну, тогда можно и спать, – с нарочитым равнодушием потянулся Максим.
– Да чего там спать? Выспимся. Давайте еще чаплачок оприходуем.
Растаяла почему-то враждебная настороженность, и расходиться не хотелось. В главном деле к согласию так и не пришли, но это уже не выплескивало наружу нетерпимостью – появилось ощущение, что они «вместе», и ощущение это – редкое и удивительное – берегли и подкармливали осторожными словами, как огонечек слабый взращивали, поддувая на него.
– Еще чаплачок? Ценная мысль, – поддержал семейника Слепухин. – Только пойду – место для этой мысли освобожу.
– Шныря кликни там.
Слепухин выскочил на мороз и, задерживая дыхание, помчался к загаженному строению в другом конце барака. Там шуровали, наводя относительную чистоту, трое обиженных, для которых с отбоем-то и начиналась самая грязная работа. «Когда же они спят? – впервые осознал Слепухин. – А может, и не спят вовсе? Может, у них организм ото всего этого напрочь перестраивается? А что? – вполне возможно». Шкварные стояли поодаль, пока Слепухин справлялся со своими надобностями, и высеивали труху из-за разных подкладок, в поисках табачинок, которые бережно укладывали на общую закрутку в одну бумажку. Слепухин свистнул, протягивая в их сторону ополовиненную пачку сигарет. «Господи, как же они обгажены», – а когда стало понятно, что шкварной с мерзейшей рожей, взяв пачку, тут же предлагает ее отработать, он быстрее своей же вспухающей тошноты помчался к бараку. Только на крыльце Слепухин отдышался.
Прислонившись к стене барака, торчала стоймя груда тряпья, и из нее выглядывала морда петуха, определенного шнырем на пику. Глаза открыты, но не шевелится. Может, замерз? – в такой одежде, на подкладке со вшами только, немудрено, вон сколько времени уже стоит. Нет, вроде – смотрит, моргает. «Точно, все у них иначе, и потребности у них другие», – окончательно убедился Слепухин.
Он быстро вскочил в тугую, на плотной резине, дверь барака, стараясь лишний раз не прикасаться ни к грязной двери, ни к мешковине, пологом преграждающей хоть на чуток стылый холод. Из-под ног швырнулась в сторону здоровенная крыса, и Слепухин с брезгливой поспешностью ополоснул руки под проржавевшим краном, плечом отстранил следующий мешок – проем в собственный барак. Еще несколько крыс шуганулось под пальмы, и на всем длинном сквозном проходе Слепухин слышал за спиной и у самых ног омерзительный писк и дробчатый переполох серого ночного общества. Провалившиеся в мертвячье небытие люди тяжким дыханием утрамбовывали воздух барака чуть ли не в живую осклизлую плоть. Ошалевшая старая крыса в панике помчала напролом по нижнему ярусу пальм, по одеялам, по подушке, по лицам и огрызнулась в писке, грукнувшись, не удержавшись, об пол.
– Ну и крыс развелось – ногу поставить некуда, – Слепухин усаживался на место. – Интересно, чего они хавают, если самим хавки не хватает? Ни крошки ведь не остается. Может, поймать одну и спалить? Я слыхал – помогает, уходят они после этого.
– Скоро – еще больше будет, самое время для них начинается, – печально вздохнул Савва. – А палить не следует: это же души наши, чего их палить, потерявши…
– Ну, Савва, ты даешь… То у тебя, читал как-то, люди – козлы, сейчас – крысы… А сами-то люди – есть на свете или как?
– Или как…
– Приколол бы, Савва, как ты все это разумеешь? – Квадрат не скрывал насмешки.
Слепухину стало неловко за Квадрата, ведь явно тот старался вызвать Савву на очередной его загибистый заскок и тем самым как бы под загибом этим похерить все дедовы неодобрения Квадратовым рулежом и Квадратовыми решениями.
– А то мы себе думаем здесь, что люди мы, – продолжал Квадрат, – а на самом деле – невесть кто…
– Приколоть можно, – Савва не отрываясь смотрел на Квадрата, – только ты зря себя заранее успокаиваешь, что это так… шорк по ушам… Это – правда все, а правду не всякий выдержит.
– Ну вот – на понт решил взять, – хохотнул Квадрат.
– Начало всей этой мерзости, – отодвинув в сторону шутливую внимательность к сказке, заговорил Савва, – начало, пожалуй, с самого сотворения мира идет. Значит, так, Бога там или еще кто, кого под Ним разумеют, соорудил человека совместно с ассистентом своим, тоже талантливым типом, но никак этот ассистент с шефом не могли договориться по главным своим вопросам, дьявол все ухмыляется, что шеф его чересчур уж прекраснодушен, что ли… В общем, соорудили они человека для выяснения этих своих разборок. Человек для них – материал, сырье для сотворения всего остального, чего сам человек и сотворит, и вот, что он сотворит, что у него получится – это и решит, кто прав в ихнем высоком споре. Такая, значит, лаборатория, эксперимент вроде бы… Ну и ассистент – дьявол по-нашему, не мешает шефу творить человека, даже и помогает советами, чтобы человеку, значит, много сразу дать всего, чтобы он идеи своего создателя мог реализовать. Тот человеку душу сует, а ассистент и уточняет даже – необходимо, мол, по-вашему, господин, образу и подобию, точь-в-точь, чтобы созидающая душа была. Тот в душу совесть вкладывает, чтобы она, значит, душу оберегала, сохраняла, а ассистент вьется: мало, мол, надо еще всунуть заманку награды за сохраненную душу, ну и так далее: тот честь в душу сует для пущей охраны, а ассистент подсказывает, что надо бы и попроще понятие, вот как у нас тут: «человеком главное остаться». Тот – способность разуметь прекрасное, ассистент – плюс к этому – способность вообще разуметь, рассуждать, подвергать сомнению и анализу, что, конечно, всем подряд не понадобится, но вдруг кто-то надобность ощутит – пусть будет про запас. Короче говоря, соорудили. Плодить ему, значит, страдать, размножаться и все остальное, а те – наблюдать будут и ни-ни-не вмешиваться, для чистоты эксперимента, значит. Не вмешиваются они, наблюдают только, а мы здесь копошимся, как микробы под микроскопом, думая, что сами по себе, что цель есть непознанная, а цель-то одна, как у мушек помеченных – чтобы они там выяснили, кто у них прав, а кто – не очень и потом новую себе игру придумали, уже без нас… В общем, души мы себе ампутируем сами, доказывая правоту ассистента. Как пожелалась крошечка самая утехи или послабления махонького не по совести – так кусочек души вошкой противненькой из нас и вылезает. Ну, а если сильно против совести, если, например, под тебе назначенный пресс другого вместо себя втолкнул – тут не кусочек, тут большой живой клок души крысой выскальзывает, и та себе плодится и размножается, и следующие в помощь на нас лезут. Потому я и говорю – крыс нынче прибавится у нас…







