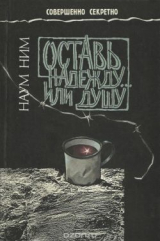
Текст книги "Оставь надежду... или душу"
Автор книги: Наум Ним
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Еле затеплившаяся надежда, что призывные сигналы как-то связаны с Квадратом и передачей курева, тут же и застыла, не разогревшись: в узенькую, не более толщины сигареты щель о куреве спросили первым же делом. Слепухин вертелся, приникая к кабуре то ухом, то губами, успевая заодно поглядывать вверх на галерею и не очень-то улавливая смысл разговора. Вроде исполнял он какой-то необходимый обряд, ему лично совсем не нужный, но обязательный к исполнению. Он совсем не обрадовался, опознав в своем собеседнике Максима, и точно ни к чему ему было знать, что какого-то Штыря бросили вечером к Максиму избитым в кровь. Слепухину пришлось сделать усилие, чтобы понять, с какой именно нужды Максим беспокоит сейчас соседей. Предлагал Долото прямо с утра накрутить весь подвал на общую голодовку, убеждая, что только в этом есть их шанс на спасение. Слепухин мог бы и сам ему ответить, но тот же ритуал, который вынуждал его тратить силы на порожняковый базар, требовал и дальнейших движений.
– Погоди, – вышептал Слепухин в кабуру и обернулся к равнодушным лицам сокамерников, которые тоже сообразили, что призывные сигналы совсем не означали какой-нибудь волшебной помощи.
– Курева там нет? – безо всякой надежды спросил кавказец.
– Предлагает общую голодовку.
– Совсем крыша потекла у мужика.
– Жареный петух его еще не клевал.
– Вся надежда на то, что утром отопление включат и кипятку дадут.
– Он достукается, что ему хату водой обольют.
– Без жратвы тут сразу – гроб.
– Завтра кормежный день.
Слепухин где-то в глубине, куда еще не вломился выстужающий холод, сознавал, что эти возражения какие-то неправильные, что во всех возражениях присутствует неназываемое согласие с теперешними мучениями и именно в этом неправильность, но и он не мог сейчас отстранить, хотя бы и на один час отодвинуть от себя утреннюю шлюмку кипятку, скудный, но согревающий завтрак (какая удача, что завтра – кормежный день), мечты о тепле, которое хотя бы на час погонят по заледенелой трубе по всему подвалу.
Максим откликнулся не сразу и, услышав ответ из 06, ничего не сказал – стукнул только один раз в стенку, что и означало: понял… отбой.
Снова камеру окутала мерзлая тишь, и звонкая стылость потянула души в обморочное безумие.
Слепухин начал было рассуждать о Максимовой неправоте, но долго лукавить с самим собой не смог: все эти рассуждения нужны были для того лишь, чтобы заполнить неизбывное время до того самого утреннего согрева, от которого Максим и хотел их отшвырнуть в безысходность. Ничего путного из таких размышлений получиться не могло, и Слепухин перестал настойчивыми скрепами слов «стало быть» зацеплять одно к другому неубедительные возражения. Принялся наново считать, заполняя ночной холодный провал, – и тоже бросил… Позавидовал чокнутому баптисту, который, по всему видно, не особенно страдал, целиком погрузившись в свои безумные молитвы… Пробовал угнездиться рядом с кавказцем, но снова закружил в надежде согреться и не по камере даже закружил, а на одном месте, сдерживая всеми силами скулящий стон, которым норовила найти выход каждая новая волна дрожи.
Казалось, что стоит застонать только и дрожь не будет уже подниматься выше и выламывать болью затылок…
Может быть, во всем этом безумстве есть какой-то иной смысл? Может, это только кажется, что вот издеваются над ним в отместку за строптивость, а на самом деле существует вполне рациональное объяснение, вынуждающее этот кошмар? Просто Слепухин никак не может ухватить смысл происходящего…
Когда-то он вздумал поступать в военное училище, и целый месяц до экзаменов их, возмечтавших об офицерстве, выгоняли по утрам на цветущую полянку, где они занимались диковинной гимнастикой. В первый день прыщавенький лейтенантик подвел их к груде красного кирпича и приказал перенести всю кучу на сто метров вперед. Потом это упражнение повторялось каждое утро, и для Слепухина было настоящим откровением узнать в конце концов, что вовсе не голое издевательство двигало всеми участниками сумасшедшей игры, а вполне основательная цель: этими утренними судорожными безумствами на лужайке сооружалась гаревая дорожка для будущего стадиона.
Заодно, конечно, истаптывалась цветущая лужайка и вместе с ней до кирпичной пыли истоптывалась та часть души, где бездумно зеленели смутные мечты, цепляющиеся еще более смутными понятиями «офицерская честь», «слово офицера» и совсем уж непонятно ужившееся рядом церемонное «честь имею» с обязательным наклоном головы под звучный прищелк сверкающих сапог…
Он снова увидел себя маленьким, зареванным, загнанным под кухонный стол в наказание за очередную школьную двойку. Ненавистный отец, будучи поклонником сурового воспитания, заставлял Слепухина целый день сидеть под столом на кухне, делать там же уроки и там же съедать штрафной ужин, что было особенно невыносимо потому, что Слепухин не имел права отказаться от этого унизительного ужина. Считалось, что так вот под столом Слепухин с большей ответственностью проникнется необходимостью знаний и быстрее исправит злосчастную двойку. Перед самым лицом покачивалась ступня, и очень хотелось вцепиться зубами, прокусывая до крови тяжелые набухшие вены. Слепухин не переставал скулить, потому что жалобный скулеж считался необходимым элементом воспитательного процесса и, если бы из-под стола не тянулись воющие звуки, отец непременно придумал бы какое-нибудь дополнительное наказание, в разнообразии которых был неистощимым выдумщиком. В общем, скулить продолжал, но целиком до подрагивающего жаркого комка в желудке был занят одним: удерживал себя от соблазна вцепиться острыми зубами в ненавистную плоть.
…Слепухин еле умещался под низким столом, пригибая застылую стриженую макушку и смеясь в душе над стонущим, скорченным жуткими болями отцом, мечущимся на кушетке. Он понимал, что отец не просто измывался над ним, теша тем самым свою властную гордость, а показывал, на чем держится мир, в котором Слепухину предстояло маяться долгую-долгую жизнь. Слепухин даже хотел крикнуть сейчас из-под стола помирающему отцу о своей благодарности: вовремя выпорол старик всякую нежную глупость из наивной души, прочно поселив там в диковинной дружбе вечную готовность к скулежу и не менее вечную охоту цапнуть зубами в кровь… Если бы под столом не было так холодно, если бы так не свело замерзший рот, Слепухин бы непременно крикнул, хотя сознавал, что чего-то старик недополол в нем – иначе бы нынешние учителя, загнавшие его опять под стол, давно бы уже свою учебу закончили.
…Рядом с лицом замелькали в грохоте сапоги, и Слепухин попробовал еще теснее упрятаться под стол, чтобы его не зацепили в непонятной суматохе. Загремели запоры дверей, и загомонили вокруг испуганные голоса.
У двери камеры сгрудились бесплотные призраки, жадно ворочая головами в сторону необычной суматохи и надеясь, что, может, из суматохи той выскользнет и им какое-нибудь чудо.
– Сосед вскрылся.
– Поволокли в медчасть.
– Или в морг.
– Долотов какой-то.
– Слышь, это не он с тобой про голодовку базарил?
– Он самый, – отозвался Слепухин. – Максим с нашего отряда… Живой он?
– Не разобрать – гомонят, псы, все разом.
– Серьезный, видно, мужик – чик по венам, и в медчасть на отдых.
– Или в морг.
– Все одно – на отдых.
– Мужики! тепло включили!
Все остальные звуки слились в один облегченный вздох, принявший в себя восхищение, благодарность чумному Долотову, радость жизни и выше всего – животную радость своей не загубленной еще вконец жизни, ту радость, которая перекрывала благодарность спятившему соседу пренебрежением к нему же, выхлестнувшему взмахом мойки из себя и жизнь, и любую возможную радость…
Железная труба чуточку потеплела, но можно было уже дотронуться бережно, можно было погладить ласково этот источник жизни, и каждый был в эту минуту предупредителен и с удовольствием даже давал другому убедиться в том, что труба и на самом деле вдыхает в камеру настоящее тепло.
С синеватых лиц сходила бездумность безумия, заговорили громче, задвигались осмысленней – совсем неплохо начинался новый день, и не накатывали больше волны дрожи, и растворилась невыносимая боль в затылке, и даже чуточку стыдно стало Слепухину за глупый его разговор с Максимом.
Кто-то залез под нижние нары и там обвился вокруг теплеющей больше и больше трубы, а на маленьком ее кусочке, где труба выныривала из-под нар, и до того места, где она всверливалась в стену камеры, разместились Слепухин с кавказцем. Вокруг терлись остальные, пробиваясь поближе к теплому дыханию разогревающегося железа.
– Ого, скоро и сидеть станет невмоготу, – засмеялся Слепухин.
– Испугались, волки, – на полную включили.
Радость выплескивалась в невразумительных возгласах и все настойчивее направлялась на скорый уже подъем и на утреннюю кормежку. Слепухин почувствовал, что согрелся, и с сожалением, но уступил свое место, не решаясь отойти далеко, а тут же присаживаясь на корточках. Совсем приятно было упрятать макушку под разогретые чуть ли не до обжига ладони.
– Эх, пивка бы тепленького, – мечтательно выдохнуло рядом.
– Ну ты загнул… Кто же это теплое пиво пьет?
– Теплое пиво – самый смак… Я завсегда перед работой заходил в пивнушку…
Загремели кормушки по продолу – пошли дубаки поднимать нары. Отхлопнулась и кормушка в 06.
– Падъемь, – заорал приплюснутый солдатик, – падьнимай нар!
– Курить, командир! курить дай! курить! сигаретку хоть, волчара-а! – в несколько голосов загомонили из камеры, пока остальные поднимали тяжелые нары и пока из коридора они закреплялись в поднятом положении.
Кормушка захлопнулась, и тут же по камере закружили все ее обитатели, потягиваясь вольготно в неожиданном просторе.
Слепухин быстро вышагивал на отвоеванном себе пятачке – два шага от двери, поворот, два шага к двери. Под окошком вдоль трубы постепенно собрались все остальные, исключая чокнутого баптиста, который вышагивал рядом со Слепухиным, только гораздо медленней и расслабленней. У стены начался обычный в камере травеж и обычным же образом прерывался смехом и чьим-либо настойчивым голоском: «Дай теперь я приколю».
Теперь-то Слепухин выдержит, теперь Максим их шуганул, и, может, не решатся они больше искручивать Слепухина, поостерегутся…
Покатила по продолу баландерская телега и своим грохотом мгновенно испаряла все разговоры по камерам. Все зашевелились, и сразу стало тесно.
Теперь уж точно выживем!
Как ни сдерживались обитатели 06, но постепенно все начинали кружить по камере, и все кружения происходили мимо кормушки в нетерпеливом ожидании утренней пищи. Наконец пошли по рукам шлюмки с кипятком и урезанные штрафные пайки хлеба. Кормушка захлопнулась, и каждый, припрятав свою пайку, принялся за кипяток, медленно и окончательно отогревая себя от страшной ночи.
Баландеры укатили, и по продолу все замерло, омертвело.
– Чего же они баланду не везут? – не выдержал юркий парнишка.
– Привезут, – отозвался кавказец, чутко вслушиваясь в тишину продола.
Потом и ему надоело вслушиваться, и он быстро закружил, подгоняя себя гортанными звуками. Когда уши штрафников уловили дальние погромыхивания телеги, радости уже не было, потому что вместе с телегой нарастал и какой-то иной шум, и обостренный слух различал в нем что-то угрожающее для всех.
– Шлюмки давайте, – полыхнуло из открытой кормушки.
– Баланду.
– Баланду!
– Что удумали, козлы?!
– Кормежку гони!!
– Что он там базарит? А ну – тихо все.
– Кормежные дни – четные! Так хозяин приказал, – хмыкнул дежурный по подвалу прапор в открытый распах кормушки.
Кормушка сразу же закрылась, и все матюки вместе со всем негодованием отскочили от нее обратно в хату. Зато открылась дверь, и сквозь запертую решетчатую прапор угрожающе поглядывал в притихшую камеру.
– Ну кто тут ор поднимает? Кому не ясно?! Приказ хозяина – кормежка по четным, то есть через день, как положено.
– Беспредел закручиваешь, – качнулся к двери Слепухин. – Через день кормить должны, а вчера не кормили…
– Кормежка по четным, значит, через день – все по закону.
– В задницу себе закон этот затолкай! – взорвался Слепухин. – Через день кормить обязаны, а вчера не кормили. Ответишь за беспредел, псина!.. Голодовку объявляю!
– Голодовку он объявляет, блевотина!.. Хлеб схавал и объявляет…
– На тебе твой хлеб, – Слепухин швырнул в красномордого прапора свою пайку.
– Один тут объявил вчера – знаешь, где он сейчас?
– Ты за себя побоись лучше…
– Собрать шлюмки! – загромыхал прапор, наливаясь синюшной краской.
Пока звенели шлюмки, пока гремели дверные запоры, Слепухин уже понял, что сделал непростительную глупость, и всей душой терзался этим своим промахом. Теперь-то пути назад нет, а впереди такой тупик, о котором только башку расколоть – и ничего больше. Но ведь обидно-то как! Неужели никто из тупорылых этих не сознает, до чего унизительно, когда так вот нагло фигой в зубы!..
Из угретого конца камерной щели долетал очередной треп. Тот самый парнишка прикалывал что-то знакомое к полному удовольствию окружающих.
– … а телке этой женитьбы – тьфу и растереть. У ней все чешется, дойки наружу лезут, ну и пока там у них пир и все прочее, она своего хахаля – на сеновал и подвернула ему там…
Черт, никак не мог вспомнить, что же это он прикалывает, но определенно Слепухину эта история знакома. Впрочем, что за дело сейчас Слепухину до всех на свете историй?! Ему бы из своей выпутаться… Непреодолимая преграда отделила его от остальных обитателей 06 и теперь уже слепому было видно – никто Слепухина не поддержит, и дальше ему бедовать в одиночку против всех здешних псов. Этим соображением немножко подогрелось его тщеславие, а уверенность, что сейчас вот красномордый прапор перезванивается с дежурной частью и докладывает, что здесь произошло, и они там все ищут выход и соображают, как бы уломать Слепухина на попятную, – уверенность эта если и не успокоила Слепухина, то чуточку укрепила его…
Закон для них – это палка, которой они лупят по каждой высунувшейся башке. Но ведь всегда кто-нибудь хоть на чуток да и высунется – тут его хрясь по башке, и снова вокруг все ровно. Так и получается, что с законом, с палкой своей они пригибают всех ниже и ниже. Но ведь такие способы поносные для пригиба этого находят!.. – лучше бы уж прямо кости дробили…
– …она по комнатам бегает – «Помогите-спасите», а ей навстречу мужик, прикинутый с иголочки по ихней моде. Он ей хрясь по зубам и отодрал тут же на диванчике…
Что это он прикалывает?.. Интересно, созвонились они уже или нет? Наверное, сейчас листают его дело и прикидывают, как бы к нему подступиться. Ничего, сегодня воскресенье – один день можно и поголодать, а в понедельник все равно к хозяину поведут – он же в подвале по временному сидит, хозяин еще не утвердил, и, может, даже он этой голодовкой себе и лучше сделает: может, хозяин, чтобы голодовку снять, и вообще его из подвала вытащит… А то еще возьмет и подпишет только суток трое, чтобы замять все… Нет, рано еще отчаиваться, еще пободаемся. Вот только плохо, что в одиночку. Если бы всей хатой упереться – точно бы замандражили волки, но разве этих поднимешь!..
Слепухин глянул на тесный кружок разомлевших своих сокамерников и острой завистью посожалел, что отделится от них. Сидеть бы сейчас там, слушать порожняковые приколы, подремывать в тепле, а вместо этого зябкое подрагивание неведомого будущего, вылепляющее то непроходимый тупик, то неожиданно заманчивые повороты. Сейчас, после Максимова залета, скорее всего, не решатся морозить – можно было бы спокойно перетерпеть пятнашку, тем более, Квадрат подогрел бы…
– …она гонит во весь дух – прямо из комбинашки выскакивает и орет: «Жофрей! Жофрей!», а он пи-издюхает на своем костыле и не оглядывается…
Загремели засовы, и все скоренько вскочили на ноги. В камеру втолкнули новичка – хмурого парня со второй промзоны, и когда двери, лязгнув по напряженным нервам, захлопнулись, новенький вместо приветствия спросил:
– Как тут нынче?
– Беспредел тут, пояснил Слепухин, надеясь обрести в решительном парне союзника.
– Там тоже понеслось, – отозвался парень. – Какой-то пидер нажаловался прокурору, что баня плохая, вот и пошли выгонять на строительство бани. Теперь подвал загрузят до предела: удумали пахать все выходные, и в будни каждая свободная смена по четыре часа вкалывает на бане…
– Тогда и выходить отсюда нечего, – хмыкнул кто-то в углу.
– Красавец сегодня вышел дежурным, – добавил новенький. – Он и здесь нам чего-нибудь учудит.
– Эх, совсем не вовремя ты со своей голодовкой, – покрутил головой кавказец, обращаясь к Слепухину.
– Что же ты так? – заинтересовался новенький. – С Красавцом не поголодуешь – всю кровь выпьет.
– Ничего… может, подавится еще, – отозвался Слепухин, более всего боясь сейчас, как бы не узналось, что вся банная круговерть пошла с него.
Снова загремели засовы, раскупоривая дверь, и в камере застыла напряженная тишина, когда в открытой двери проявился из тусклого коридора кургузенький Красавец, расставив кривые ножки, подергивающиеся в слишком широких для них, надраеных в зеркало голенищах.
– Кто тут не доволен нашими порядками? – рыженькие редкие усики покручивались и подрагивали. – Я спрашиваю, какой педераст вздумал нарушать установленные правила?
Теперь уж Слепухина освобождающе захлестнуло безоглядной яростью:
– Правила вздумал нарушать дежурный прапорщик – он отказался выдать пищу.
– Ты кто такой? – прищуренные глазки уцепились в Слепухина. – Кто такой, спрашиваю!
– Слепухин.
– Врешь, мразь! Отвечай как положено: «Педераст по фамилии Слепухин». Ну, повторяй!
– Ух, метла у тебя поганая, начальник…
– Выходи!..
В подвальной дежурке Красавец уселся за стол и стал перебирать карточки, отыскивая слепухинскую. Пересмотрел всю пачку и начал сначала.
– Как твое фамилие?
– Слепухин.
Здесь-то с провальным озарение Слепухин осознал наконец, что никто про него не перезванивался, никто про него даже секунду не думал, никто не собирался и не собирается бодаться с ним – попросту до него никому нет ни малейшего дела. А ведь из одной только мысли, что его лично ненавидят, ему лично стараются сделать что-то особо непереносимое, – от мысли этой набирался Слепухин силой для противостояния в тяжелом поединке. Вот от этого, что сидящий за столом недоносок даже не отличил Слепухина в личные свои враги, от того что сморчку этому все равно, на кого излить свою желтую вонючую злобу, – последние надежды на какой-то удивительный поворот оставили Слепухина, и будущее его тыкнулось в лоб глухой стеной, и колени сразу ослабли…
– Значит, не по вкусу тебе наша пища?
– Пища по вкусу… – Слепухину не очень понравился его собственный голос, но он заставил себя подзвучать его еще чуточку просящими нотками. – Только вот не кормят ведь, гражданин начальник. А я и вчера не поужинал…
– Ты бы так и сказал сразу, – хмыкнул Красавец. – Эй, воин, принеси-ка мужику похавать.
Слепухин с удивлением поглядывал на Красавца, боясь верить, что так вот запросто все обойдется.
Припыхтел солдатик, всовывая Слепухину в руки шлюмку с застывшей баландой.
– Значит так: лопай, если не поужинал, и – в хату. Согласен?
Слепухин кивнул и поискал глазами ложку.
– Нету весла, – понукнул его Красавец. – Так хавай.
Всей-то размазни было в шлюмке на одну маленькую горсть, и Слепухин мигом очистил посуду.
– Вот и хорошо, педераст Слепухин, – Красавец ухмылялся прямо в лицо. – Веди его, воин, в 03.
– Ты что вытворяешь, начальник? Побойся Бога!
– Так ты же зашкварился, – щерился в лицо Красавец. – Ты же из петушачьей шлюмки петушачью баланду доедал… Тебя же мужики теперь к себе в хату не примут…
– Ах ты, вонючий выкидыш! Кто же тебе поверит, псине, что ты зашкварил меня?!. Кому ж ты это сказать успеешь?!
Слепухин не успел качнуться к Красавцу – налетевшие из продола прапора и солдаты сбили его с ног и, пиная куда ни попадя, пытались вытолкать из дежурки. Слепухин уцепился в порог и выхаркивал из себя самые отборные ругательства, пересыпая их проклятиями и угрозами.
– Ты ведь сдохнешь, псина… Сегодня же сдохнешь… Ночь эту не переживешь… Не допустит Господь, чтобы такая падаль жила… Будет тебе, как и мне сейчас… похуже будет…
– Похоже будет, – хохотал Красавец и разрумяненно оглаживал топорщливые усы. – Похоже, но не совсем… Тебя сегодня отдолбят за милую душу, и я сегодня телку одну отдолблю за милую душу… Правда, похоже? – Красавец мелко захихикал.
Солдаты умудрились все-таки оторвать Слепухина от порога и потянули по коридору, истаптывая его руки, ударяя по пальцам, которыми Слепухин цепко хватался за сапоги своих мучителей, за неровности в бетонном полу, за многочисленные запоры тяжелых дверей с примолкшими сейчас камерами. Какой-то жуткий обруч стянул непереносимой болью голову Слепухина, мешая ему соображать, выдавливая наружу налившиеся кровью глаза, заполняя тошнотным шумом и гулом уши.
– Максим! Максим! Ма-ак-сим! – заорал Слепухин на весь продол, и звериный его вопль, пронесшись по подвалу, вымел своим взвоем все остальные шумы, обрушив сразу же оглушительную тишину в продол. Даже шумная свора, пыхтевшая над Слепухиным, замерла на мгновение, но, сразу же очнувшись, поволокла сопротивляющееся тело дальше.
– Мак-сим! Мак-сим, – колотилось в бетонные стены.
Красавец дернулся в испуге, когда прямо под ноги ему шарахнулась из-под Слепухина здоровенная крыса, и в раздражении прицельно засадил сапог по маячевшему впереди копчику упрямо сопротивляющейся мрази. Однако и это не помогло, и все нешуточно упарились, пока доволокли Слепухина до нужной камеры.
Слепухин углядел налитым кровью глазом пляшущие на дверях цифры и снова завопил, вкладывая все свои оставшиеся силы в напряженную гортань и чувствуя, как разламывается обруч на голове, разламывается прямо с головой, вместе с болью.
Он попытался еще помешать откручивать запоры, над которыми плясал номер 03, но и это у него не получилось – дверь распахнулась, и продолжался немыслимый вопль «Ма-а-а-а-ак-си-и-и…», захлебнувшийся запираемой вслед за вбитым в камеру Слепухиным дверью…
…С самым началом нового дня местный шнырь совком, смастеренным из лопаты-шахтерки, выгреб Слепухина в грязный коридор и там – этим же совком – собрал в кучу.
Сам же Слепухин никак этому не помогал. Дробить свое сознание на никчемушные ноги-руки – значит уменьшать его могучую силу, и Слепухин смотрел только куда смотрелось, снизу, чуть в сторону, не переводя даже взгляда.
– Это цветочки еще, – побуркивало рядом, – еще наплачешься.
Показался урезанный невидимым пространством шнырь – наискось голова и плечо с дергающимся обрубком руки. Оказалось, и не шнырь вовсе, а он же – Слепухин, вернее, какой-то кусочек его, проживший жизнь этим вот шнырем – понятный и чуть ли не родной. Шныря-Слепухина занимало одно только: обрезать еще пайки хлеба перед раздачей или оставить? нагрянет сегодня какая-нибудь псина или обойдется? И чего неймется им? То сами орут «поменьше-поменьше», то – про нормы вспоминают и душу трясут за каждый съеденный кусок, то «нечего этих мразей кормить», то вдруг – «почему, мразь, у своих же товарищей кусок воруешь?», пробуй угадай им, одно слово – псы бешеные…
Можно бы помочь ему, посоветовать, что сегодня опасаться нечего, но Слепухин чувствовал, что вмешайся он только – и пропадет вся чудесно обретенная сила его всепроникающего ума, что сознание его, вольно пульсирующее сейчас на свободе и даже не на свободе, а свободно и где угодно, сознание это может в любой момент скрутиться и упрятаться обратно в поганую тесную оболочку, уже не пульсируя, а судорожно сжимаясь, утискиваясь, перемеливая само себя.
Слышно было тупотение по коридору какой-то тяжелой сороконожки, вместо шныря обрисовался белесенький лейтенантик, и сразу же много-много сапог начало обминать где-то далеко от Слепухина его вялое тело.
– Разлегся дерьмом.
– Нет, каков пидер, а? Накаркал, падаль… Получай.
– А ведь точно накаркал – как грозил; ночью и скопытился Красавец…
– Ну, вставай, блевотина вонючая.
– Эй, ты чего смотришь? смотришь чего??
– Не трогай его – вона как вылупился. На Красавца тоже так смотрел, вперед как приговорил его…
И вовсе не этот испуганный лейтенантик пытается выскользнуть из-под взгляда Слепухина, а лейтенантик-Слепухин, всполошенный до подергивания губы, метается, умоляя судьбу к милости. Только бы не узналось никем про его участие в залете Красавца. Ну не змеюка ли, так обштопал? и все равно – не впрок. Бог хоть и далеко, но – шельму метит. Это же не Красавец, а лейтенантик-Слепухин присмотрел бабу. Да и что там присматривать было, когда сама заявилась к нему: к мужу на свиданку приперлась, а муж-то в его отряде, и хоть конченый паразит, пробу некуда, но снизошел бы, посодействовал бы им, чтобы через это бабе его глянуться (ух, хороша, паскуда), только вот и он не во власти помочь – на киче ее супружник. Вот тогда и возникла вороватая мыслишка – обкрутить: и как пошел тропки протаптывать, как запел! – вспомнить смешно, – и про досрочное, и про то, что сил не жалеет, а тут и вовсе не пожалеет, и из графинчика водички, и про то, что, может, выгорит еще со свиданкой – пусть, мол, не уезжает, пока он все опробует, и что выплакивать такие глаза не надо – также и узнал, где остановилась на квартире (поселочек весь – с гулькин нос, и все надо аккуратненько, чтобы и слушок не зазмеился – сживут ведь, здесь рисковать – себе дороже, но баба-то, баба – как с журнала зарубежного). …Каково же было сегодня спозаранку услыхать, что лярву эту вытащили с Красавцем вместе из машины! – угорели в гараже. А может, и впрямь петух этот приговорил?.. А что – все может быть. Надо поосторожней. Лейтенант-Слепухин о чем-то убеждающе просил, и, конечно же, не было нужды в его просьбе отказывать, тем более, что вроде получалось, что сам же Слепухин и просил себя…
– Ну вот так, правильно, чего же на стылом бетоне лежать? так и очко застудить недолго… Пошли… пошли живее.
Теперь и в самом деле стало холодно, и главное – сам Слепухин начал втискиваться обратно в свое прежнее логово, чтобы оберегать его и сторожить. А чего его сторожить? К черту!
Слепухин расслабился и с легкостью прекратил всасывающее вселение себя самого в ненасытные потребности лишнего ему тела (обойдется оно и само по себе). Выяснилось, что всякие простые надобности передвижений могут не Бог весть как, но выполняться самыми малыми вмешательствами. И не изнутри даже, а снаружи, и Слепухин опаять воспарил свободно, почти и отделившись (или отделавшись?) от тесного узилища в обрешетке ребер, от ненасытной прорвы махоньких желаний и претензий всякой клеточки… Он струился над заплеванным полом жарко натопленной подвальной дежурки, тесной сейчас от набившихся перед сдачей смены таких разных и таких родных в понятности своей работников лагеря (псов? волчар? зверья? – глупости: обычных слепухиных). Пятеро солдатиков и трое прапорщиков обступили в углу самого Слепухина и с боязливым любопытством рассматривали, подавая при этом советы, как тому управиться с грудой тряпья, полученного взамен рваного комбинезона. Труднее всего было со штанами, которые сидя надеть никак не удавалось, а что делать с оставшимся в лишних деталях бельем? – тут все советовали разное, пересмеиваясь, но пересмеивались тихонько и боязливо, за спинами друг друга.
Слепухин просигналил омертвелой руке откинуть к чертям лишние тряпки (откинуть не получилось – удалось сдвинуть только) и оставил ее с мелко подрагивающими пальцами опять без присмотра.
– Смотри, фарами своими залупал.
– Выдавить бы ему совсем штифты его, чтобы не смущал, – тихонечко борботнул черненький прапорщик-Слепухин прыщавому прапорщику-Слепухину.
Не трудно было спокойненько впитать их всех, что Слепухин и сделал тут же, но вчерне, не утруждаясь особенно деталями…
Двое молодых солдат заранее тосковали возвращением в казарму (не разжились чаем и, значит, быть битыми); еще один колготился, как бы достать черные петлицы к уже припасенным погонам (предстояло ехать в отпуск, и не лишнее примаскироватся – береженому и Бог дает); четвертый сооружал хитроумные ходы, чтобы смотаться в поселок за два километра от казармы (библиотекарша, конечно, никудышинка, но других-то и вовсе нету); пятый – все прикидывал: загонять в хату пачку сигарет или оставить себе? (зеки ведь такие мрази, еще и сдадут… но не возвращать же обратно пятак, что взял за услугу! опять же не загонишь – больше не разживешься); все трое прапорщиков исходили одним негодованием: псина офицерская, уселся бумаги рисовать, и, значит, накрылся завтрак, который всегда готовил шнырь перед концом смены, а всего досаднее, что сегодня козлы из лагерной кухни отвалили по-щедрому, видно, после прокурорского наезда от показушной кормежки понакопилось у них продуктов…
При этом лейтенант-Слепухин о завтраке и не помышлял, полностью занятый исправлением в бумагах на упрятанных им сюда мразей (на всякий случай надо переделать рапорта, нарисованные второпях и как Бог на душу… формальность-то она формальность, а вдруг, например, начнут теперь проверять – за что он мужа лярвы этой закрыл? всем-то понятно, что здесь ему – самое место, но в рапорте лучше заменить «недозволенные сапоги с теплой подкладкой» на «сапоги неустановленного образца» или даже так: «нарушение формы одежды», нет, пусть будет просто «нарушение режима содержания»…
Слепухин оставил их всех и, раздвигая границы своих способностей единым духом просквозил по всему упрятанному в камень строению, в котором сейчас 197 измерзшихся слепухиных накручивались нетерпением в ожидании утренней шлюмки кипятка, а еще шестеро из самой дальней буровской хаты о кипятке не вспоминали. Этим сейчас было не до того: пятеро загоняли в угол шестого, пока только словами, но слова все больше тяжелели – малейшие промахи раздувались до непростительных «косяков», а испуганные попытки оправдаться самой своей испуганностью вызывали справедливое презрение… При этом все пятеро бедолаг слепухиных старались заглушить праведным гневом немаловажные соображения о другом разделе маленьких ежедневных паек, если этого чертяку загнать в стойло, а шестой бедолага Слепухин на глазах терял всю силу отпора именно потому, что более всего скорбел об утреннем наперстке сахара, который может сейчас вот потеряться безвозвратно… Слепухин и в других хатах БУРа и кичи усмотрел бы много интересного для все возрастающей своей любознательности – не одну только жажду согреться крутым кипятком, – однако оставленное в углу дежурки обмякшее существо чем-то еще держало его, не пускало вырваться в совсем уж свободный полет.







