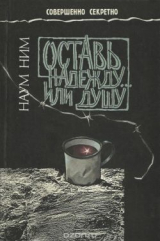
Текст книги "Оставь надежду... или душу"
Автор книги: Наум Ним
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Маята серой казармы со всепроникающим ароматом хлорки ничем не зацепила его, а именно этой маятой уже и начинали подергиваться солдатики. Прапорщики тоже все неотступней переносились на пару часов вперед, в задрипанное свое общежитие, в котором они, оказывается, тоже жили семейками – по семейке в комнате, и были у них свои авторитеты, свои черти и даже – свои козлы. Расхристанные комнаты с залежным бельем на кроватях и журнальными красотками по стенам (в основном из журналов мод – где ж достанешь иные? да и достань – замполит-волчара сорвет тут же, может, и с погонами вместе, пришивай потом наново). Остатки еды на столе, куча мусора, загороженная веником, фантастические мечтания о какой-то начавшейся внезапно красивой жизни в каком-то большом городе, и все эти мечтания вперемешку с боязнью выездов в соседний город, с растерянностью на шумным улицах, по которым ходят как попало слишком много людей и у всякого руки вольно болтаются, а не в безопасной сцепке за спиной… А над всем – задерганная нужда, потому что триста с гаком – какие это деньги? чего на них купишь? даже выпить – не каждый день, а не выпить – так что же делать в поселке этом, который ведь тот же лагерь?.. вот из-за вечной бедности этой и шныряет по комнатам неистребимая ревнивая зависть к тем, кто умудряется половчее на лагерных мразях свое урвать, свои макли навести – в зоне ведь тысячи под ногами лежат, только умей взять и умей следы замести… Задержавшись немного в комнате черненького прапорщика, который обнаружил вдруг за собой склонность мочиться в постель и боялся оставлять без себя комнату, чтобы не открылось… углядев в чемоданчике прыщавого прапорщика зоновские поделки, припрятанные от семейки для единоличной нужды… осмыслив напирающую горячку третьего, который вызвался сторожить в красавцовом гараже совсем голенькую (го-о-оленькую!) телку, пока начальство решит, как там с ней дальше (не брать же ее в дом на один стол с Красавцем!)… – Слепухин оставил их добивать смену без себя и переместился к лейтенанту.
Лейтенант-Слепухин одновременно с наведением марафета в бумагах пытался угадать: испортит хозяин предстоящие выходные дни или даст отдохнуть? Впрочем еще неизвестно – что лучше… В город смотаться не выйдет: жена устроилась наконец-то в школу домоводство преподавать, а ему из-за ее дури придется этим же домоводством дома заниматься… Некогда любовно оборудованый кабинетик сейчас уже не согревал сердце. Письменный стол с налетом пыли, ковер, утыканный наполовину заброшенной коллекцией значков, груда книжек, так и не ставшая домашней библиотекой… Зевнуло нутро письменного стола, оборудованного крепкими запорами (жене пояснено, что от детей, что оружие, а откуда бы оружие взялось?) – несколько колод игральных карт в фотографиях, но не для игры, конечно, а для укромного глядения, финки-ручки, пистолеты-зажигалки, всякая иная зоновская продукция – это для подарков и продажи, но не здесь, а в отпуск, случайным людям как неплохое подспорье… Можно бы и рискнуть и развернуться с этим товаром, но не с лейтенантскими звездочками – хотя бы одну большую сначала выслужить… Нет, дома делать совершенно нечего… А если еще выплывет что-нибудь про всю эту бодягу, Красавцем попорченную?.. Вот – зар-раза!
Тоска вытеснялась злостью, а та, в свою очередь, искала, на кого выплеснуть, искала виновника такой вот непрухи… Все с рогоносца этого пошло и бабы его… Ну я ему заделаю!.. Он у меня покорячится…
Тут прояснилось, что виновник лейтенантских бед ведь и не знает ничего еще – вот где возможность сладостной мести, чтобы покрутило его, чтобы и ему жизнь маслом не стелилась…
– А бедолага этот и не знает ничего, – (раздумчиво, негромко и никому лично), – все же горе у человека, может, хоть вывести – покурить дать?.. Оно, конечно, нарушение, но ведь и горе какое…
– А в какой он хате? – встрепенулся солдатик, так и не решивший еще про измятую в кармане пачку сигарет (Слепухин, невольно следуя голосам, опять погрузился в себя-солдатика)… Вот ведь удача повернулась. Хата-по соседству с нужной. Ничего, передадут сами, а я вроде сделаю, как обещался…
Все вроде бы в дежурке этой было просвечено (мелькала и шебуршилась разная живность в углах и под половицами, но слишком уж резво – не угонишься). С ленивой скукой Слепухин несколько отстраненно просыпал сквозь себя в разных комбинациях все те же живые свои осколочки – такие разные и такие одинаковые.
Да, да – одинаковые, и не только тем, что все они, хотя и каждый по-своему обмятый и обточенный, не что иное, как он сам. Как бы ни блистали отдельностью своей и непохожестью эти слепухины, ясно высвечивала их общая грань, общая основа – работа.
Работа всем этим слепухиным вывернулась даже не самой существенной частью их жизни, а единственно содержательной ее частью. Остальное все – ломтики времени после работы или до работы. Никаких не было особо мудреных соображений по этому поводу, никаких фанатичных загибов и воспарений о труде, долге или ответственности перед народом (хотя при случае, приняв чрезмерно или после фильма соответственного и непременно трогательного, бывало и цеплялись не слишком шибкие языки за слово «органы», вытягивая из него что-то такое… волнующее). Просто-напросто – работали они свою мужскую серьезную работу. Можно даже сказать, что это – их ежедневный праздник, хотя бы потому, что во все почти календарные праздники приходилось работать (зеки ведь в неистребимой испорченности своей норовят именно всенародные праздники изгадить чем-нибудь, поэтому – дополнительные наряды, специальные меры, особая бдительность)…
Слепухина явно не насыщали впечатления, которыми он здесь прозябался. Покопавшись поглубже в подвернувшемся солдатике (в том, что последние дни пролистывал кипами журналы, подбираясь к библиотекарше), отыскал Слепухин и похожую со своей ситуацию: здоровенная акула, не видя, что она распорота почти поперек, продолжает жадно пожирать все, что можно ухватить, и все сожратое – ясное дело – вытряхивается обратно без задержки…
Нетрудно было и осознать, что всему виной разделенность его с небольшой, но, видимо, необходимой частью себя, которая упорно цеплялась в жалкую груду тряпья и костей на полу дежурки.
Слепухин понял, что именно его личной маленькой памяти и не хватало для полного завершения себя (заткнулась дыра, куда безудержно проваливалась всякая новая пища). Но память эта, ухватившись цепкими щупальцами, готова размять все чудесные его способности: тянет лабиринтами каких-то неисчислимых ошибок, узкими потемками всяких желаний, расплющивает тупиковыми стенами неисправных уже уверток, предательств и подлостей…
Ужас предстоящего существования вздыбил каждый его ошметочек единой яростью. Нет! нет! нет! Назад! Скорее назад! Пусть лучше бездонная усталость ненасытности! Пусти же, пусти! Пропади пропадом это мятое тело! Пусти, драный мешок! Нет! нет! нет!..
– Нет! Нет! Нет!
– Чего это он заходится?
– Двинь его…
– Я тебе что – камикадзе? Сам двинь.
– Может, сигарету ему дать?..
– А он не берет…
– А если водой облить?
– Это уж ты сам попробуй…
Слепухины поглядывали на обмякшее опять тело и отходили от переполошивших их воплей…
Совсем оставить эти кости не получается, и придется теперь присматривать за ними постоянно, но главное – не забывать о безопасном расстоянии…
– А как глазами-то засверкал…
– Припадочный.
– Вот это – в точку. Припадочные, они все – с дурным глазом.
– Вот приручить бы его, чтобы по указке: кого тебе надо – того он глазом своим и приговаривает.
– А тебе кого надо?
– Да уж нашел бы…
– А, может, все это еще и ничего такого?.. Совпадение просто?
– Ты слыхал, как он вопил? Почти целый час без передыха. Ты смог бы так?
– Не пробовал.
– А вот попробуй – тогда и говори… Совпадение ему…
– Чего ж он сейчас именно завопил, а не раньше?
– На тебя посмотрел – и завопил.
– Он вчера тоже громко вопил, а потом морг глазом – и нету Красавца.
– Ты эти смехуечки оставь, а то – сам завопишь у меня…
– Какие ж это – смехуечки? Догадался, что ты бабу сторожить напросился, и вот – вздумал порешить тебя…
– Причем здесь баба?
– Так они с Красавцом бабу эту и не поделили.
– При чем тут он?
– Вот, пень!.. Это ж его баба – на свиданку приехала. Тебе лейтенант говорил, что горе у него… чтобы закурить дал…
– Лейтенант это не про него… Что ты мне мозги компостируешь?
– Про него, про него… Ты растащился, как бабу его обтрухивать станешь, и не усек… А он – усек…
– Ну, я с тебя в общаге за базар этот спрошу…
– Поздно уже – теперь он с тебя спрашивать будет.
– А ну – прекратить ржачку! Давай… на вахту его…
– Эй, ты… давай… поднимайся…
– Подогни коленки-то, чучело…
– Ну, вставай-вставай – хозяин, он ждать не будет…
Вырвавшись из-под подвальных плит, Слепухин никак не мог совладать с собой – открывшийся простор тянул его распластаться повсюду, но приходилось сдерживаться, помогая своему же обрубку колыхаться, проталкиваясь по чуть-чуть сквозь снежную крупу к могучему строению, которое замыкало неохватное объятие высокой лагерной ограды. Из середины его торца ограда начинала свой путь, дальше – пряжка ворот, потом ребристая вышка заворачивала ограду в первый изгиб, дальше другая вышка изгибала ее еще, дальше – и не углядеть уже, а в конце пути ограда утыкалась в другой торец здания.
Слепухин покружил вдоль кирпичных стен здания, куда вечно держала свой путь ограда и куда (может, тоже – вечно) слепухины, утепленные шинелями и тулупами, сопровождали изодранного Слепухина. Повсюду на стенах, и со стороны зоны, и в сторону от зоны – плакаты, лозунги, портреты… в общем, похожее не то, что везде… вот разве только подозрительно много слов о гуманности и справедливости закона, власти, партии всей и отдельных ее представителей…
Пришлось все-таки ему поднимать Слепухина из снега, оживлять наново – с этим мешком под ногами и не оглядишься как следует…
Медные звуки встрепенули Слепухина подняться повыше, насколько хватало не упуская в растяжке норовящее ускользнуть обратно в колени плечо.
За железной решеткой зоны набухала, разрастаясь, темная масса и, подчиняясь оглушительным звукам, втягивалась плотным комом в открытое горло калитки, а калитка ровно перекручивала этот кусок в одинаковой ширины изгибистого червяка. Чуть дальше, за несколько метров от калитки, размеренным ножом руки, охваченной повязкой ДПНК, офицер-Слепухин разрубал грязного непрерывного червя в маленькие части отдельных бригад. Но червь не погибал под рубящим ножом, и тянулись себе дальше – извивались отдельные кусочки его бесконечным движением – исшинкованный червяк полз, как полз бы и целый, слепо и бесконечно, тянул тысячу маленьких слепухиных в своем мерзко извивистом теле. Каждый клочок выскребывал в воздухе своим проползанием пустой коридор, и вот в него уже втягивается следующий обрубок, и пустота заполняется плотно злобой и ненавистью… Вот эти выделения уже готовы выхлестнуть в стороны, искорежить все вокруг, но медным бичом бодрый марш захлестывает липкую ненависть обратно внутрь, и там она ядовито разъедает ее же выделившую плоть.
Слепухин помог вконец умаявшимся сопровождающим поднять себя на крыльцо, втиснуть в дежурную часть и затолкать в боксик, который и приспособлен в дежурной части для таких вот надобностей. Теперь-то Слепухин мог и передохнуть – за крепкой дверью, наглухо зажимавшей бетонный стакан, ничего не грозит ослабшим до непрерывного дрожания костям. Можно и вообще оставить их тут осыпавшейся поленницей на самом тоненьком пригляде.
С поспешной жадностью изголодавшегося Слепухин набросился на капитана ДПНК, вернувшегося к основному месту своего дежурства – за пульт.
– Видел, как вы нянькались с этой мразью, будто с дитенком родным… Что, нельзя было побыстрее? Не могли на сапогах прифутболить эти отбросы?.. Развели тут телячьи нежности…
Капитан-Слепухин ни о чем не мог думать спокойно и хоть сколько-нибудь продолжительно. Сейчас придет хозяин, и то ли все обернется дружной ржачкой, то ли – сто шкур одним только холодным потом сдерет… Черт, обещал младшенькому тоже наручники принести и совсем забыл, теперь поздно, дома будет море слез, ревности, обид… Дернул старшому эту игрушку подарить – ни минуты спокойной… В штабе вроде порядок – шнырь сегодня навел марафет как положено – только петух этот в боксике уделаться может… погонят ведь кобелине готовить место на кладбище… ну, гроб там и венки с лентами – на промзоне свои умельцы сляпают… вот наказание… А еще с подстилкой его разбираться… везти куда-то… нет, сегодня точно не отдохнешь… Я бы кобелю этому собственноручно яйца оторвал, если бы наперед знать… А что, если точно как эти слухи шепчутся? если петушара приговорил?.. Хорошо, что с ним уже валандаться другой смене – ну его к черту. Посмотреть, что ли, как там упрямая коряга в хозяевом кабинете?.. Может, загнулся уже в боксике? или изгадил все? А ну его, – там в боксике унитаз – не обделаешься, а если загнулся, так хозяин сам его определил, с субботы еще, без питья и хавки… До чего же залупистый старикан… ничего, наш и не таких уделывал…
Занудливый капитан все прокручивал и прокручивал тот же бесконечный ролик: хозяин… кобелина… петушара… наручники…
В дежурку набивались окончившие смену и подходили заступающие на смену.
Огромное пространство за отгораживающим капитана барьером заполнялось тулупами, сапогами, валенками, полушубками, шинелями…
Внезапно в дежурке стало трудно дышать, будто весь воздух разом выпили и будто впридачу от этого питья все разом забалдели. Неожиданное разрежение подобострастия и идущая следом волна трепета сорвали капитана с его гипнотического верчения и одновременно вырвали из-под того же гипноза Слепухина – совершенно измудоханный, он шлепнулся прямо под зеркально сверкающие мягкие полусапожки совсем не военного образца и поэтому вызывающие какой-то отдельный трепет. Далеко вверху, у потолка, кучерявилась серебристая папаха.
Слепухин нашел силы подняться и, подтягивая обморочно обвисающие части, всплыл к самой папахе, намереваясь на ней и угнездиться. Однако хозяин-Слепухин испускал волнами такую густую злобу, что от одного запаха с ее резко выделенной кровинкой Слепухина все время сносило в сторону. Хозяин совсем не был высок, пожалуй, он был и пониже всех здесь, но сейчас все как-то пригнулись, умялись, и этот исполнительный изгиб плюс к торчком вздымающейся папахе давал хозяину возможность возвышаться в великолепии набухающего гнева над всеми этими… над этими… (в штрафбате им место! в говнороях им место!).
Мутный гнев бурым потоком накрыл хозяина с головой, выше глаз пузырясь, начал заполнять папаху, и та выторкнулась еще выше, еще на несколько метров возвысив приземистого полковника. Хозяин снял папаху, выплеснул в дежурку ее вонючее содержимое, пристально глядя, не ухватится ли кто-нибудь за нос, не начнет ли сдергивать противогаз со стенда на стене, как раз о таких атаках предупреждающего. Никто не шевельнулся, и хозяин, пригладив остатки сивых волосинок, открыл рот.
Предыдущая тишина была тишиной перед артподготовкой. Из могучего дула загрохотали безостановочные залпы. и если не хозяин, то Слепухин точно видел, как все в дежурке попадали, вжимаясь в грязный пол, прикрывая затылок руками, спасаясь от яростного минометного огня.
Сам Слепухин вначале взлетел, распластавшись на потолке, припечатанный к нему с низу, и никак не мог проскользнуть в безопасное место сквозь плотный поток снарядов. Потом он все же провалился в случайную паузу между залпами, но не спасся, а попал в сущий ад – его мотало по дежурке, растирало по стенам, тянуло вдоль всех плинтусов, плющило под ногами остальных слепухиных, попавших с ним в одну беду, и наконец-то, сжавшегося в комочек, затолкало его за огнетушитель, где он долго еще вздергивался от звонких попаданий по красному цилиндру…
Когда дежурку залепило оглушительной тишиной, Слепухин попытался выбраться из своего укрытия, но это оказалось совсем не просто. Все пространство дежурки было плотно утыкано разнообразными и кошмарными детородными органами самых неожиданных млекопитающих в самых невозможных сочетаниях. Все они, выпущенные сюда в залпах полковника, шевелились, поскрипывали, перемещались по дежурке, соединялись в невообразимых комбинациях – обживались и не собирались никуда деваться. Поднявшиеся с пола и отряхнувшиеся слепухины тыкались в какой-нибудь пупырчатый снаряд под ехидным взглядом хозяина и готовы были сами подхихикнуть этому взгляду (ведь, право, это уже не страшно, это вроде отцовского шлепка… самое страшное позади…).
Наконец-то и Слепухин достиг необходимой ловкости в передвижениях по плотно заселенному на всех уровнях помещению.
Хозяин, стоя рядом со стулом, где раньше сидел ДПНК, быстро расправлялся с утренними обязанностями. Слепухин подрагивал рядом с ним и в своей затравленности не успевал ни на чем серьезно сосредоточиться.
Одной рукой хозяин брезгливо перекладывал бумаги, а другой – расправлялся с находящимися в комнате. Не глядя, он ухватывал первый попавшийся под эту руку из ранее выпущенных снарядов и запускал в дожидавшихся своей очереди на этой планерке. Уже ушли солдаты и прапора, сдавшие смену, и готовились к выходу – заступившие. Хозяева бомбардировка, к этому времени весьма ленивая, не производила на заступающих в наряд никакого впечатления – грозные и все еще довольно меткие удары отскакивали от них без малейшего вреда, и теперь уже вторично использованные и потерявшие убойную силу заряды из хозяевской обоймы жалобно опадали на пол.
– И никакой поблажки зекам!.. Помните! обчифиренный зек прыгает на семь метров в любую сторону!..
Наконец вывалилась толпа с утреннего инструктажа, придавливая скрипящие под ногами и совсем не страшные уже останки хозяева гнева.
Бравому оперу досталось несколько больше других самое неприятное: именно ему и была поручена вся гнусная каша с Красавцем для расхлебывания. Опер ничем не выразил своего неудовольствия под пристальным взором хозяина, но, уходя, так засаживал сапогами по валяющимся кучками ошметкам недавней стрельбы, что ошметки эти вновь взлетали почти с прежней скоростью, рикошетили в стену, возвращались кружить вокруг опера да так, дымясь над ним, с ним вместе и исчезли в дверях (пожалуй, этого позаимствованного оружия оперу хватит на всю предстоящую смену, да и для дома, может, останется).
Теперь-то Слепухин осмелился подняться повыше в освободившейся комнате, правда, все еще непроизвольно подрагивали разные его части, мешая отдаться давешнему ровному и свободному пульсированию.
Хозяин все так же стоял рядом со свободным стулом, а перед ним (перед барьером), вытянувшись «смирно», но не застыв, а продолжая внутренне вытягиваться, исходил отрядный Боря. Слепухин, оглядывая лейтенанта Борю со стороны и решая, стоит ли им заниматься, видел, что снизу до пояса лейтенант и вправду стоит «смирно», а верхняя его половина чуть изогнута в сторону хозяина и от этого движения и без того немалый зад сейчас совсем растопырился, раздвигая шинель и привлекая веселое внимание остальных здесь офицеров.
– Никакого такого колдовства… я не потерплю, а разговоров – тем более, – вдалбливал хозяин отрядному. – Или, может, по науке что не так? Скажи свое мнение, медицина, чего примолк?..
– Ну какое может быть колдовство? – махнул рукой майор со змейками в петлицах.
– А, да что твоя наука понимает? Ты мне болячку вон простую извести не можешь… Значит, так, – хозяин снова уставился в отрядного. – Получи на петуха своего валенки и что там еще есть для теплоты и пристрой куда-нибудь.
Совсем уж лениво хозяин уцепил, наверное, последний из жужжавших возле искривленный придаток и шлепнул его совершенно беззлобно в лейтенанта, но тот и стряхнуть не посмел даже – так и выпятился с прилипшим к уху ошметком.
В комнате остались трое офицеров, и по расстегнутым шинелям и довольно-таки вольным движениям было понятно, что никакой особой стрельбы более не ожидается. Хозяин присел на самый краешек стула и как начал морщиться, приседая еще, так и продолжал, уткнувшись уже в бумаги. Майор-медик, стараясь не помешать полковнику шумом, там же за барьером наливал себе чай. Оставшиеся двое уселись ожидать хозяина от его бумажных занятий.
Слепухин совсем уже отошел и сначала медленно – пробно, – а потом, входя в прежний режим, закружил по комнате.
Длинный майор все никак не мог пристроиться, все скрипел стулом, не в силах выдержать такое вот томительное пустое время. Слепухин качнулся к нему, привлекаемый его нетерпением. Однако обжиться в этом прелюбопытнейшем экземпляре было не так уж просто. Заместитель хозяина по режиму, дедушка-Слепухин более всего походил на до предела захламленный дом из каких-нибудь негритянских трущоб (по крайней мере как сам же дедушка эти трущобы представлял) – многочисленные клетушки, никак не связанные друг с другом, глухие чуланы с неожиданными дырами в трухлявых стенах, все время натыкаешься совершенно неожиданно на совсем неожиданное… Можно только восхищаться, чего не понатаскал режимник в себя за долгие свои годы, продолжая и сейчас ту же таску с неутомимостью прыщавого курсанта…
Главное, что тут же захватило Слепухина, – неуемная фантазия режимника, которая нисколечки не поистрепалась за почти уже сорок лет энергичной службы, а наоборот, поистрепала, поизмотала всех и все своим молодцеватым сквозняком. Сейчас майор всей штормовой силой своей фантазии пытался вылепить замечательный подвиг с обязательным воспитательным и назидательным окрасом. Это не был первый подвиг в его жизни, но это должен был быть подвиг в духе времени (как и прежние – в духе своего времени), подвиг, который так и притягивался на цветастый разворот иллюстрированного журнала. И название большими буквами, что-то вроде: Краткий рассказ о том, как заместитель начальника ИТУ по режимно-оперативной работе, который за сорок лет беспорочной службы… ну и так далее, в общем, спас жизнь неисправимому и отторгнутому от общества отбросу, проявив истинное милосердие пламенного чекиста… – ну и дальше в том же духе. А потом мелким шрифтом и подробно, как заместитель начальника ИТУ по режимно-оперативной работе (здесь можно портрет в строгом плане, впрочем, лучше – полустрогом, с улыбкой… не забыть зубы вставить…). В общем, авария там или просто драка… сам принес на руках в медчасть (желательно, чтобы мразь попалась маленькая и жалкая), отдал свою кровь… нет, кровь – это слишком, пусть лучше кожу после ожога с моей задницы ему на морду… нет, в этом и вправду что-то есть: с задницы чекиста на рожу преступной мрази… даже символ, пожалуй?..
– Ты чего это развеселился?
– Да нет, Васильич, это я вспомнил тут, – утихомирил себя майор-Слепухин.
– Вспомнил он, – хозяин еще раз с подозрением глянул на своего зама. – Весело ему…
В общем, майор-Слепухин хорошо себе представлял эту статью в журнале, ну, детали разные он, конечно, недодумал сразу все, но в целом – поучительный должен быть матерьял и как раз в духе нынешних призывов к милосердию и заодно как бы смывает разные мерзкие намеки на всю их службу, в которой, конечно, встречаются тоже всякие… вернее, встречались…
Где-то в замореженном закоулке уже долгие годы лежал непогребенный и даже не оплаканный еще единственный сын. Его нашли по весне, когда сошел снег, искромсанного, видимо, в предупреждение отцу (или в отместку), но в то время был занят каким-то очень важным соображением по полному искоренению преступного мира с помощью остроумного психологического воздействия с помощью остроумия… В общем, главное – раздавить всякие их о себе воображения: мол, я! я! Я-те и то! я-те и это! раздавить и выдавить всю эту гниль, но не голой силой, а по-умному… так сделать, чтобы они этот гнойник сами себе выдавливали, а здесь лучше всего – смех…
Столкнулся Слепухин в путанице насыщенного майорского соображения и с его женой, которая в основном жила себе отдельно и незамечаемо для мужа в каких-то своих глупостях. После гибели сына майор впервые за несколько десятилетий обратил на жену внимание и занялся ею исключительно из альтруистических соображений, впрочем, эгоизм ему и вовсе был несвойственен. Тогда он устроил ее в лагерную школу преподавать физику (только это место и оказалось свободным, а премудростей для целеустремленной натуры, каковой должна быть жена чекиста, ни в чем особых таких быть не может). Сначала старушка боялась своих учеников как чумы, а потом все больше начала приставать к мужу, уговаривая послаблять им, лопоча что-то о том, как им трудно и какие они жалкие, но майор-то точно понимал, что мрази эти ее попросту запугали. Никакого внимания он на просьбы жены не обращал, да и забыл о ней вскоре, и опять она переселилась в разную свою ерунду, до которой майор и не касался совсем. Беспокоило именно то, что непонятно было – с чего это вдруг жена влезла в мысли и, как ей свойственно, все искомкала? А… вот оно… Тишком вздумала его обойти.
– Надо сообщить на КПП, – захихикал майор, моя дура попрет сегодня две плиты чая, – об этом режимнику сообщили его личные мыши из школы. И, поймав удивительный взгляд хозяина, пояснил: – Ей там в школе какую-то ерунду делали, чинили что-то, вот она и пообещала. В общем, пусть ее обшмонают…
– Смотрю я на тебя, медицина, – хозяин перевел глаза с майора-режимника – в бумаги и оттуда – на майора-медика, – совсем ты у нас бардак развел, – голос его начал вибрировать, угрожая возможным залпом. Что ни день – больше двадцати человек освобождены от работ. Здесь что – санаторий? Здесь что – клиника?!
– Но ведь все по нормам, все по нормам, – зачастил, забеспокоился медик. – Не больше одного процента… ведь у меня – не больше…
– Сморкал я на твои нормы! Ты что, газет не читаешь!? В стране идет революционный подъем… – (погромыхала неприцельная пальба). – Сколько у тебя мест в изоляторе?
– Шесть шконок.
– Вот и все. Шесть человек в день – и все. Кто не может работать – лежат в медсанчасти… А то развел тут… понимаешь… Здесь лагерь, и жрать не работая могут только сторожевые овчарки… и я еще, – хозяин подождал смеха на свою шутку. Потом подождал тишины. – Так-то, медицина…
– Нет, это тебе Васильич правильно указал, – повернулся всем туловищем подполковник. – А то ведь что получается? Человек на воле не может больничный получить, вот дочка моя к примеру – полдня отстояла – так и не дали… А тут – пожалте тебе… чуть болячка и уже – освобождение. У нас в стране как? – толстый обволосенный палец направился в потолок. – У нас кто не работает, тот не ест, так-то – в стране, а здесь и не страна даже, а трудовой, – палец вздернулся выше, – трудовой лагерь. Тут даже если ногу тебе, к примеру, отрубило как-нибудь – ползи все равно на работу, потому что…
– А мне вот мысль пришла, – прервал подполковника режимник. – У тебя, Петрович, они в основном чем болеют?
– Да всем… Ну и много гнойных – витаминов не хватает, вот и получается так: ранка там или что… и гниет, потом и по всему телу…
– Это пустяки: что сгниет, то не сгорит… Я вот думаю, что лечить их всех без разбору нечего. Кто выйдет, тот вылечится… А надо нашему Петровичу повышать свое мастерство и, значит, поднимать авторитет нашего учреждения… В общем, надо ему что-то такое сделать… ну, там сердце пересадить… Ну или еще что… В общем, надо Петровичу подумать над этим…
Слепухин, кружась над беседой, приостановился, вбирая в себя раздергивающегося до жалости майора-медика.
Тот обтирал платком плешивую голову и нутро шапки, стараясь не вздергивать пальцами. На режимника лучше не смотреть. Точно «фронтальная лоботомия». …Петрович вспомнил, что прозвище пошло от этого упрямого дурака – Долотова. А Долотов лежит у него в изоляторе, вчера доставили из ШИЗО после вскрытия вен… И ничего он для него сделать не в силах – сегодня же хозяин погонит обратно в ШИЗО. В подвале, конечно, загниет… Но ведь он ничего сделать не может, у него никакой нет власти… и зря дочка его так… Тоже нашла моду! возомнила про себя черт-те что… Приедет на два дня и ни слова, только книжки и журналы всякие подсовывает… Она, видите ли, его осуждает. Его? Родного отца? А откуда она сама, такая умная и такая хорошая, взялась? На какие такие шиши она все эти новомодные журналы и книги покупает?! И еще всякие подметные и нелегальные книги таскает в дом! Вчера подсунула засаленные листки… «Звезда утренняя, звезда светлая». Теперь ей, значит, такие звезды светят… Дрянь всякую читает и смеет отца родного осуждать!.. А кому-то надо и здесь работать! Да, надо! Кому-то надо, засучив рукава… Господи, доченька моя… ведь я ни на что другое уже не способен… ведь я уже давно и не врач никакой: мой фельдшер больше меня понимает… Куда же я пойду? Где мне еще будут столько платить? Да ты же сама, мерзавка сопливая, без моих денег первая, как подстреленная, закружишь…
Петрович уже плотно закопался в теплых мечтах, в мягком домашнем кресле, среди милых ему филателистических причиндалов перед кипой кляссеров, и это навевало на динамичного Слепухина зевотную скуку. В то же время толстый палец подполковника, колбасно перетянутый дважды тугими складками, сулил не бог весть какое, но развлечение. К сожалению, сам подполковник напрочь забыл, для какой надобности выторкнулся его многозначительный перст.
Слепухин вместе с ним хмуро глянул на режимника, сбившего тонкую мысль своими попрыгуйчатыми фантазиями, потом медленно снял шапку и запустил оставшийся не у дел палец вместе с остальными четырьмя в густую седину. Эта красивая седина была особой гордостью замполита, и мысли его привычно перепрыгнули к сожалению о том, что совершенно несправедливо такое положение вещей, когда полковник обладает папахой, а подполковник вынужден носить позорную шапку. По управлению среди множества разных слухов пробивался и милый сердцу слушок о скором изменении формы, и вот тогда-то, возможно… Ох, уж эти слухи… большинство из них были тревожными и неприятными даже, вернее, непривычными, и замполит побаивался, что окажется не слишком ловким в усвоении этих новых формулировок, и здесь-то на последнем шаге к все той же папахе кто-то более языкастый его успеет обойти… Ведь вся эта шумиха только и устроена языкастыми для более быстрого продвижения…
Тут уж совсем кстати всплыло недавнее раздражение на этого, ну как его… на мразь эту из этого отряда… в общем, на баптиста этого… или не баптиста? вроде какой-то адвентист? В общем, неважно – все они баптисты. И тут же раздражение перекинулось на хозяина: это ведь он приказал со всей религиозной мразью без него ничего не решать – тоже прикладывает свое волосатое ухо к новым слухам… Да не будь приказа этого дурацкого, сидел бы уже поп затруханный на киче…







