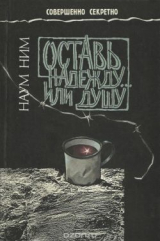
Текст книги "Оставь надежду... или душу"
Автор книги: Наум Ним
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
– Я-то понимаю, а гражданин Долотов никак понять не может.
– Так объясни ему, объясни.
– В нашей стране, гражданин Долотов, права нерасторжимо связаны с обязанностями, с высокой ответственностью. Если партия дала право свободно говорить, это значит, что каждый должен сознавать ответственность за свои слова…
– Ты понял, Долотов?.. Дошло до тебя? А то ведь что получается: им разрешили самим думать даже, а они думают не так, как мы?..
– Вам бы в ту же «Литературку» писать, на 16-ю полосу, – озолотились бы…
– Ах ты, мразь вонючая! Мы, значит, два заслуженных человека, с ним – по-дружески, а он, паук смердячий, все уколоть норовит.
– Стыдитесь, гражданин Долотов, – вам полковник в отцы годится…
– Ну уж нет… в отцы он мне – не годится.
– Ма-алчать, мразь!!!
– Не напрягайся – соплей захлебнешься, отец хренов!.. Да я бы тебя и петухом своим не взял, долбить побрезгал бы… но отдолбят… отдолбят…
– Авввва-авввааагззза-аууууббль-яаааа-зи-ааабль-яяааа…
Ужавшийся Слепухин, как ни отгораживался, долго еще слышал не складывающиеся в слова звуки, возню и шумное дыхание, затухающую спираль вертлявого топотания по коридору со все возрастающим по мере удаления количеством ног и голосов…
На столике жалко съежился углами тот же листок с прежним текстом: никак не мог Слепухин текст тот подписать, все внутри вздыбливалось иголками, и лихорадочно искал исхлестанный услышанным слепухинский ум приемлемого выхода.
Слепухин замазал строку на листке, будто вымарал ее заодно из своей памяти, и написал наново: «В настоящее время претензий к администрации не имею»; его особенно обрадовало это вот умненько вставленное «в настоящее время» – любой догадается, что это значит, и действительно: именно сейчас, 31-го января (Слепухин поставил число), никаких претензий у него нет, что совсем не значит, будто их не было вчера или не будет завтра… Обнаглев от собственной ловкой изворотливости, помогшей ему с таким вот прозрачным намеком вывернуть требуемое начальству совсем в другую сторону… осмелев при этом, Слепухин уже ниже даты быстро написал: «А нормы питания надо заново пересмотреть и баню надо – совсем мыться негде». Не перечитывая вторично, чтобы не утонуть среди соображений – как все же лучше написать? надо ли так или умнее без этого? – Слепухин быстро расчеркнул свой красивый автограф и сложил лист вдвое…
– А-а, это ты здесь? – в открытой двери стоял прокурор и морщился, морщился, не переставая. – Я про тебя что-то совсем забыл… Ну ладно – написал? Давай.
Слепухин переминался, готовый сорваться с места по первому же взморгу прокурора и исчезнуть отсюда, а прокурор все выше вздымал брови, читая объяснительную.
Увидев эти ползущие по лбу брови, Слепухин ухнул в яму… Теперь все, теперь закроют, сволочи… Но тут же всколыхнулись, суматошно крутясь, сожаления вперемешку с надеждами, не давая успокоиться хотя бы на осознании, что все уже неважно, что все – в подвал теперь… Эх, надо было, если так, врезать им похлеще… Но, может, и обойдется еще… может, и ничего еще по сравнению с тем, что Максим намел тут?..
Прокурор укладывал бумажки и напяливал шинель, закончив, по-видимому, свою работу совсем, а Слепухин все маялся, все перекручивался, пытаясь угадать свою судьбу… Так он и кипел, пока шел впереди прокурора в дежурную часть, ничего почти не замечая вокруг, отхватывая от окружающего случайные огрызочки да и отбрасывая даже их напрочь, если никак не касались они его колготения.
Успел махнуть рукой Славику, выбегавшему вдогонку остальным из столовой (значит, сразу же узнает Квадрат и подогреет его на киче… а может, еще и в отряд отпустят? Лишат ларька – отпустят? Нет, ларька уже лишен… Тогда свидания или посылки… черт, тоже ведь лишен уже… Тогда – просто посмеются и отпустят…) Конечно же, Слепухин определил, что стемнело давно и съем прошел без него, и вот даже ужин прошел, но только и осознал, остался без ужина и если теперь еще на кичу – совсем худо… Но не может быть, чтобы так вот подряд на него повалила вдруг непруха… И упущенный ужин представлялся уже залогом того, что дальше все наладится…
Исхитриться бы сигареты распотрошить незаметно… только все равно вытряхнут… если бы табачок в торпеду заделать… нет, не выйдет – караулят, волки, и глаз уже не спустят…
Таким вдрызг раздерганным в кипении предположений и опасений он и был доставлен прокурором в дежурную часть и остался там стоять, пока все вокруг занимались своей суетой и своими заботами.
Вошел отрядник, и этот уже точно по его душу… это он только вид делает, что занят чем-то, а сам-то глазом косит, псина… Что же долго так! быстрее бы!.. а может, и лучше, что долго… хозяин уйдет, а без него кто же постановление подпишет на кичу?.. Ерунда – посадят по временному до понедельника, а утречком – к хозяину, он в таких делах никогда не отказывает, подпишет не глядя… а временную постановуху ДПНК подмахнет – и всех делов… Зачем надо было приписывать про столовую и про баню?.. Тогда лучше бы – выговорить им сразу все, что на душе…
В дежурке стало тихо, и Слепухин собрался сразу же в тугой узел, но тишина, оказывается, никакого к нему отношения не имела – ДПНК передавал по рации гору цифр и из-за плохой связи то и дело начинал переходить на имена, передавая цифры… Невольно Слепухин усмехнулся идиотской игре в секретность: именами передавать сводку за прошедший день… любой придурок знает, что имена эти обозначают, но вот ведь – играются в свои игрушки… Слепухин мимолетно сожальнул, что не расслышал, сколько на сегодняшний день сидит в ШИЗО, и тут же забыл, отфутболился от сводки этой, осознав, что уже ведь пересменка прошла, уже и осталось вот столько же потерпеть и – отбой… если не вспомнят до отбоя, точно отпустят…
Дежурка снова опустела – только Боря-отрядный пыхтел за столом… Вот сейчас бы начал Боря с ним разбираться – все бы и уладилось без свидетелей, заговорил бы его. Это он мне – «бледво»? Ну, метла поганая… впрочем, сейчас лучше не залупаться. «Я не бледво», – буркнул Слепухин. Заявился режимник и приволок петуха какого-то… От этого лучше подальше – с режимником только свяжись – моргнуть не успеешь, как в подвале, даже если и просто случайно столкнулся нос к носу, а тут, уже приведенный в дежурку… тут ловить нечего, если упрется в тебя, если не загорится чем-нибудь поинтересней… Что-то долго они с петухом разбираются… Эх, петушок – попал к дедушке, считай, откукарекался… Да они его со жратвой поймали, вон сколько жареных ушей выгребли… а что это еще там? неужто кабанячьи причиндалы? похоже на то… теперь петуху хана, теперь его надолго умнут. Отпустили!.. Ну, может, у дедушки день рождения сегодня? Может, и Слепухина отпустит… что он, псина, вячет там?.. ишь, пузыри выплескиваются… Что это он мне сует? Да он мне охмырки эти кабаньи сует! Он мне зашквариться предлагает петушачьей хавкой, да еще не ушами даже, а этой гадостной кишкой?! Отпустит он, видишь ли, потом… Потом уже не надо – ничего не надо… Ах ты, псина!.. Вот этот невесть чей охмырок пососать в его удовольствие?!
– Возьми сам у меня пососи, оглобля червивая!.. На, почамкай – понравится ведь… ты ж – питух прирожденный!..
Ничего больше Слепухин сказать не успел и теперь только уворачивался от замахов со всех сторон набежавших собак. Прикладывались слегка только, пугая, не решаясь на глазах друг у друга… На глазах было непривычно, и тогда только захватывало сладостно, если из начальства кто подавал пример, а так вот по своей инициативе, да под начальственным приглядом, не увлекался никто.
Слепухин уже не бурлил, не изводил себя попыткой обмануть свою долю, и сразу же пропало изнеможение его, до которого он себя же и довел в сумасшедших круговых верчениях по карусели: жаль – надо бы – жаль – надо бы… И подвал не вселял дрожь, став абсолютно неотвратимым и поэтому вполне годящимся поворотом жизни… (Славик видел, Квадрат подогреет – пробьемся…) Даже удивительно, как он еще несколько минут назад отбивал от себя одну только мысль о подвале, зажмуриваясь как дите, готовый поверить в любое немыслимое чудо быстрее, чем смириться с неизбежным и как следует к неизбежному подготовиться… (ведь мог бы как-нибудь затариться табачком…).
Его вели уже двое солдат по вечерне обезлюдевшей зоне к грубо оштукатуренному высокому зданию, именовавшемуся, несмотря на свою высоту, подвалом, потому что подвалом оно и было (хозяевы псы из-за высоты постройки нарекли ее спортзалом). Слепухин хоть и пытался унять дрожь, но это уже не было дрожью страха, а вполне естественная реакция на холод, только сейчас наново замеченный, и на схлынувшее возбуждение, под которым он уже столько времени промучился на вздерге весь…
Впереди поскрипывал ДПНК, покручивая на пальце здоровенный ключ, которому вполне подошло бы с его размерами играть роль золотого ключика в одноименном спектакле… Слепухин ухмылялся и умудрился даже выискать замечательный повод для абсолютного довольства собой: хорошо, что не горбатился он вчера на стирку… вот обидно бы было сейчас сознавать, что столько сил – коту под хвост… Удача, стало быть, ничуть не ничуть не оставила его…
Вслед за ДПНК, опережая солдат, Слепухин пригнулся, проходя в низковатый, но зато очень толстый проем открытой двери (запоры, как на сейфе). Потом вереницей прошли они по длинному коридору или даже железному прямоугольному желобу (прямая кишка подвала), еще одна дверь – решетчатая, десять ступеней вниз, и перед Слепухиным вывернул коридор с дверями камер друг против друга – на сколько хватало глаз, все чернели впереди пятна дверей на серой штукатурке льнущих одна к другой стен.
Первая дверь налево, и Слепухин вместе с сопровождающими его лицами оказался в дежурке подвала, хотя сама-то дверь угрожала схватить их безысходностью камеры. Две хаты самых крайних были переделаны из камер в дежурку и в комнату местных шнырей (почему-то проектировщики спортзала этих важных объектов не предусмотрели). Хоть и прошло много времени от виртуозного залета Слепухина сюда, сразу по этапу, но все вспоминалось незамедлительно, вровень с каждым здесь шагом, и Слепухин осматривался хозяйски даже, будто после долгой отлучки завернул случайно домой… А может, так и есть? Все верчения там за порогом этого мощного строения – не попытка ли это во что бы то ни стало обмануть судьбу? извернуться, исхитриться и ускользнуть в чужую жизнь? Сейчас Слепухину было стыдно за те свои извивы у прокурора, и за те, что внутри, которые никто, кроме самого Слепухина, не видел, за то, что каждое ускользание требовало от него так много подлости… да-да, при всей разумности и, может, полезности изворотов этих – никогда они не обходились без подлости, без гниловатой лжи, без истаптывания себя же во всех этих изворотах… Сейчас все скользенькое и лишнее разбилось о толстенные стены лагерной тюрьмы, и очищенный, Слепухин был полностью готов ко встрече со своим домом и своей судьбой… Настолько готов, что даже снизошел скользнуть иронически снисходительной мыслью по оставшемуся за порогом человечеству, посочувствовав им всем, до сих пор извивающимся, обманывающим себя и пляшущим изгибами своими на потеху разномастным псам… посожалев всем, не определившимся еще к своему дому…
Именно в этот момент цельное его существо начали издергивать и разделывать во имя исполнения какой-то там инструкции, детально регламентирующий порядок водворения в штрафной изолятор каждой попавшей сюда мрази.
Однако все участники этой важной операции упомянутую инструкцию знали только в общих чертах и зияющие пробелы наполняли собственным разумением, более всего спеша побыстрее разделаться с лишней докукой. Тормозил их единственно этот доходяга, которого требовалось принять, оформить и определить к месту, а главное – заставить шевелиться побыстрее. Завертелся такой же, как и всюду, размолот, и снова приходилось угадывать, схватчиво оберегаясь от лишних напастей. Опять надо было крутиться в извивах, и начавшаяся только что заново жизнь снова взблескивала знакомыми уже гранями.
Но одновременно с каждым мгновением захватывало Слепухина и новенькое ощущение. Сквозным продувом подергивало каждую жилочку, невесомостью страшноватой свободы, напором разрушительной независимости ото всех и от всего. Не надо больше цепляться последними силами жизни за ломкие и коварные соломинки, не надо карабкаться по ним к разным глупым мечтаниям, не надо в цепляниях этих выворачивать пальцы и душу, не надо больше ничего. Нет ничего, за что стоило бы болеть душой и колготиться в страхе навредить. Ни гроша не стоят привязанности, желания и стремления, если они оказались бессильными удержать Слепухина в своей паутине. Он ухнул камнем – и лучше грохнется в разнос, чем подвиснет опять на плевочной паутинке какой-нибудь надежды. Не надо больше ублажать своенравную судьбу (взбалмошную паскуду, капризную фортуну, слепую дуру) – не глянулся ей Слепухин, и к черту ее. Хуже не будет! Хуже не бывает, и поэтому Слепухин свободен наконец от любых долгов и от любых обязанностей. Не надо испытывать благодарности к рыжему прапору, подогнавшему как-то плиту чая, и можно весело порыкивать на него. И ни черта они ему не сделают. Нечем его уже ущемить или обделить. Убьют? Так и это не страшно, и даже лихо было бы глянуть на такую потеху. Пусть только тронет кто – достаточно любому глотку перекусить, так остальные сами уделаются от страха. Они еще карабкаются, каждый к своему кусочку, им еще много хочется разных крошечек, им много надо еще, а Слепухину не надо ничего. Самой жизни не надо, потому что какая же здесь жизнь? А вздергиваться на манок укутанного в неразличимый туман будущего! – ищите дураков! прободаешь туман этот башкой и – новая каменная стена упрется в лоб… Слепухин ухнул камнем и, не отвлекаясь воплями, летел свободно и грозно, заставляя псов увертывать свои головы. Никакой приманкой нельзя было его уже подсечь, и воющий свободный продув выбивался наружу подрагиванием пальцев и веселой злобой ничем не передавленной гортани.
– Ты, псина, замахнешься сейчас у меня! Я и под вышак пойду, но кадык тебе выкушу, вонючка поганая. А ты там, Дэпэнка, что за холуями своими не следишь? Службу не знаешь?! Что ты мне можешь сделать!?
Слепухин стоял голышом на бетонном полу и лаялся заливисто, поторапливая шмонающих его одежду солдат.
– А вот приседать я перед вами не обязан. Раздеться обязан, а приседать – оботретесь. Вам надо у меня в заднице пошмонать – шмонайте, а сам я для вас ее выворачивать не обязан.
Ничего удивительно не было в том, что звериную собранность зека перед прыжком почувствовали все здесь. Ничем не могли они прищемить Слепухина, и не потому вовсе, что не было ничего такого, что похуже нынешнего его положения, чем нельзя было бы пугануть, добиваясь необходимого послушания, – много еще есть разного у живого человека, требующего защиты и обережения, за многое еще можно потянуть и покрутить, выворачивая в покорного червя. Однако для этого как минимум требуется, чтобы и сам человек знал об этом, и сам чувствовал незащищенное, болея им и боясь за него. Слепухин же, упустив себя в ошалелый разброс, не видел мутными глазами ничего стоящего защиты и сохранения, и, значит, так все сразу выворачивалось, что ничего такого и не оказывалось, за что могли бы притянуть его в былую покорность. А не имея таких поводьев, псы посматривали на доходягу с робостью и даже с почтением. Главное – согласиться подохнуть! всерьез согласиться, без блефа, и тогда – лети свободно страшным камнем, лети в разнос!
А порядки в подвале изменились неузнаваемо. Теперь здесь из своего оставляли только трусы да носки, и то если носки не теплые. Сверху выдавали драный комбинезон из тонюсенькой тряпки и деревянные шлепанцы. Слепухин пособачился еще за теплое белье, которое именно сейчас уворачивал шнырь вместе с остальными сдернутыми с тела шмотками в грязную телогрейку. Пособачился, чтобы только не молчать в овечьей покорности и безответственности.
– Эй, Дэпэнка, заставь обезьян своих сверток надписать – потом концов не сыщешь. Думаешь, не знаю, зачем сдернули все? Знаю – себе барахлишко присмотрели. Вы же чертеней всех чертей зоны, вам не скрысить хоть что – все равно что не жить. Теплухи всегда на киче отдавались. Вас за эту самодеятельность отдолбят еще всех, питухи конченые…
Слепухин все еще стоял голышом, ожидая, пока прапор из подвального наряда вернет трусы.
– Ты их пожуй еще, ищейка куцая… Эй, псина, щупать щупай себе, а рвать не смей… Что ты можешь, недоношенный?.. Рапорт нарисовать? Рисуй… Можешь вдобавок и отсосать… Попробуй, одень только наручники свои! В браслеты закоцывают с ведома хозяина, а хозяин уже дома водку хлещет!..
Напрасно вскручивал себя Слепухин в пружинистый прыжок – не зацепилась звериная ярость ничем и клокотала нерастраченно длинным переходом к двери камеры. 0–6… шестерка… поганая цифра… неважно…
Отгрохнулась тяжелая дверь, и в ярком свете за второй решетчатой дверью качнулись к выходу не менее десяти лиц, вроде бы смазанных в одинаковую неотличимость друг от друга голубоватой пеленой разлагающего безумия.
– Подай назад! Назад, мрази! – загавкал прапор, тарабаня тяжелым ключом по решетчатой двери.
Пятна лиц подались назад, прапор приоткрыл решетку, и тут же загремели засовы одной и другой двери за переступившим порог камеры Слепухиным.
Как удивился было Слепухин в первый раз, попав сюда, так же и сейчас с той же непривычностью ощупывал он глазами несуразную постройку. Хата более всего напоминала длинную узкую щель в ширину двери, а из-за непостижимой высоты казалась щелью между двумя высоченными домами. На уровне потолка коридора сверху камеры ажурным пледом паутинился решетчатый потолок из железных прутьев, а метра на три выше поблескивали инеем на стыках бетонные перекрытия. Коридорный потолок был одновременно полом галереи, на которой прохаживались укутанные в тулупы солдаты, поглядывая через мутные витринные стекла и решетчатый потолок вниз в камеру. По длине камера-щель была не более четырех метров, и как здесь существовало 11 человек, было непостижимо. Откинутые на ночь нары (значит, отбой прошел уже) почти полностью перегораживали камеру по ширине, оставляя свободным пятачок двери с вонючим толканом сбоку. Сами нары могла дать пристанище восьмерым, и то если лежать по два, оставшимся троим и Слепухину предстояло ютиться то ли под нарами, то ли сбоку от них, то ли у толкана самого, если не на нем.
– Покурить хочешь? – перед Слепухиным приплясывал оглоблистый мужик, высовываясь желтыми мослами из рукавов и штанов комбинезона. – На, покури. – Он протягивал в лицо Слепухину плотно сжатые отдельно от стиснутого кулака средний и указательный пальцы…
– Сам кури, – отстранил от себя желтую клешню Слепухин. Мужик подмигнул, дернулся, приложил пальцы к губам и сильно втянул воздух, закатывая глаза до выворачивания белков, потом выдохнул парком над собой.
– Ты Квадратов новый семейник? – оттолкнул курильщика нахохленный кавказец. – Иди сюда, на нары…
Слепухин пробрался к дальней стене, подернутой клином серебристой наледи от высоко угнездившегося окошка чуть ли не до самого пола. Вокруг шевелились, вздыхали, шептали проклятия, устраивались, затихая, и снова погружались в оцепенелое движение угрюмые сокамерники. Однако все шевеления и все проклятия ни на децибел не нарушали звонкой тишины, сразу же облепившей Слепухина зябким охватом.
– Будем спать? – спросил Слепухин кавказца, с трудом вспоминая его лицо, мелькавшее где-то в соседней локалке.
– Спать, наверное, не получится – опять отопление выключили. Десять минут лежишь и двадцать крутишься по хате, отогреваясь, – так и ночь проживешь. Утром, после подъема и до прихода наряда со шмоном, часа на два вон ту трубу подогреют слегка. Вот на ней сидя, с утра, может, и повезет незаметно покемарить… (По стене с окном внизу тянулась ржавая труба, просверливая своим ходом насквозь все камеры подряд).
Слепухин без особого любопытства поглядывал с нар на пятна лиц, плывущие вокруг в бесполезных поисках удобного места. Из своего отряда никого не оказалось, а из знакомых углядел одного молоденького баптиста, чье лицо покачивалось голубоватым пятном в такт шевелению губ.
Кавказец выкарабкался из закутка и среди чуть потеснившихся призраков начал быстро приседать, выборматывал гортанные звуки, которые лопались пузырями у него на губах и вокруг, и по этим пузырям можно было догадаться, какими словами нужно переводить на русский язык чужую речь.
Склепяная стылость ухватила Слепухина в немеющее объятие, пробираясь вглубь, поцапывая уже мерзлыми пальцами за самое сердце, и на эти прикосновения тело отзывалось дрожью вдоль всей спины до ломкой боли в затылке. Слепухин пробовал вспенить замерзшую ярость, разогнать жилами горячую злость, но напрасно выдавливал боль стиснутыми зубами – недавний еще, всего его сжигающий тугой огонь не вздувался из замороченной стынью души – только похрустывало льдинками на висках и покалывало в позвоночнике холодным же ужасом: здесь пятнашку не выжить… да какая там пятнашка? – ночь эту пережить немыслимо…
Хоть бы не было этих железных полос, скрепляющих поперек истертые доски нар… Пристроиться так, чтобы стылое железо не вламывалось в тело, не получалось никак, а именно из тех мест, где слепухинские кости болюче втыкались в металл, и начинала вибрировать волна дрожи, расползаясь по всем направлениям. Впрочем, может, дрожь жила в самом металле?.. в самом слове «металл»?.. Хоть бы не выламывало кости об это железье!.. Как ни повернись, железные полосы опять принимаются выгибать кости внутрь, стараясь ими же пропороть дрожащее уже непрерывно тело.
Потом были и приседания, и кручение, и даже прыжки были испробованы, но это упражнение оказалось попросту не под силу. Слепухин замороченно торкался на маленьком кусочке свободного пространства, налетал плечом на стену или на нары и после этого несколько оживал, если, конечно, острое ощущение невозможности жить можно назвать оживанием… Он быстро изнемог и временами осознавал, что вроде бы даже спит, по крайней мере, на какое-то мгновенье исчезали уродливые стены и появлялись снова, ощутимо врезаясь в плечо. Неожиданная волна дрожи, поднявшись от коленей к затылку, оказалась последней – не была настигнута следующей волной, и Слепухин замер у стены. Слабые его колени подогнулись, и он сполз по стене спиной, сложившись между своих же колен, приникнув грудью к ногам и упрятывая мерзнущую макушку под широкие ладони. Почему так мерзнет голова? чему там мерзнуть? Наверное, для этого и стригут наголо…
Потом опять приседания, возвращающая в мерзлую явь боль в плече и снова мгновенное провальное затишье на корточках с напрасными усилиями ладоней разогнать ломкую боль в голове, стянутой мерзлым обручем кожи.
Главное – дотянуть до утра, до подъема. Если и не включат отопление, то уж шлюмка кипятка точно будет и можно будет отогреть ладони, а потом теплыми ладонями разморозить голову. Квадрат должен к утру раскрутиться и подогнать курева… Только до утра дожить, а там отдышимся. Не может быть такого, чтобы здесь каждую ночь подобный беспредел учиняли. Видимо, это специально для него, для Слепухина – обозлились, волки, вот и крутят его…
Удивительным образом последнее соображение подействовало успокаивающе и чуть ли не радостно. Довел он все-таки этих псов, не согнулся покорно – вот они и мнут его, вот и выдумывают для него мучение. Главное – выдержать, показать себя, не распластаться, не заканючить жалобно им на радость – тогда и отступят… Узнать бы: сколько осталось до подъема – тогда можно бы занять себя счетом. Впрочем, можно и так – один, два, три – только не спешить – семь, восемь – до трех тысяч с половиной досчитал, и час прошел – семнадцать, восемнадцать – нет, на час надо три тысячи шестьсот…
Слепухин сбился и начал наново, потом еще сбился и еще…
…Так вот и кончишься здесь, а все равно – все у них будет по закону. Этого бы козляру-прокурора сюда засадить – он бы сходу допер, что такое его закон. Придумали себе, сучары, забор с надписью «закон» и щелкают вокруг бичами, а то, что за забором этим холодильник фурычит, где людей вымораживают в безжизненные туши, – им и дела нет. Того даже не понимают, что заглот холодильника этого ненасытен – ему только дай, ему лишь не вхолостую леденить. Иногда и за забор лютостью дохнет, так они там досочки подправлять и подкрашивать начинают и все шамкают, козлы вонючие: «закон-закон», а додуматься сломать к чертям морозильник этот никак не решатся, сами понимают, что он уже ими не управляем, что уже он главное, а они все только прислужниками его… Самих уже изредка глотает, и тогда все одно шаманят, глазки закатывая, скребутся тихонечко: «разрешите-извините мне лично, говнючку такому-то наружу выйти» – у-у, пидерюги! Хватило бы и забора одного, за глаза хватило бы – зачем же внутри такое еще соорудилось?!
Слепухин представил, что он не просто мучается здесь, а выполняет задание особой важности. Ему специально придумали все его дело и запустили внутрь чудовищной молотилки, чтобы он все здесь разузнал и рассказал потом правду об этом уродливом мире. Он без труда перенесся в то будущее, когда, выполнив опасное задание, он в силе своего опыта и знания вступит в единоборство с механизированным взбесившимся чудищем. Без труда Слепухин отыскал фальшивый фасад с громадными колоннами и парящим вверху гербом. По высоким ступеням поднимался сплошной поток людей, исчезая в распахе мощных дверей. Ниже, перед ступенями, колыхалась толпа, не особенно сознавая, что именно из нее и питается неиссякаемая лента тел, ползущая по ступеням между колоннами. «Закон превыше всего», – прошамкал дряхлый старикашка, ловко уворачивая в сторону от водоворотного верчения рядом. Именно этим верчением и начиналась людская река к ступеням, а старикан увертливо держался на краю водоворота, одновременно подталкивая, будто бы невзначай, менее вертких в воронку, орудуя роскошной тростью с изумительным проворством.
– Вы ничего не понимаете, – пробился Слепухин к старикану, хватая его за многочисленные орденские планки. – Там сумасшедшее чудище измочаливает всех людей в отбросы.
– Проспитесь, молодой человек. Все эти люди социально опасны, и гуманный советский закон изолирует общество от них для их же пользы.
– Туда нельзя… там страшный мир…
– Не смейте очернять нашу прекрасную действительность. Всем известно гуманное отношение советского государства к народу, и, даже изолируя преступников, мы имеем целью не наказание ради наказания, а перевоспитание для возвращения их в общество полноценными…
– Посмотрите на того вон – там, левее… он ведь здесь по ошибке… он не опасен…
– Если вышла ошибка, то рано или поздно ее исправят. Ошибки бывают всегда, и нельзя из-за отдельных ошибок… Его освободят…
– Освободят не его а отруби, в которые он превратится! И вон еще один, и еще… Все это надо немедленно остановить!
– Они идут по закону, а если закон ошибся, они по закону выйдут обратно.
– Откуда выйдут?
– Вот вы не знаете, а кричите. Сбоку этого строения есть дырочка… Вы посмотрите внимательно – вот один гражданин…
– Он уже не гражданин – граждане не ползают так низко, а если ползают, то глазами так не сверкают при этом. Он опасный ядовитый слизняк…
– Глупости говорите, молодой человек. Это или ошибка ваша, или даже похуже… Уверяю вас – им там хорошо.
– Тебе бы так, старый хрен! Там они попадают прямо в пасть взбесившейся косторубки – понимаешь ты это или нет?!
– Я не допущу!.. Я не позволю никому пачкать грязью…
Старикан неуловимыми манипуляциями с тростью подтолкнул Слепухина в водоворотный заглот перед ступенями, и того понесло неодолимым течением к темному распаху дверей. Судорожным оглядом Слепухин злорадно заметил, что и сам старикан не увернулся и утягивается следом, жалко разевая изморщенный рот. «Убедительно прошу пересмотреть… уважение к закону… превыше всего… прошу не отказать в моей просьбе… заслуживаю снисхождения… обязуюсь всемерно содействовать…»
Дверь и на самом деле оказалась фальшивой, потому что сразу за ней ослепило ледяной пустыней в переплете колючки и понесло с ускоренной силой к невидимому еще, но все более ощутимому равномерному грохоту. Слепухин весь колотился мелкой дрожью, нелепо отодвигая от себя знание про невыносимый уже грохот. Механический монстр, закрученный неведомо когда сумасшедшими умельцами на вечную жизнь, требовал своей пищи. Красивый фасад, сияющий герб, порожняковые словеса – все это придумано тем же монстром для бесперебойности пережева. Вывернулся зеленый, в блестках инея бок чудища, и муравьиный людской поток забурлил мелкими водоворотиками. Мастодонт требовал не только пережевного материала, но еще и разнообразнейшего ухода, и ловкие муравьишки выкручивались из неуклонного движения к грохочущим челюстям, выпрыгивали и вытанцовывали, демонстрируя любовь к чудищу и страстное желание ему служить. Давешний старикашка с умилением поглаживал зеленую тушу, успевая при этом с восхитительным проворством отгонять остальных, норовящих приникнуть к тому же боку со своей преданностью и своей признательностью. Старикан заметил Слепухина и его попытки выскользнуть в сторону, но, и рискуя быть смытым с безопасного своего островка, все же дотянулся до Слепухина изогнутым концом трости, заталкивая того в самую стремнину неодолимого течения. Ярко-красный рельс пасти чудища взмахнул над Слепухиным, и размывающиеся ужасом глаза ухватили последнее – прямо в распахнутой пасти щерилось: «Тебя обнимут дети и жена, когда искупишь ты вину сполна, когда самоотверженным трудом заслужишь право ты вернуться в дом, чтобы свою жену опять обнять, режим ты должен строго соблюдать!» Потом на голову обрушился слепящий грохот…
Слепухин прислушался к слабым ударам прямо возле уха. Струящиеся вокруг тени тоже остановили свое верчение, выворачивая головы к ритмичному колочению. Слепухин с некоторым удивлением осознал, что все это время вокруг него в том же полубреду, что и он, крутились замороженные до полного безмолвия жизни… Ему-то, Слепухину, легче: он знает, что все нынешние мучения вызваны им, его строптивостью, его неуступчивостью, а они-то и вообще зазря сходят тут с ума…
– Ответь, там кабура рядом, – выпустил в Слепухина замерзающие в сосульки слова угловатистый парень. Сам он сидел на краю нар, обняв длинными руками себя же так, что казалось, будто руки ему удалось сцепить на спине. При этом он раскачивался вперед-назад и при каждом движении чуть ли не тыкался в макушку сидящего на корточках Слепухина.







